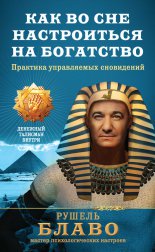Уйти от себя… Незнанский Фридрих

– Ты поосторожнее с такими крепкими выражениями, – доброжелательно посоветовал Петр. – Я-то ничего не скажу. А ну как при Ирине сорвешься? По мозгам получишь. Тебе это надо?
– Мне надо, чтобы она не рыдала в трубку. Она сейчас такая несчастная, что мне, ей-богу, ее жалко.
– Да ну? – немного иронично переспросил Петр. Мол, мог бы и не божиться, давно уже витает подозрение, что Антон неровно дышит к Ирине.
– Не понял?! – В голосе Антона прозвучала угроза.
Петр поднял обе руки и миролюбиво произнес:
– Антон, я тут ни при чем. Вы там сами разбирайтесь, ладно? Ты только со мной не делай так, чтобы я случайно нарвался на твой кулак. Мне тут поле боя ни к чему. Я бьюсь над другой задачей – грабителей ищу.
Антон как-то разом увял и пригорюнился. Посидел на стуле, помолчал, похрустел пальцами. Потом решительно вскочил:
– Все, хватит рассиживаться. Еду в «Глорию». Может, Сашка действительно загулял, сволочь такая… А у меня из-за него работоспособность понизилась.
– Правильно, иди работай. И людям дай поработать.
Щеткин выпроводил Антона и опять уткнулся в бумаги. Слово «замки» подсказало его мысли нужное направление. Во-первых, необходимо выяснить, когда ставились стальные двери во всех четырех случаях. Во-вторых, какой фирме делались заказы. В-третьих, вырезать замки из этих дверей и вместе с ключами хозяев послать на экспертизу. Может, на каких-то ключах остались следы пластилина или гипса.
Щеткин довольно потер руки. Он не сомневался, что в скором времени получит очень ценную информацию.
4
Любка всю ночь не отпускала от себя Казачка, как она нежно называла своего непостоянного любовника. То есть для нее он был постоянный, но она для него – увы… В любой момент он мог сорваться с места и уехать так же неожиданно, как и появился на ее горизонте. И Любка это знала, но мирилась. Такая ей выпала планида. У ее подружек – Надюхи и Варьки – хахали были постоянные. Но она бы не променяла своего Казачка ни на одного из них. Те грубые, неотесанные, стригутся раз в полгода, моются и того реже. Как скинут свои кирзовые сапоги – хоть беги из общаги. А девкам хоть бы хны, рады, что хоть такие есть. Те, что получше, уже давно разобраны. А эти разрешают своим подружкам порыться в маленьких холщовых мешочках, у девок на лице тогда такое блаженство, как будто они сейчас испытают райское наслаждение. И ведь испытывают! Когда Мишка да Серега отсыпят им в ладонь мельчайший золотой песок, девчонки готовы обцеловать их с ног до головы. Этих грязных и небритых золотоискателей, от которых Любка побрезговала бы даже крупинку взять. Из их заскорузлых ладоней, куда грязь въелась на века, и никакой отбеливающий стиральный порошок не в состоянии ее вывести, не говоря уже об обычном хозяйственном мыле.
Казачок был справненький, от него всегда приятно пахло хорошим мылом, волосы расчесаны на косой пробор. Руки небольшие, всегда чистые, пальцы длинные, тонкие, как у музыканта. От одного пальца, правда, мало что осталось. Но это его ничуть не портило, наоборот, отсутствие пальца придавало ему ореол таинственности. Какая-то тайна была у Казачка, но он ее не раскрывал, а только улыбался в ответ на все расспросы.
На заре своей счастливой школьной юности Любка ходила в музыкальную школу и была влюблена в своего учителя Леонида Эдуардовича. У него были такие же изящные руки с длинными, тонкими пальцами. И когда он однажды положил на ее пряменькую спинку свою горячую руку, внизу живота у нее сладко заныло. В тот момент Любка поняла, что пошла бы за своим учителем куда угодно. Хоть ночью в пустынный парк через дорогу, где, слышала, уединялись влюбленные парочки. Название у парка было соответствующее – молодежь называла его Парком незаконнорожденных. Но он не позвал. Посмотрел в ее широко распахнутые глаза своими горящими черными глазами, словно в самую душу проник, и велел дальше играть эту чертову «Сарабанду». Ей было четырнадцать лет, и предстоял выпускной экзамен. После этого жгучего момента, который всколыхнул ее естество, как ни бросала она на него томные, красноречивые взгляды, как бы ни касалась, словно невзначай, его рук, когда он поправлял ее пальцы на клавиатуре пианино, он только молча смотрел на нее, а внизу живота ныло и ныло. Однажды после урока, когда она в который раз вперилась в его глаза, изнемогая от непонятного томления, он внезапно охрипшим голосом предложил проводить ее домой. Поздно, дескать, ночь на дворе, мало ли кто может привязаться к одинокой девочке. Был восьмой час вечера, но в октябре в это время уже совсем темно. В подъезде дома обнял ее учитель, положил свою горячую руку на ее грудь, и она чуть не умерла от наслаждения. Внутри, где-то у сердца, как будто полыхал огонь. А когда его горячие влажные губы жадно закрыли ее обветренный ротик, она обмякла в его объятиях и тихо стала сползать по стеночке. Но тут эта чертова соседка тетка Аня из подвала поднималась, картошку тащила в корзинке. Приспичило ей на ночь глядя за картошкой переться. Увидела, конечно, и Любку, и ее сорокалетнего кавалера и даже заметила, как он оторвался от ее лица и руку резво отдернул от девчоночьей груди. Хотя лампочка на первом этаже давно перегорела, и свет едва проникал с площадки второго этажа… Тетка Аня остолбенела и даже слова не смогла выдавить. А Леонид Эдуардович, растерявшись только на мгновение, заторопился домой, наскоро попрощавшись. Любка, напуганная, прошмыгнула мимо соседки в свою квартиру и всю ночь не могла уснуть. Она вновь переживала момент сладостного ощущения от прикосновения руки учителя и настоящего, взрослого поцелуя. До сих пор у нее был совсем небольшой опыт поцелуев, мальчишеских и слюнявых, с одноклассниками на школьных дискотеках. Но радость от испытанного блаженства тут же сменилась ужасом перед неизбежным разоблачением. Соседка ни за что молчать не станет, доложит родителям, да еще и приукрасит.
Маманя, конечно, уже на следующий день устроила жуткий разнос. Хорошо, отца не было дома. А то не пережила бы Любаня такого позора. Мать налупцевала дочку мокрым полотенцем, истерично выкрикивая, что не для того они с отцом корячатся на стройках, раствор на себе на десятый этаж таскают, здоровье свое гробят на лютых морозах, чтобы ее дочка заводила шашни с преподавателем музыки, который ей в отцы годится.
– А ты занимаешься развратом вместо того, чтобы закончить музыкальную школу на отлично и поступить в музучилище! Или тебе тоже хочется всю свою жизнь на стройке горбатиться да по больницам лежать – то почки лечить, то радикулит?! А если я тебя, сучка, к врачу поведу и он мне скажет, что ты, проститутка сопливая, уже переспала с этим старым козлом – и тебя задушу, и ему морду кислотой попорчу! Пускай его жена любуется, какого урода на своей груди пригрела…
Любаня до смерти испугалась материных угроз, умоляла сводить ее к врачу, и мать после этих слов как-то успокоилась. Еще не все потеряно. Не успел еще этот хренов пианист Любку заломать. Но дочку надо держать под строгим присмотром, раз у нее уже интерес к мужикам проснулся. И ничего умнее не могла придумать, как стала дочь сопровождать на уроки музыки, а потом встречала свою «гулящую» и тащила ее буквально за руку через весь город домой. Как же Любаня ненавидела тогда свою мать! Она ей так и крикнула в гневе: «Ненавижу!» – прямо в лицо, когда та, по своему обыкновению, торчала под окном музыкалки, блюла невинность дочери. Мать побледнела как полотно, дома закрылась в ванной и долго ревела. Любка слышала ее подвывания, и сердце у нее разрывалось от жалости к матери и от стыда за себя, что она посмела ей такое сказать. Вот мать теперь обиделась и ревет, а все из-за нее… Она казалась себе грязной, порочной, испорченной. Потому что все равно продолжала любить Леонида Эдуардовича, и волны сладостного желания гуляли у нее внутри, подступая то к сердцу, то ухая вниз, не находя выхода, когда она вспоминала его объятия и поцелуи.
На смену матери под окнами музыкального класса стала дежурить жена Леонида Эдуардовича. Видно, и до нее дошли слухи о неких отношениях между ее мужем и малолетней ученицей. И когда Любаня сыграла свою концертную программу и получила на выпускном экзамене заслуженную четверку, три дня дома рыдала. Потому что больше не было повода встречаться с любимым учителем. Мать решила, что от музыки только зло, вона какие эти музыканты – мысли у них только об одном. Хорошо, что учитель не успел испортить девку и не обрюхатил ее. А то стыда бы набрались, позора, страшно даже представить!
Всю жизнь держать на привязи безбашенную дочку не удастся, никаких нервов не хватит, поэтому мать тут же запрягла ее по полной программе. Для начала отправила после экзаменов в деревню к бабке. Копать ее огороды да бороться с сорняками и прочими вредителями, в частности – с колорадским жуком, от которого стонала вся деревня. Бабка всячески изгалялась над внучкой и велела собирать жуков в бутылку из-под пепси. Потом их торжественно топила в ведре и выливала в уборную. Любаша пробовала возражать, труд же адский! Под каждый листочек заглядывай, согнувшись в три погибели. Солнце в голову печет, спина ноет, на душе тоска. Соседи за забором ходили вдоль своих грядок с ведрами и веничками, обрызгивали картошку какими-то ядохимикатами. «На дворе же двадцать первый век! – выла Любаша. – Давай мы своих тоже травить будем!» – «Неча! – сурово бубнила бабка. – Нехай люди травятся, а я еще пожить хочу».
Любка батрачила на бабку, как нанятая, но только без жалования. Кормила ее строгая бабка вволю, но спуску не давала. В клуб ни в кино, ни на танцы не отпускала и на молодежные посиделки тоже наложила запрет. Лето прошло, как в трудовом лагере для трудновоспитуемых подростков. С той только разницей, что в лагерях хоть компания какая-то складывается, на дискотеках можно поплясать, в спортивных играх поучаствовать, просто потрепаться ни о чем. А на бабкиных плантациях Любка смотрела на своих сверстников только через забор, прямо как настоящая рабыня. Бабке еще бы кнут в руки, тогда бы совсем на плантаторшу похожа была бы. Местные пацаны проходили вечерами, свистели Любаше, приглашали на танцы. Но тут выскакивала лютая бабка и начинала так орать, что даже шальные парни убегали стремглав. Однажды только один из местных ехидно спросил: «Что, бабка Стеша, работницу бесплатную нашла?» Все знали, что она нещадно эксплуатирует родную внучку.
Наконец кончилась ее каторга, мать приехала за ней и дала дома два дня передышки. С первого сентября Любаня уже числилась студенткой технического колледжа, совсем недавно это было обыкновенное ПТУ. Мать определила ее учиться на часовщицу. И на хрена тогда нужна была эта музыкальная школа? На хрена козе баян? – вспомнила Люба шуточки бывших одноклассников. Правда, потом на часовом заводе все восхищались ее тонкими, изящными пальчиками. А толку чуть. Кто из парней нынче смотрит на пальчики? Им подавай красивое личико, а оно у Любки было очень средненькое. Да еще волосики жидкие, да зубы кривоваты. Одарила ее природа только глазами голубыми, да и те не сказать чтобы большие были. Ну и губы у нее не подкачали. На втором курсе колледжа Любка закрутила роман с Юркой. Он был на два года старше, совсем уже взрослый парень – коренастый блондин, с круглой симпатичной рожей и вечной веселой ухмылкой на губах. Он ее целовал до умопомрачения, все восхищался ее пухлыми, чувственными губами. Юрка ей нравился. И когда он, целуя ее, весь аж дрожал от страсти, знакомое чувство томления внизу живота напомнило о любимом учителе. Но страх перед матерью какое-то время еще удерживал ее от решительного шага и окончательного падения.
Наступил Новый год, в актовом зале колледжа устроили карнавал. Любаша кружилась в вихре танца, даже не успевая запоминать всех кавалеров. Мать ей купила новое платье с блестками, которое обтягивало ее стройненькую фигурку и выгодно подчеркивало все, что надо. Отбоя от ребят не было. Кто-то из них крикнул ей в ухо: «А ты супер!» Диджей, а по-простому Колян с третьего курса, врубал музыку так, что можно было оглохнуть. Разгоряченный Юрка затаскивал ее в темные углы и уже конкретно запускал руку под юбку. Пили шампанское, которое так ударило ей в голову, что уже мочи никакой не было, так возбуждающе на нее подействовало «Игристое». Плюнула она на всякие условности и страхи, дала себя одеть в меховую шубку и пошла с Юркой ночью в заветный парк. В шестнадцать лет она себя уже совсем взрослой считала.
Юрка действовал по-деловому, расстелил на снегу свою куртку, а уж улеглась она на нее без всякого понукания. Надо так надо. Тем более что очень хочется. Целовался он хорошо, может, и остальное умеет делать так же. Сколько же можно противиться зову природы? Так недолго и инвалидом стать – это ей объяснила соседка Вероника, у которой к двадцати шести годам перебывало с десяток любовников. Даже директор долотного завода. Да что-то никто не торопился на ней жениться. Вероника была хороша той яркой, но вульгарной красотой, которая привлекает мужчин, чтобы насладиться в постели, но отпугивает, чтобы жениться.
Юрка свое дело делал как-то неправильно. Было и больно, и неприятно, она даже поплакала и сильно разочаровалась. Где же то наслаждение, которое сулила ей Вероника и к которому Любаша стремилась последние два года? Может, у нее от такого длительного воздержания уже все давно перегорело, и она действительно стала инвалидом… Подумалось, что Леонид Эдуардович любил бы ее гораздо нежнее.
Скоро Юрка со своей деловитостью ей надоел. Хорошо хоть не забеременела. А все благодаря рассудительности Юрки. В его планы женитьба по залету не входила, о чем он ей сразу и сообщил. Тогда, в первый еще раз, лежа на снегу и с любопытством наблюдая, как основательно Юрка готовится лишать ее девственности, она сильно удивилась, что он все предусмотрел и шуршит целлофановым пакетиком. А она-то думала, что он от нее голову теряет. Оказывается, страсть страстью, а рассудок он не терял. И такая его любовь? Любаша мысленно подгоняла его, а все оказалось вовсе не так романтично. В общем, роман продлился после этого совсем недолго. Одно дело, когда тебя страстно обнимают и ты ждешь неземное наслаждение, а другое – когда у тебя на глазах аккуратно вскрывают пакетик и по-деловому приступают к обыкновенному траху. Любаша была девушкой прямой и в конце концов послала своего кавалера куда подальше. Объясняться она не любила, это ее напрягало. Юрка сначала не послушался, хвостом за ней ходил, проходу не давал, Любушкой называл. Но она назло ему завела шашни с мастером Василием, тому уже тридцать два минуло. Юрка от обиды и отстал. Еще бы, куда ему тягаться с наставником, у которого оба практику проходили. Василий был красавчиком брюнетом с тоненькими черными усами, от которых все девчонки млели. Но и новый ухажер со своим немалым опытом быстро надоел Любане. Все его пошлые комментарии да дурацкие эксперименты вызывали в ней сначала изумление, а потом и отвращение. И тут облом. Ни романтики, ни кайфа. Своему кавалеру Любаша так и сказала: «Тебе лишь бы перетоптаться. Ни фига я с тобой не чувствую. Одни неудобства». Так он, гад, еще и посмеялся над ней, когда она заявила, что больше не хочет с ним встречаться, бесчувственным бревном обозвал.
– Кому ты нужна? Ни кожи ни рожи, еще приползешь ко мне, да поздно будет. На меня тут очередь на год вперед! – бахвалился он своим небывалым опытом и, как любил приговаривать, эксклюзивным размерчиком.
Ничего такого особенного она у него не углядела, хотя рассматривала его уже более подробно, чем Юрку. Любаша иногда себя даже корила, что всякий стыд потеряла. Правда, потом сама себя и оправдывала, что в жизни надо всему учиться. Искусству любви тоже. Не она же виновата, что ей попадаются какие-то неправильные мужики. Так и ушла от своего наездника без сожаления. Но словечко «эксклюзивный» ей понравилось, и она пополнила им свой небогатый словарный запас, употребляя чаще всего совершенно не к месту.
Окончила Любка колледж, погуляла еще с несколькими пацанами, да все не те попадались. Ни от кого из них сердце не замирало. А потом решила от матери-отца уехать в места, где хорошие деньги можно было заработать, на Уральские золотые прииски. Там, в Первоуральске, уже давно кантовался ее старший брат Генка, золотоискателем был. Списались. Мать сначала возражала, но отец дал добро. Надоели ему Любкины фокусы, вышла она уже из того возраста, когда можно было ее поздно ночью с ремнем встречать. Решил заботу о ее воспитании переложить на плечи сурового старшего сына. Потому что дома подрастал еще десятилетний Ленчик, от которого стонали все соседи и учителя, а директор школы однажды пообещал отправить его в колонию для малолетних преступников. Нужно было заниматься воспитанием младшего, на двоих сил уже не хватало. Отцу стукнуло пятьдесят восемь, и он объявил себя старым и немощным, а всем друзьям жаловался, что растить детей – неблагодарное дело. Одни хлопоты и огорчения от них. А расходы какие? Дети нынче наглые пошли – им дай все и сразу. Ленчик совсем оборзел, повадился карманы папаши обшаривать. Никакой заначки не удается утаить. И главное – ни в жизнь не признается. Брешет отцу прямо в глаза, что тот вчера на карачках приполз. Дескать, деньги-то из карманов и повыпадали. И мать вместо того, чтобы приструнить паразита, еще его и подначивает: «Учись, сынок, и никогда так не напивайся, как твой папаша!» А еще на этих захребетников уходит все здоровье, и в пятьдесят восемь человек себя чувствует на все семьдесят. Государство должно отцам троих детей выдавать пенсию в тройном размере. И желательно лет уже в пятьдесят пять. А то с такими детьми вряд ли он доживет до законного пенсионного возраста. Некоторые друзья с ним были солидарны и каждый раз, празднуя окончание очередного рабочего дня, выражали свое согласие с народной мудростью: «Дети – цветы нашей жизни. Но пусть они растут на улице». Чтоб глаза их не видели и душа не болела. Правда, узбеки, которые приехали на строительство жилого комплекса «Белый лебедь» и бок о бок работали с русскими работягами, таких жалоб не понимали. Они и сами были из многодетных семей, и у некоторых уже по трое-четверо своих дожидались дома возвращения отцов. Для кого же тогда работать, если нет детей? Русские мужики их вообще удивляли вечным своим недовольством. Чего людям надо? Прописка есть, не надо бегать от милиции, квартиры есть – с мебелью и чистым постельным бельем. Жены под боком, опять же – детишки дома встречают. О такой жизни только мечтать можно, а им все плохо… Так плохо, что вместо того, чтобы деткам лишнюю конфетку купить, они эти деньги пропивают. Как убеждают себя и гастарбайтеров – с горя.
Генка с Любахой не чикался. Определил ее в общежитие и нашел работу на второй же день – сидеть в бухгалтерии и считать с утра до вечера. Сам пропадал на приисках, изредка появлялся. В отличие от остальных работяг вусмерть не пил, первые дни после очередной вахты проводил в бане, в порядок себя приводил. Друзья веселились, отрывались, как в последний раз, а он в парной кайф ловил. Заветный мешочек с золотым песком у него тоже имелся. И была у Генки сокровенная мечта – накопить миллион и уехать в ЮАР. Сказал Любахе по секрету, что эта страна занимает первое место в мире по добыче золота. Купит себе прииск, а то и несколько и станет миллионером-капиталистом.
Любка поняла, что он готовит ее к самостоятельной жизни, и барахталась сама, как могла. А тут и Казачок появился. Сначала возле Генки крутился, в помощники набивался. Но Генка заявил, что его бригада уже давно сложилась и новичок им ни к чему. Своих хватает. Любка только поглядывала на Казачка, раздумывая, есть ли какой-нибудь ключик к нему. Очень уж он ей понравился. Одолела Генку расспросами, кто такой да зачем приехал. Речь у него чудная, не русская, не украинская, всего понемногу, но даже это казалось в нем милым и приятным. Надоела она Генке, познакомил ее с Казачком. Мол, сама у него все расспрашивай, раз охота приспела. Не маленькая. Но смотри: если что – сама и отдуваться будешь. И сделал при этом страшные глаза. У Генки была подружка Маринка, не убереглась, залетела, умоляла возлюбленного разрешить оставить дитя. Но он ни в какую. Вплоть до того, что если родит – он ее сразу бросит. Так как у него цель – Южно-Африканская Республика. А тащить туда весь табор он не намерен. Пришлось Маринке на аборт пойти. Да дело обычное, чуть ли не все девки у Сан Саныча побывали, всем он в лучшем виде вернул былую радость к вольной жизни, необремененную нежелательными младенцами.
А ключик Любаше и подыскивать не пришлось. Очень скоро Казачок оказался в ее горячих объятиях и только поражался ее неиссякаемой страсти. Она в нем тоже не разочаровалась. А уж какие у него пальчики нежные были! Она каждый перецеловала, вспоминая красивые руки учителя музыки. Как-то спросила у возлюбленного, как же зовут его. Маманя же дала ему при рождении человеческое имя! А то все Казачок да Казачок.
– Та ж кубанский я, казацкого рода, потому и казачок. А так есть у меня имя, как у всякого человека, – рассмеялся ее любимый, – Олегом назвали.
Имя не совсем простое, в школе на уроках истории, а может, литературы учили про князя Олега, но Любане не понравилось. Как-то не очень оно подходило худощавому невысокому парню. По ее представлениям человек с именем Олег должен быть здоровенным бородатым мужиком с руками, как лопаты. Так и продолжала называть его Казачком. Только боялась очень, что скоро он уедет, и тогда она не переживет пустоты в своей девичьей постели. Усохнет от тоски по любимому. Но Казачок пообещал, что задержится надолго, дела у него здесь важные, которые не скоро решаются. Терпение надо иметь. Поучал ее: «Ты, Любаня, меня люби, пока я рядом, не думай, шо там тебя ждет в будущем. Я с тобой – и радуйся!» Она и радовалась, расцвела, похорошела, даже кожа стала гладкой, ни единого прыщика. Девчонки перешептывались и хихикали. Она догадывалась, о чем шепчутся эти стервозные завистницы, но думала: «Пусть завидуют! Ни у кого такого красавчика нет! А уж что мы с ним в постели вытворяем – это наши дела». В постели он был так хорош, что она чуть не плакала от счастья. И готова была все сделать, только бы порадовать своего любимого. А он не так уж много и хотел. Всего-навсего, чтобы она рассказывала о планах Генки. А ей что, жалко? Пускай знает, к чему серьезные люди стремятся. Может, это его тоже подстегнет, захочет ее Казачок разбогатеть, а потом и ее с собой заберет. Пусть хоть в ту же Южную Африку. Где она находится, Любаня представляла смутно, где-то внизу на карте мира. Помнила по школьной географии. Но знала, что там солнце, лето круглый год, а еще то ли море, то ли океан, ну и песок, естественно. Значит – сплошные пляжи. Сразу представлялась картина вечного праздника. Жить на курорте ужас как хотелось. Правда, немного смущало, где же там может быть золото? В песке его роют, что ли? Или, может, просто под ногами валяются золотые россыпи? Потом вспомнила сказку из детства про Беляночку и Розочку, им учительница читала в младшей школе. Там золото карлики вроде в пещерах хранили, в горах. Наверное, и в этой Южной Африке какие-нибудь горы есть. Но это ее уже не касается. Не ей же золото добывать! Главное, рядом будет любимый и не нужно ходить на работу. Заниматься бухгалтерией Любке уже сильно надоело.
Генка обычно был немногословный. С Любаней особо не делился. А тут как-то выбрал момент, когда Олега не было рядом, да и говорит:
– Я, Любаня, кое-что задумал. Только тебе говорю, как сестре своей единородной. И то только потому, что ты девка не из болтливых, молчать умеешь. Мы с мужиками хотим дельце одно провернуть, перегнать нашу добычу на юг и запарить там все оптом. Это наша законная заначка. Тогда я враз получу большие бабки. И тебе тоже перепадет. Мне только помощь твоя нужна. Этот твой хахаль Казачок – парень ушлый, как раз на юг скоро отправляется. Базлал, что у него есть надежные люди, они помогут там с охраной и прикрытием. Сопровождение нам не нужно, свои люди поедут, а там, на месте, знающие люди нужны. Разузнай у него, не треп ли это. И никому больше ни слова.
Любка рада была помочь и брату, и перед Казачком выслужиться. Представила, как тот обрадуется, что не зря на нее рассчитывал. Счастье само плыло ей в руки. Как она и ожидала, ее любовник разве что не плясал от радости, когда услышал про вагоны. Уж он ее тискал, услаждал всю ночь напролет, она иногда и дышать забывала. А он был неутомим и сладостно нежен. Любаня в его руках уже не вспоминала своего учителя музыки. А на ее осторожные расспросы он ласково посоветовал не забивать голову всякой мутотой. Это его геморрой, и он сам завтра забьет стрелку с Генкой. С ним же и перетрет тему. Любаша уже привыкла к тому, что язык Казачка ей не всегда понятен, хотя суть улавливала. И на этот раз поняла – это не ее ума дело.
На следующий день оставила она Генку с Олегом наедине решать их дела. Хоть и любопытство ее жутко разбирало, но нужно было идти на работу. Да и мужики подгоняли, хотели вдвоем остаться. Люба не дура – просекла, что у каждого из них свой интерес был в этом деле.
Казачок после разговора с Генкой как-то поспешно засобирался и, обнимая на прощание Любаню, пообещал, как каждый настоящий мужчина, что он непременно к ней вернется. Вот управится с делом – и весь ее. А Любка, как всякая женщина, размазывая слезы по щекам, свято верила каждому его слову. Уехал ее красавчик, сокол ее ясный, орел сизокрылый. Только месяц с ней и пробыл. И хоть девки ехидно поглядывали да посмеивались, потому что их портяночные мохнорылые мужики с ними остались, а ее писаный красавец отбыл в неизвестном направлении, Любка про себя посылала их куда подальше. Разве можно сравнить ее Казачка с этими сапогами?
Казачок, счастье ее, с каждой большой станции присылал телеграммы на адрес бухгалтерии. С одним коротким словом: «Люблю». Ух, как девок корежило, когда она в упоении зачитывала это слово! Да не раз и не два! Ей хотелось, чтобы весь мир знал, как ее любит ненаглядный. Немного отравила ей радость Мария Григорьевна, пожилая главный бухгалтер. Она каждый раз после коллективного чтения очередной телеграммы смотрела на нее недобрыми глазами и предостерегала, «как мать родная», чтобы Любка особо не радовалась. Те, кто много говорят о любви, чаще всего брешут. Попудрят мозги доверчивой дурехе, а потом смываются, ищи-свищи их потом… Хорошо, если еще без последствий обходится. Словом, позавидовала Любаше. Понятное дело, ее старый хрыч Никодим Степаныч сроду слова ласкового жене не сказал. Как бирюк – приедет с приисков на пару дней и сидит сиднем на балконе, молча курит и плюет сверху вниз, со второго этажа, на прохожих. Такое у него развлечение.
По ночам Любаша ворочалась в постели, вдыхая запах подушки, на которой лежала голова Казачка. Решила не стирать наволочку, чтобы его запах постоянно был при ней. Жалко только, что со временем дух от волос любимого становился все слабее.
Через две недели вернулся с приисков Генка – озабоченный, деловой.
– Ну, сеструха, даст Бог, выгорит наше дело. Я тебя не забуду. Так что молись за меня. Через неделю еду на станцию с ребятами, поезд готовить к отходу. А Олег давал о себе знать? – вдруг вмешался он в ее личную жизнь, чего до сих пор никогда не делал.
Любка с торжествующей улыбкой протянула ему пачку телеграмм. Генка просмотрел их, особенно его интересовали места отправления, и удовлетворенно кивнул:
– Не сбрехал Казачок.
Через неделю уехал и брат. Любане только и осталось, что дожидаться вестей. Маринка приходила к ней понурая и все каркала:
– Чует мое сердце, не к добру эта поездка!
– Да заткнись ты, наконец! – прикрикнула на нее Любаня. – Что ты понимаешь в их делах?!
Маринка обиделась и ушла. Вот муха, только одно ее беспокоит: как бы Генка с другой не загулял. «Дура безголовая», – думала с досадой Любаня. Своему любимому она верила безоговорочно. Тот, кто умеет так любить, бросить не может. Сколько уже раз говорил ей, что она единственная и неповторимая, и вообще – таких, как она, он не встречал. Любка даже зауважала себя после таких его слов. И в зеркало на себя теперь смотрела как бы со стороны, глазами Казачка, и находила, что очень симпатичная. Даже глаза стали больше и лучились голубым цветом, как у певицы Валерии…
5
Вокзал жил своей кипучей жизнью. Гул голосов, несмотря на позднее время, напоминал растревоженный улей. Прорва народу шлялась вокруг Турецкого, как в безумном броуновском движении. Подозрительные типы шныряли, что-то выискивая цепкими взглядами в толпе пассажиров с видом охотников, которые вышли на большой ночной промысел.
Турецкий стоял посередине зала под расписанием поездов, запрокинув голову, и зачарованно наблюдал, как на электронном табло время от времени начинали быстро мелькать буквы и цифры, ритмично пощелкивая металлическими страницами-пластинками. Информация постоянно менялась, и он старался вникнуть в содержание этих пляшущих строчек. Наконец плюнул на все попытки разобраться в них. Голова трещала, как будто он пил три дня без продыху. Ныла ушибленная скула. Душа ныла еще больше. Было очень паршиво. Пол под ногами иногда начинал медленно уплывать, и он, пытаясь удержать равновесие, покачивался, ища точку опоры. На мраморной стене вокзала углядел расписание поездов, отпечатанное на большом листе бумаги, и радостно кинулся к нему, едва удержавшись на ногах. Сделав несколько шагов, уткнулся пальцем в расписание и облегченно вздохнул, пробормотав:
– Вот это я понимаю. Что нам нужно? Нам нужна стабильность. Нормальное стабильное расписание – буквы не прыгают, не бегают, с толку не сбивают. А то напридумывали. Нормальному человеку эту электронику не прочесть. Листают, листают… Как сумасшедшие.
Указательный палец уперся в расписание, и эта единственная точка опоры придавала некоторую уверенность. Турецкий испытывал потребность говорить, произносить вслух слова, чтобы не казаться себе таким одиноким и брошенным. О том, что все гады, он уже не думал. Заставил себя не думать. Ну их всех на фиг. Он теперь свободный человек и волен делать все, что заблагорассудится. Жены нет. Работы нет. Красота. Вот она – свобода. Езжай куда хочешь, делай что хочешь. Между прочим, недалеко стоит очень симпатичная девица. Глазками так и стреляет в его сторону. Интересно, куда она едет? Может, им по пути? А где ее вещи? Нет вещей. Или обокрали, или проститутка. Или начинающая бомжиха. Еще не успела поистрепать свою приличную одежку. Через плечо у нее болтается маленькая сумочка. Наверное, воровка. Руки свободны, чтобы легче было воровать. И ее на фиг.
Турецкий отвернулся от девицы и тут же забыл о ней. Палец скользил сверху вниз по расписанию, и он разговаривал сам с собой, приведя в легкое замешательство бабусю, которая остановилась рядом с ним, но тут же пошаркала дальше, смерив его подозрительным взглядом.
– …Ахтубинск… Это Москва—Астрахань… – Он посмотрел на часы и с сожалением констатировал: – Час назад ушел… Следующий… Нет, этот не подходит. Дальше… Так. Грязнов… Уссурийск. Это у нас какой поезд? Сто шестнадцать… Москва—Владивосток… Далеко, это хорошо. Не поеду. А то он меня расспросами достанет.
Турецкий в другой руке держал блокнот и заглядывал в свои записи. Надо же! Сколько у него друзей разбросано по белому свету! И захочешь, всех объехать не успеешь. Да вот беда – со всеми же объясняться придется. Ладно, поехали дальше. Палец послушно заскользил вниз по гладкому стеклу, которое закрывало расписание.
– Владикавказ… Виолетта, Виолетта… Как давно все было это. Или как там? Я люблю тебя за это, и за это, и за то… Дальше забыл. Нет, я к тебе не поеду… Эту книгу мы уже читали. Роман был стремительный и бурный, есть что вспомнить… «Дэ»… Днепропетровск… Никого… Донецк… Как там в песне поется? «Давно не бывал я в Донбассе…» И на кой он мне нужен? Это уже заграница. Не хочу я ни ближнего, ни дальнего зарубежья. Из дальнего только что вернулся, ужина нет, все пылью заросло, жена в загуле… Это нормально? Нет, братцы, это ненормально. Вот такие нынче женщины, а еще называют себя боевыми подругами! Ейный хахаль конкретно мне морду бьет, а она глазки распахнула, ротик открыла, смотрит, как будто это ей представление. Даже прощения не попросила… Кисловодск… Неплохо бы… Водички попить, горным воздухом подышать, позагорать на зеленых склонах…
Сладкие мечты добровольного изгнанника разрушил раздраженный женский голос.
– Мужчина, вы здесь не один!
Турецкий оглянулся и расплылся в улыбке. Пожилая женщина сердито смотрела на него. Рядом стоял чемодан на колесиках, плечо оттягивала внушительных размеров дамская сумка, из пластикового пакета выглядывал длинный батон копченой колбасы. Какая приличная женщина. Только сердитая почему-то. Турецкий наклонился и поцеловал ей руку.
– Мадам, рад вас видеть. Как вы думаете, куда мне ехать?
Женщина почему-то никак не отреагировала на его джентльменское поведение, как будто привыкла к такому обходительному отношению со стороны всех встречных-поперечных пассажиров. Ни радостного блеска в глазах, ни благодарной улыбки. Наоборот, отдернула руку, словно ее коснулись губы прокаженного. Даже обидно как-то.
– Мне все равно… Езжайте куда хотите… – сухо бросила она и бесцеремонно отодвинула его своим нехилым плечом, отвоевывая свое законное место у расписания.
– Как вы правы, мадам… Мне тоже абсолютно все равно, куда ехать. И чего это я голову ломаю? Спасибо за идею! – Он раскланялся и неуверенной походкой отправился к кассе. Дама брезгливо оглянулась ему вслед.
Симпатичная блондинка в окошке кассы выжидающе смотрела на очередного пассажира. Турецкий изобразил на лице самую обаятельную улыбку и едва удержался, чтобы не подмигнуть. Беспричинное веселье почему-то подняло его настроение. А почему, собственно, беспричинное? Разве ветер свободы не дует в его лицо? Разве не ждут его незнакомые города и новая жизнь?
– Мне, пожалуйста, билет на ближайший поезд, – проникновенно произнес он, согнувшись в три погибели и приблизив лицо к окошку, чтобы кассир прониклась всей серьезностью его намерения.
– Можете так не наклоняться. Говорите в микрофон, – улыбнулась она ему.
– Я уже все сказал… – нежно проворковал Турецкий, посылая взглядом всю свою нежность, на какую был способен в эту минуту.
Наверное, смена милой кассирши только что началась, она еще не успела устать и поэтому была приветливой и предупредительной. «А может, у нее просто хороший характер», – подумал Турецкий.
– Вы не сказали, на какой поезд.
– Да на любой. Куда угодно. Только поскорее.
– Вам все-таки нужно решить, куда вы собрались ехать, – улыбнулась она опять.
– А вы ткните пальцем в компьютер. Куда попадете, туда и поеду. Считайте, что моя судьба в ваших руках.
Где-то над головой прозвучала мелодичная музыка, и голос из репродуктора провозгласил:
– Вниманию пассажирам. Объявляется посадка на скорый поезд номер тридцать девять Москва—Новороссийск. Отправление в двадцать три часа сорок пять минут со второго пути. Нумерация вагонов…
– Голос судьбы распорядился, чтобы я поехал поездом номер тридцать девять! – Турецкий не удержался и все-таки подмигнул кассирше. Вопреки опасениям, она улыбнулась в ответ.
– С вами все ясно. Давайте паспорт.
– А я его оставил в камере хранения. Я вам так продиктую… Щеткин Петр Ильич, шестьдесят четвертого года.
– Год рождения не надо. Диктуйте номер паспорта.
– Сорок пять ноль шесть… М-м-м… сорок, тридцать… Семьдесят три.
Получив билет, Турецкий отошел от кассы, разговаривая сам с собой:
– Хрен вы все меня найдете… Начинаю новую жизнь с чистой страницы. Спасибо тебе, Петя, что ты есть на свете. – Турецкий тихо засмеялся. – Теперь я не «важняк». Я теперь поэт-путешественник. И мой дилижанс отправляется со второго пути.
6
В городе Кропоткине срочно пришлось выходить. Поезд помчался дальше, на Тихорецкую, где Олега Куренного поджидал кореш. Но когда у тебя под ногами буквально горит земля, лучше судьбу не испытывать. Куренной это усвоил уже давно, поэтому и попался в своей жизни только однажды. После чего извлек ценный урок – уходить надо всегда вовремя.
Он вышел в ночь на освещенную электрическими огнями станцию, где так легко можно было затеряться среди сотен людей. Человеческий муравейник оккупировал железнодорожный узел, словно пассажиры единодушно взялись за решение важной задачи – увеличить плотность населения города по максимуму. На платформе на деревянных скамейках сидели, спали, жевали, травили анекдоты, парни приставали к девушкам, дети носились стайками под испуганные окрики родителей. Время от времени из динамика мелодичный женский голос объявлял то прибытие, то отправление поездов. Кропоткин Куренной любил за его неиссякаемое многолюдие и ненавидел за колготню и неустроенность. В Кропоткине прямо на платформе усатые кавказцы жарили отличные шашлыки, и на их запах стекался голодный народ, следующий транзитом согласно купленным билетам. Тут же, стоя за высокими столиками, сочные дымящиеся шашлыки поедали, запивая пивом или минеральной водой.
Можно спокойно передохнуть. Внутренний карман пиджака приятно вздулся от пачки купюр. Интересно, сколько там? Наверное, много.
Знакомство в вагоне-ресторане с мужиком с толстой самодовольной ряхой, назвавшимся Лехой, оказалось очень полезным. И плодотворным. Началось оно, как обычно бывает в дороге, легко и непринужденно. Сначала пили из бутылки, которая стояла перед Лехой, уже наполовину опустошенная. Потом Куренной заказал еще пол-литровую бутылочку краснодарской водки, щедро подливая новому знакомому. Уж Куренной на этом собаку съел – в его деле главное не скупиться. Он внимательно слушал захмелевшего собеседника, который сочным языком, сдобренным матерными выражениями, описывал свои трудовые подвиги на золотых приисках. И даже если он и привирал, стараясь произвести впечатление на компанейского собутыльника, Куренной поддакивал, всячески поощряя мордоворота к откровенному разговору. Сам он представился удачливым мелким предпринимателем, который снабжает Тихорецк деликатесом под названием «крабовые палочки» и наваривает на этом вполне приличные деньги. Ну, не такие, конечно, как некоторые старатели, но хватает и на жизнь, и на развитие бизнеса, и на клевых телок. Леху особенно заинтересовали телки, видать, сильно соскучился по женской ласке, и он все порывался изменить свой маршрут и сойти с новым дружбаном в Тихорецке, чтобы приобщиться к плотским радостям. Взамен обещал взять его с собой на прииски, когда будет возвращаться из отпуска. Куренной тоже пообещал исполнить заветное желание истосковавшегося золотоискателя, а тем временем подпаивал его, пока тот и не уснул мертвецким сном прямо за столом, опустив свою кудрявую головушку в грязную тарелку с куриными объедками. Облегчить карманы сладко спавшего и мечтающего о любовных утехах Лехи не составило особого труда. Убирая из-под Лехиной морды грязную тарелку, он незаметно нащупал у того за пазухой солидную пачку денег. Куренной заслонил Леху своим плечом и виртуозно вытащил ее, мгновенно засунув в свой внутренний карман.
Куренной не торопился бы так сойти с поезда, если бы не встретился взглядом с глазками-буравчиками какого-то хмыря, который сидел через столик. Вид у того был слегка потрепанный, пиджак явно с чужого плеча. Во рту в два ряда сверкали металлические зубы. На пальцах многочисленные наколки. Глубокие морщины на лице и особая бледность выдавали в нем человека, который несколько лет не видел солнца. Олег сразу смекнул, откуда явился этот кадр. Пора было сваливать. Куренной привольно развалился на стуле с рюмкой в руке и не спешил действовать, поезд стоял на станции двадцать минут. Наконец, дождался, когда объявили отправление, поезд дернулся, собираясь тронуться в путь, и быстро выскочил из вагона-ресторана в тамбур. Проводница собиралась уже закрывать дверь и отругала его за то, что выскакивает чуть ли не на ходу. Вот что алкоголь с людьми делает – последнюю память отшибает. Надо же так напиться, чтобы в последнюю секунду вспомнить, что нужно выходить. А ей потом отвечать, если он под колеса угодит. Все это она успела выкрикнуть ему в спину, пока он спрыгивал со ступенек. Но прыткий Куренной уже стоял на перроне и посылал проводнице воздушный поцелуй. К окну припал хмырь с алчным выражением на лице. Поезд медленно проплывал мимо Олега, и он усмехнулся и этому бывшему крепостному, но лишь уголками губ. Даже в случае полной безопасности лучше не играть с судьбой. Жизнь длинная, мир тесен, слой тонок – никогда не знаешь, где пересечешься с человеком.
А вот шашлыки Олег решил купить на деньги, которые держал в другом кармане, заботливо зашпиленном булавкой, как мать его учила, когда отправляла учиться в строительное училище лет десять назад. Он отстегнул булавку, вытащил пятисотрублевую купюру. Шашлыков хотелось съесть сразу три шампура. Хотя толстомордый золотоискатель щедро предлагал «откушать, что Бог послал», Куренному кусок в горло не лез, когда он чувствовал близкую добычу. Все-таки нервы у него стали ни к черту. А как иначе, если работа такая нервная? Все просчитать нужно, все учесть. И главное, действовать так, чтобы никто случайно не заметил его манипуляций над вусмерть пьяным «корешем», когда нужно было изобразить искреннее беспокойство и дружескую заботу. Да еще будить так, чтобы тот на самом деле не проснулся, а только мычал что-то в беспамятстве, позволяя вертеть собой как угодно, чтобы новому приятелю посподручнее было нащупать его бумажник. По большей части такие лохи особо не парились, держали бумажник во внутреннем кармане пиджака. Несколько раз Куренной нащупывал у своих «клиентов» тайник на груди, под рубашкой, в мешочке на веревочке. Как говориться – подальше положишь, поближе найдешь. На это и рассчитывали посетители вагона-ресторана, да только не приходило им в голову, что на их пути встретится такой веселый и обаятельный попутчик с искренней улыбкой на лице и ловкими руками. У них хватало ума только на то, чтобы не оставлять деньги в своем купе. Боялись. И правильно, мало ли кто попутчиком окажется… В этом деле Куренной был мастак, не вчера родился, но никогда не обольщался – проколы бывают у всех, даже у самых опытных.
У мангала выстроилась небольшая очередь. Куренной быстрым взглядом определил, что стоять осталось недолго. Шашлыки уже скворчали и манили своими золотистыми боками, источая восхитительный аромат. Перед ним стояла семья, и женщина лет сорока пяти уговаривала дочку поесть, а та с кислым выражением лица держалась за щеку. «Зуб болит», – подумал с сочувствием Куренной. Зато ее младший брат жадно смотрел на шашлыки и непроизвольно облизывался. Девочка все-таки с уговорами шашлык взяла. Семья отошла в сторону к освободившемуся столику. Куренной посмотрел им вслед, оценивающим взглядом окинув девочку. Ничего цыпочка, на вид лет четырнадцать, а грудь уже как у совсем взрослой девахи. И глаза красивые, большие, их даже не портит страдальческий вид слегка перекошенного от боли лица. Да, девчонка очень симпатичная.
Получив свои шашлыки, Олег пристроился за соседним столиком. Он жадно набросился на мясо, но своих соседей из вида не выпускал, бросая быстрые взгляды на девочку. Она держала в руках материну сумку и обиженно смотрела на родственников, которые с наслаждением впились в шашлыки. К своему девочка так и не прикоснулась. Видно, зуб ее совсем замучил. Мамаша увлеченно жевала, слизывая с губ жирный сок, и поглядывала по сторонам. Заметила, как на ее драгоценную дочечку глазеет подозрительный тип за соседним столиком. Чем-то он ей не понравился, и женщина оторвалась от шашлыка, тихо сказав что-то дочери. Девочка обеими руками покрепче обняла сумку, бросив неприязненный взгляд на Куренного. Тот обезоруживающе улыбнулся, и она удивленно вытаращилась на него. Мать тут же дернула ее за руку, строго нахмурив брови, и стала сердито выговаривать. До Олега донеслись ее слова: «Нечего глазами стрелять. Так и стреляешь, никакой скромности!» Девчонка насупилась, опустила глаза и стала оправдываться. Картинка из жизни станции Кавказская, которую мало кто из приезжих знает, как город Кропоткин.
Куренной доел свои шашлыки и, бросив прощальный взгляд на девочку, зашел в помещение вокзала. Шум, ор, толкотня и скандалы у билетных касс, цыгане вопят, их дети скачут по узлам и верещат, одним словом – светопреставление. Молодая парочка бомжей пристроилась на деревянной неудобной скамье, спят и в ус не дуют. Ничего не боятся, у них и красть нечего. Давно не мытая девка с пузом, уже совсем на сносях, бесстыдно раскинула ноги, пристроившись под боком у своего такого же омерзительно грязного спутника. Олега аж передернуло от отвращения. Была б его воля, он бы всех бомжей поселил в отдельную деревню за высокий забор, чтобы их духу не было в приличных местах. Никакой пользы от них, один только смрад… Народ, как ни странно, не бунтует и не скандалит. На всякий случай отодвинулись от спящих подальше. Бомж нежно обнимал свою подружку за плечи, берег ее сон и еще не родившегося маленького бомжонка. А вот и родная милиция пожаловала, да прямым ходом к бомжам. Растолкала их, те едва разлепили глаза и сонно слушали внушение, потом нехотя встали и поплелись на улицу. Рядом с вокзалом, за выходом в город, Куренной знал – симпатичный скверик, где можно было поспать на скамейках. Наверное, туда они и направились коротать ночь. Если еще найдут куда пристроиться.