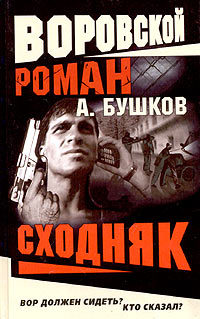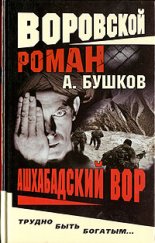Мечта империи Буревой Роман
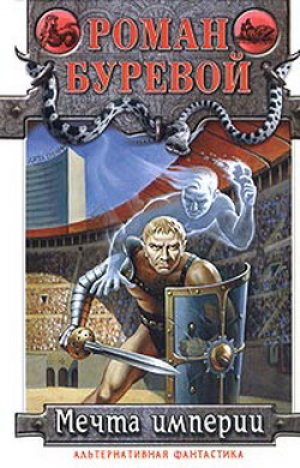
Солнце-кормилец! Ты день с колесницей горючей
Кажешь и прячешь, о пусть, возрождаясь незримо,
Вечное – ты ничего не увидишь могучей
Города Рима.
Гораций (пер. А. Фета)
За тысячу лет, что прошли со времен Траяна Деция, основавшего Новую Империю, язык, как и все в Риме, претерпел изменения. Одни слова сохранили свое старое значение, другие приобрели новый смысл, поэтому автор нашел нужным снабдить текст примечаниями и пояснить некоторые слова и выражения, чтобы не вызывать недоумения у читателей. В конце книги собраны примечания, относящиеся к мифологии и историческим деятелям. Прочие пояснения даются по ходу повествования.
ЧАСТЬ I
Глава I
Первый день Аполлоновых игр
«Сегодня, в двадцать первую годовщину победы в Третьей
Северной войне, император Марк Руфин Мессий
Деций Август открывает Аполлоновы игры».
«Акта диурна» [1], праздничный выпуск, канун Нон июля [2] 1974 года от основания Рима.
I
Пурпурный веларий [3] над Колизеем разворачивался с завораживающим шорохом. Зрители, что пробирались меж рядами, невольно поднимали головы – взглянуть, как один за другим раскрываются лепестки огромного цветка. Вскоре все ряды амфитеатра погрузились в мягкий полумрак. И только арена, засыпанная оранжевым песком, оставалась ярко освещенной. По мере того как солнце будет скользить по небу, одни лепестки велария уберут, а другие развернут так, чтобы солнечные лучи неизменно освещали арену. Пурпурный полумрак рядов и золотой блеск арены – эти два истинно римских цвета повторялись всюду, в императорских знаменах и в драпировках сенаторских лож.
Гладиаторы ждали в куникуле [4]. Вот-вот должна была начаться помпа [5]. Юний Вер, как всегда, встал в первый ряд вместе с Варроном.
– Элий уже здесь, я его видела, – шепнула Клодия. – Неужели ему нравится смотреть игры после того, что с ним произошло?
Внешностью она походила на юношу: коротко остриженные волосы, высокий рост, рельефная мускулатура. Но Клодия нравилась многим достойным мужам; поговаривали, что кто-то из знаменитых поэтов пишет в ее честь элегии и присылает гладиаторше в дар. Но ответной любви пока не добился.
– Элий – гладиатор, и останется им навсегда! – заявил Варрон. – Единственный, кто достоин этого звания, клянусь Юпитером! Он полил кровью эту арену, как и полагается бойцу. Правда, это была его собственная кровь.
Четверо темнокожих носильщиков в набедренных повязках из золотой парчи вынесли из боковой галереи парадные носилки. Сидящий в них невысокий упитанный человек в белой тоге отер тончайшим платком мокрое лицо и махнул рукой:
– Можно начинать. Император уже здесь. Две тысячи тому, кто выиграет первым вчистую, а не по очкам.
– Вер, не забудь поставить фалерна, когда выиграешь, – хмыкнул Варрон.
Пронзительный рев труб заставил всех замолчать. Украшенные изображениями золотых львов ворота распахнулись. Распорядитель резко обернулся, едва не вывалившись из носилок, и пообещал:
– И еще три тысячи тому, кто выйдет на поединок без доспехов.
– Терпеть не могу, когда Пизон распоряжается, – прошипела Клодия. – У него вечно один казус за другим. Будто специально. Он был распорядителем игр, когда Элий потерял ноги.
– Элий потерял, я подобрал, – хмыкнул старина Варрон. По возрасту он был самый старший в центурии гладиаторов, в темных его волосах уже посверкивала ранняя седина.
– Дело в том, что Элий плохой боец, – назидательным тоном произнес Авреол. – Из патрициев всегда получаются фекальные гладиаторы.
У Авреола была тонкая и длинная шея с острым кадыком. Едва он появился в гладиаторской школе, как к нему намертво прилипло прозвище Цыпленок. А когда Авреол впервые шагнул на арену Колизея, на трибунах тут же завопили – «Цыпа»!
– Разумеется, Элий не может равняться с тобой, Цыпа, – усмехнулся Вер. – Ты неповторим.
Авреол принял его слова за чистую монету и приосанился.
– Со мной вообще никто не может равняться. И в этом году победителем Аполлоновых игр объявят меня. – Он бросил выразительный взгляд на Вера.
– Уж скорее тебя изберут первым консулом [6] в будущем, – парировал тот.
– Когда-нибудь я стану консулом, – заявил Цыпа. – Все знают, как я талантлив. В три года я научился читать, а в пять знал «Илиаду» и «Одиссею» наизусть. Ты мне не веришь?! – гневно воскликнул он, приметив улыбку на губах Вера.
– Ну что ты, ни минуты не сомневаюсь. Наверняка, знание «Илиады» колоссально помогает на арене.
– Он над нами издевается! – оскорбился Авреол. – Его следует исключить из гладиаторов!
– Вер – самый лучший боец, – напомнила Клодия.
– А гладиатор плохой! – Не унимался Авреол. – Он нас презирает. Разве ты не видишь?! Нас и тех, чьи желания выполняет.
– Презираю? Что за абсурд! Мне платят, я машу мечом. На остальное мне плевать, даже на то, что ты обо мне думаешь, Цыпа.
«Интересно, доставляют ли людям радость те желания, которые исполняет Цыпа?» – подумал с усмешкой Вер.
И с удивлением отметил, что Цыпа побеждает чаще, чем этого можно было ожидать.
– «Апис, кулачный боец, никого и не ранил. За это
Был от соперников он статуей этой почтен», – процитировал Вер напоследок любимого Лукиана. Он не знал, почему все время шутит. Может, потому, что молод. На самом деле внутренне он не смеялся.
Носилки Пизона уже появились на арене. Следом шествовали трубачи. И, наконец, по двое, печатая шаг, выступили гладиаторы. Помпа… Сотню лет назад и тысячу лет назад она была почти такой же. Менялись сенаторы, музыканты, их трубы, гладиаторы и зрители, оружие и одежда, закуски, которые разносили в перерывах расторопные торговцы. Дважды реконструировали амфитеатр Флавиев, все чаще его стали называть Колизеем; веларий из парусины, что прежде натягивали моряки, сменился пластиковой крышей; появился пуленепробиваемой экран над императорской ложей после того, как императора Корнелия застрелили из винтовки во время Больших Римских игр. Поставили комментаторские кабины и громкоговорители. Радио транслировало прямые репортажи на всю Империю. Преторианская гвардия [7] надела пуленепробиваемые нагрудники. Но каждые игры открывались помпой, и гладиаторы совершали круг почета, проходя мимо императорской ложи, а затем мимо лож сенаторов.
Император Руфин любил игры и всегда присутствовал на их открытии. Императору недавно исполнилось пятьдесят два; близкие знали, каков он – самоуверенный, холодный, расчетливый, преисполненный тщеславия человек. Но гражданам Империи импонировала его рациональность, его не всегда остроумные циничные шутки, его умение лавировать между консулами, сенатом и Большим советом. Он знал, что популярен, и любил сравнивать себя с Юлием Цезарем. Руфин шутил, уверяя, что сходство между ними явное: Гай Юлий тоже начал рано лысеть, и, как теперь Руфин, божественный Юлий появлялся повсюду в дубовом венке.
За плечом императора маячило узкое бледное лицо Цезаря [8]. Он то выглядывал, то прятался за складками пурпурной ткани, и на губах наследника застыло испуганно-плаксивое выражение.
Процессия остановилась напротив императорской ложи. И хотя сегодня никто из гладиаторов не собирался умирать на арене, они выкрикнули, как и тысячу лет назад: «Аве, император! Идущие на смерть приветствуют тебя!»
Руфин кивнул в ответ, а с трибун на арену полетели цветы. Гладиаторы двинулись дальше. Все они были как на подбор высокого роста. Победители игр щеголяли в золотых венках. Но среди этих красавцев Вер выделялся с первого взгляда. На его пшеничных волосах сверкал золотом венок победителя Больших Римских игр, но не по венку его отличали. Поверх доспехов во время помпы он накидывал затканный золотыми звездами плащ, но не из-за плаща римляне останавливали на нем взгляды. Вер шагал как будто со всеми в ногу и все же иначе, махал рукой зрителям, но при этом приветствовал не их, а бирюзовое небо над головой. Он не был похож на остальных, даже проигрывая, он все равно выглядел, как победитель. Его называли альтергладиатором. Одна половина зрителей его боготворила, другая ненавидела, но все говорили только о нем.
Веру нравились и любовь, и ненависть. Пожалуй, ненависти он отдавал предпочтение.
«А что, если б мы дрались боевым оружием? Что бы я испытывал? К примеру, я бы мог убить Клодию? Или Варрона?» – сам себя спросил Вер.
Вопрос не ужаснул его и даже не взволновал. Он не испытывал по этому поводу ничего.
– Ненавижу дурацкое хождение, – вздохнула Клодия.
– Кто сегодня против тебя? – спросил Варрон.
– Бык…
– А, Бык, он здоровый. Пока махнет рукой, ты успеешь обежать вокруг арены.
Бык сегодня в первый раз выходил на бой, и его никто не боялся. А зря. Новичков следует опасаться. Хлор тоже был новичком, а у Элия заканчивался второй контракт. Вер невольно передернул плечами, он старался позабыть тот день, но все равно воспоминания преследовали его постоянно. Да и трудно не вспоминать, когда Гай Элий Мессий Деций занимает место в сенаторской ложе и вместе с Марцией приветственно машет прежним своим коллегам.
– Вер, у Элия на правой ноге протез? – шепнула Клодия. Она спрашивала об этом каждый раз, когда видела Элия в Колизее.
– Нет, ему восстановили обе ноги. Только правая хуже срослась и осталась короче левой.
– Рассказывай! Клянусь Юпитером, у него протез, – заявил Варрон. – Иначе почему он всюду появляется в тоге?
– Ты повторяешь слово в слово то, что пишет Вилда в своем «Гладиаторском вестнике», – заметил Вер. – Или она повторяет за тобой?
Лицо Варрона налилось кровью. У Вилды был осведомитель среди гладиаторов, и многие подозревали, что это Варрон.
– Это не ее вестник, а Пизона. – Клодия игриво помахала Элию рукой. Сенатор кивнул в ответ дружески и отнюдь не покровительственно. Он всем так кивал. – Я уверена, что на следующий год Элия непременно изберут консулом.
– Пизон выложит миллион сестерциев [9], лишь бы не допустить этого, – не без оснований предположил Варрон.
– Ставлю сестерций, что его изберут, – парировал Вер. – Просто потому что свой миллион Пизону поставить не на кого. Разве на себя.
Мысль о том, что Пизон может сделаться консулом, вызвала фурор. Заслышав смех, Пизон оглянулся и окинул подопечных подозрительным взглядом.
– Не бывать Элию в сенате [10], если бы не его гладиаторское прошлое, – пробурчал Цыпа.
– Что в таком случае мешает в тебе стать сенатором? – поинтересовался Вер.
– Я еще буду.
– Да, да, все мы станем сенаторами, – хихикнула Клодия. – Я, Вер, и ты, Варрон… Хочешь носить тогу с пурпурной полосой, а, Вер?
– Нет, – с фальшивой горячностью запротестовал Вер. – Сенат – это еще хуже, чем арена. К тому же туда собрался Цыпа. Значит, я точно не пойду в курию [11].
– А ты, Варрон? Тебе бы пошла сенаторская тога! – не унималась Клодия.
Варрон не ответил и лишь нахмурил брови. В последние месяцы он открыто враждовал с Клодией. Это мало походило на пикировку мужчины и женщины, готовую вот-вот перерасти во взаимную симпатию. Эта была завистливая и непримиримая вражда двух бойцов, соперничающих в одном деле.
«Хорошо, что сегодня они не в паре, – подумал Вер. – Когда-нибудь они убьют друг друга, и это даже не будет смешно».
Круг замкнулся. Гладиаторы вошли в «отстойник» – небольшое помещение в куникуле, где бойцы ожидали своего выхода на арену. Те, кто должен был выступать в конце, удалились в свои раздевалки. Сегодня Вер выходит на арену первым. Едва отзвучат трубы, едва пробегут, выделывая замысловатые кульбиты, акробаты, в «отстойнике» взорвется оглушительной трелью звонок, и раздастся лишенный эмоций голос администратора: «Вер и Красавчик – на арену!»
– Не люблю я первый день игр, – буркнул Варрон. – Контрактов нет – выкладываешься за милостыню, которую Пизон именует стипендией. Ему бы, жадобе, так платили. Завтра – другое дело. Завтра будет хороший день, ведь так, Вер? – Варрон дружески пихнул приятеля в плечо.
– Акробаты уже ушли, сейчас наша очередь, – отозвался Вер.
– Будешь снимать доспехи? – вызывающе спросила Клодия, оглядывая легкие пластиковые доспехи Вера, украшенные золотым орнаментом. – Я как-то выступала даже без нагрудника.
– И чуть не осталась без одной титьки, – поддакнул Варрон.
– А почему бы нет? – Вер принялся расстегивать ремешки наручей. – Ради блеска зрелища я могу отказаться от многого. Даже от меча. Но вряд ли мою самоотверженность оценят.
– Это не смелость, это глупость, подобное безрассудство недопустимо, – тут же подоспел со своими сентенциями Цыпа.
– Нет, Цыпа, напротив, я благоразумен и надел протектор и шлем. Так что детородный орган и голова будут целы. А без всего остального можно обойтись, – отвечал Вер. – В Эсквилинской больнице делают универсальные протезы. Закажи там новую голову, если вдруг позабудешь строку из «Илиады».
Вер взял меч, сделал несколько оборотов кистью. Голоса разом смолкли. Не потому что в отстойнике перестали орать, а потому, что Вер никого больше не слышал. Руки двигались сами по себе, повторяя заученные движения. Краем глаза Вер заметил Красавчика. Тот уже был закован в броню с головы до ног. Пробить тупым гладиаторским мечом можно лишь места сочленений. Гораздо проще сбить Красавчика с ног. Но учитывая, что тот на двадцать фунтов тяжелее Вера, задача не из легких.
В амфитеатре все усиливался гул голосов, в куникуле нарастало напряжение.
Репродуктор ожил и зарокотал:
– Вер, Красавчик! На арену!
Будущие противники плечом к плечу шагнули к выходу. Ворота распахнулись. Арена ждала их. Совсем иная, чем во время помпы. Свет сделался ярче, слепил. А тени сгустились до черноты. Два гения в платиновых всполохах защитного поля кружили в бирюзовом небе над Колизеем. И Вер помахал им, как старым друзьям, заглянувшим в гости.
– Противники вооружены только мечами, – разносился голос из усилителей, перекрывая рев толпы. – Гладиатор Юний Вер снял нагрудник, поножи и защиту на руках.
Красавчик кинулся в атаку. Но меч рубанул воздух. Поворот, удар, и вновь Вер ускользает, а Красавчик сражается с тенью. Вер в доспехах быстр, как лесной зверь, без доспехов – молниеносен. Даже в первых рядах зрители не могут проследить за взмахом его руки. Но надо немного побаловать римлян, дать им зрелище, дать несколько томительных секунд борьбы, когда кажется, что может одолеть любой. В такие мгновения зрители ревут от восторга, мужчины вскакивают с мест, а женщины близки к обмороку.
Мечи скрещиваются в высоком блоке, Красавчик тянется вверх, а Вер ныряет и рубит по ногам. Но Красавчик достаточно быстр, чтобы перемахнуть через несущийся со свистом клинок, и зрителям кажется, что это акробаты вышли на арену их позабавить. Красавчик, окрыленный первым успехом, пробует ударить противника в шею, но клинок разит воздух – Вер давно выпрямился и со скучающим видом ждет новой атаки. Красавчик решает повторить прием Вера: он тоже бьет по ногам, рассчитывая свалить противника. Вер прыгает через клинок, будто упражняется в ловкости, а не дрался. Зрители кричат от восторга и страха, они еще не забыли, как Хлор подобным ударом отрубил Элию ноги.
Красавчик вновь атакует. Вер не парирует – он ускользает змеей, почти открыто издеваясь над противником. Время разящих ударов не наступило, зрители еще не насладились до конца красотой схватки. Красавчик носится, как сумасшедший, машет мечом, лезет вон из кожи. А Вер даже не запыхался. Он забавляется… Вер понимает, что противнику унизительно столь несомненное превосходство. Но почему забавляться должны только зрители? Юний Вер тоже хочет веселиться.
Бойцы расходятся. Спектакль закончен. Теперь все решит один удар. Красавчик понимает это.
Гладиаторы вновь кружат по арене. В этот раз Красавчик боится атаковать. Он ждет, надеясь на прочность доспехов. Вер атакует. Красавчик парирует, но вкладывает в это слишком много силы – клинок Вера отскакивает, чтобы тут же обрушиться на голову неопытного бойца. Красавчик падает лицом в песок, но через несколько секунд приподнимается и оглядывает арену. Отличный шлем защитил, как всегда. К нему спешат два служителя, одетые Меркуриями, в крылатых шлемах и крылатых сандалиях, чтобы вытащить проигравшего за ноги с арены, а тому положено изображать мертвеца. Но Красавчик не может снести такого позора – он вскакивает и несется к выходу. «Меркурии» бегут за ним, но не могут догнать – мешают дурацкие сандалии с крылышками.
– Вер, Вер, Вер, – несется над амфитеатром Флавиев.
Юний Вер поднимает голову. Гений Красавчика исчез. А гений победитель кружит и кружит над ареной.
Только гладиаторы видят гениев. Нынешние гладиаторы, и те, кому уже вручили деревянный меч. Гай Элий Мессий Деций тоже различал платиновый абрис в вышине. Сенатор стиснул зубы, чтобы заглушить вздох. С того дня, как Хлор отрубил ему на арене обе ноги, Элий нередко видел своего гения. Но бывший гладиатор не любил вспоминать эти встречи. Порой у него появлялось чувство, что гений постоянно рядом и, спрятавшись, следит за бывшим подопечным. Чего-то ждет.
II
Три женщины сидели в первом ряду второго сектора. Впереди располагались сенаторские ложи, где на мраморных сиденьях были выбиты имена. Во втором секторе мраморные скамьи были несколько уже, чем в ложах отцов-сенаторов. Прежде второй сектор предназначался для сословия всадников [12], но теперь сюда имели доступ не только банкиры и воротилы индустрии, но так же знаменитые актеры и поэты. Иногда здесь бывали дорогие гетеры, и тогда в перерывах зрители глазели не на акробатов и бестиариев [13] со зверьми, а на этих доступных и одновременно недоступных красавиц. Но три женщины, одетые в белое, не походили на гетер, но все три были молоды и необыкновенно красивы. Особенно одна, со сверкающими золотом кудрями. Ее палла [14], будто ненароком соскользнула не только с головы, но и с плеч, давая возможность зрителям полюбоваться на их совершенные формы.
– Не надо так демонстрировать свою красоту, детка, – сказала ее соседка, роскошная матрона в шелковом платье, расшитом узором в виде павлиньих перьев. – А то зрители догадаются, кто мы.
– Ты слишком высокого мнения о людях, – заметила третья красавица с правильными, но слишком резкими чертами лица. Ее светлые, будто светящиеся изнутри глаза скорее могли оттолкнуть поклонника, нежели привлечь.
– Мне нравится тот, что выступал без доспехов, – улыбнулась златокудрая красавица, не подумав поправить паллу. – Он еще появится на арене?
– Он выиграл, – отвечала светлоокая. – Значит, будет сражаться во втором поединке.
– Мне казалось, что они должны выступать лишь по разу, – засомневалась матрона.
– Это в обычные дни, – пояснила светлоокая. – Когда они бьются за исполнение желаний. А сегодня гладиаторы сражаются только за премию. И значит, победитель будет один.
В этот момент на арену вновь вышел Юний Вер. Трибуны взревели.
– Ставлю бокал нектара, что Вер победит за три минуты! – воскликнула златокудрая. – Кто хочет со мной поспорить?
– Я хочу, моя Психея. – Мужчина в тоге всадника из второго ряда наклонился к плечу златокудрой красавицы.
Она обернулась и смерила наглеца снисходительным взглядом.
– А где ты возьмешь бокал нектара, когда проиграешь? – И она шепнула на ухо своей светлоокой подруге. – Ты как будто хочешь возразить?
– О, нет, Венера! Ты же знаешь, я не делаю глупостей.
– Всего лишь умеешь скрывать свои промахи, Минерва. Богиня мудрости все-таки.
– Девочки, пожалуйста, без имен, – одернула их матрона.
Поединок длился чуть больше минуты. Вер победил.
– Мы присудим ему приз сейчас или дождемся конца выступлений? – поинтересовалась светлоокая богиня.
– Куда ты торопишься, дорогая, у нас впереди вечность.
– В самом деле, посмотрим все поединки, – предложила матрона, в которой никто не хотел узнавать богиню Юнону, и это ее задевало. – Иногда занятно наблюдать за людьми. Они с таким азартом дерутся неизвестно за что.
– Признайся, этот гладиатор тебя волнует, – шепнула златокудрая на ухо Минерве. – Взгляни, какие мускулы, какие великолепные плечи. Такой торс, изваянный из мрамора, может украсить любой храм. Неужели тебя нисколько не возбуждает мужская красота?
– Ее волнует лишь мужской ум, – заметила не без яду Юнона. – А поскольку ни один мужчина не может быть умнее нее, то ни один и не способен покорить сердце Минервы.
– А вдруг наш герой так же умен, как и красив? – улыбнулась богиня любви. – Давай, устроим ему испытание, вдруг он мудрее тебя?
В этот момент зрители вновь принялись скандировать. «Вер! Вер! Вер!» – неслось по рядам.
– Боец он отменный. Опять победил, – принялась аплодировать матрона.
– Его испытание началось давно, – сказала светлоокая. – В час его рождения. Только он не знает об этом.
Они перестали болтать, потому что объявили последний поединок – Вер выходил против Авреола. В этот раз гладиаторы вооружились длинными мечами и прямоугольными щитами с металлическими умбонами [15].
– Если победит тонкошеий, – презрительно фыркнула Венера, – я больше никогда не буду предаваться усладам с мужчиной. Во всяком случае, до ближайших Столетних игр.
– Ничего страшного, – успокоила ее Юнона. – Лесбийская любовь снова входит в моду.
Вер разбежался, сделал сальто и вновь встал на ноги. Такие акробатические фокусы считались среди гладиаторов вульгарными. Но Веру очень хотелось разозлить Цыпу. Без толку! Авреол владел собой изумительно. Даже проигрывая, он оставался невозмутим. Может, цитировал про себя «Илиаду»?
Поединок начался, и сразу Авреол ушел в глухую оборону. Удары Вера сыпались градом, но Цыпа их не замечал, его выносливость была почти нечеловеческой. Сколько он выдержит? Минуту? Две? Три? Авреол сделал ответный выпад, но удар пришелся по щиту Вера. Крики восторга. Дабы позабавить зрителей, Вер умудрился сделать полный оборот и ударить ногой в щит противника. Но пока что это была только игра. Оба играли неплохо. Но Вер был артистичен, а Цыпа напоминал автомат.
– Авреол рассчитывает на промах нашего красавца, – заметила светлоокая.
– Что ты так переживаешь? – пожала плечами златокудрая Венера. – Обет дала я, а не ты. Впрочем, такой проигрыш тебя вряд ли расстроит.
Наконец Веру надоела игра. Почти никто из зрителей не заметил, как Авреол пропустил удар. Внезапно Цыпа пошатнулся и упал на колени. Он попытался встать, но Вер не позволил. Ударил, будто крикнул: «Лежать!» И Авреол подчинился без звука.
– Какой молодец! – захлопала в ладоши златокудрая красавица. – В честь его победы я сегодня зову к себе в гости трех самых обаятельных людей на свете.
– А можно я буду одним из этих троих счастливцев? – поинтересовался нахальный красавец-всадник.
– Разумеется, если отыщешь дорогу к дверям моих чертогов, – отвечала Венера.
– Я была права, – вздохнула светлоокая Минерва. – Ни к чему было сидеть столько времени на жаре, мучиться от жажды и от дурацких приставаний глупцов.
– Надеюсь, победителю понравится наш подарок, – улыбнулась златокудрая и, поднимаясь со скамьи, будто невзначай подмигнула нахальному ухажеру.
III
Над входом в гостиницу «Император» висело огромное пурпурное полотнище с четырьмя буквами «SPQR.» – «Сенат и Народ Рима». Огромные золотые литеры колебались, когда ветер рвал полотнище и пытался унести его в небо. Чуть ниже полоскалась ткань с надписью: «Юний Вер – трехкратный победитель Больших Римских игр и двукратный победитель Аполлоновых игр». Они были почти равны – первый гладиатор, служитель Фортуны, увенчанный богиней победы Викторией, и сенат Рима. Власть Империи и отдельное желание отдельного человека.
«Рим исполняет желания», – эту формулу приказал выбить Траян Деций золотыми буквами над входом в амфитеатр Флавиев.
– Доминус Вер, у тебя не появилось свободного клейма? – услышал Вер за спиной скрипучий голос.
Оглянулся. Человек в белой тунике с серебряным значком ветерана Третьей Северной войны на левом плече изогнулся в подобострастном поклоне. Вер видел его во время Аполлоновых игр каждый год. Этот старик (гладиатор имел полное право называть его стариком, ибо просителю было далеко за шестьдесят и он давно созрел для Ахерона), всякий раз подкарауливал Вера после первого дня игр и выпрашивал клеймо задаром. Пять лет подряд. Ни разу Юний Вер не спросил, какое желание старик не может исполнить так долго.
– Доминус Вер, ты так знаменит. И ты откажешь мне, старому и больному? Вспомни: каждому гражданину Рима гарантировано исполнение желаний. Этот закон выбит на бронзовой доске.
Вер почувствовал досадную неловкость. Будто нищий попросил у него асс [16], а он, Вер, имея тысячу сестерциев в кошельке, не бросил в протянутую руку медной монетки. «Но не жалость, а именно неловкость», – уточнил гладиатор сам для себя.
С некоторых пор он стал анализировать свои чувства.
«Каждому нищему обязан подавать…» Выходя из школы в Город, новичок-гладиатор брал с собой кошелек, наполненный медяками, и одаривал всех встречных нищих. Исполнять желания надо тоже с желанием. Это первая аксиома, которую они должны были выучить в гладиаторской школе. И Вер затвердил ее, как ученики лицеев заучивают наизусть отрывки из «Илиады» и «Одиссеи».
Но старик не производил впечатление бедного. Туника его была новой и чистой, кальцеи [17] – из хорошей кожи. Старик носил серебряный значок, значит должен получать военную пенсию. Но он почему-то не мог заплатить за клеймо. Порой с возрастом люди становятся необыкновенно скаредными. Они экономят каждый асс, и даже в роскошные термы [18] Каракаллы норовят пройти, не платя, не говоря уже об играх. Старики, как дети, обожают собственные капризы. Но Рим достаточно мудр и достаточно богат, чтобы позволить своим старикам и детям капризничать.
– Если у тебя есть оплаченное сенатом клеймо, я его приму.
Старик отрицательно покачал головой. Империя не удостоила его своей милости. В очередях за бесплатными клеймами люди стоят годами. Порой очередь переходит от отца к сыну, потом ее наследует внук и, дождавшись своего часа, просит богов о какой-нибудь безделице. Ибо все заветные желания сошли со своими владельцами в могилу.
– Ты же знаешь – дешевле пяти тысяч сестерциев клейма не продаются. Я вхожу в центурию [19] гладиаторов. Бесплатные раздачи клейм запрещены. Если у человека нет денег, за него платит патрон, – каждый раз Вер втолковывал это правило старику, но тот пропускал слова мимо ушей. – Попроси своего патрона, пусть заплатит. Или у тебя нет патрона?
Старик сделал вид, что не расслышал вопроса. Скорее всего, он достаточно богат и сам, просто жадничает и не хочет тратиться.
– А ты, доминус Вер, не станешь моим благодетелем? Почему бы тебе не заплатить за меня? Я поставлю твой бюст в атрии [20] и каждый день буду сжигать перед ним благовония. – Старик еще сильнее изогнулся. Его голос сделался слащав до приторности. – Тебе давно подобает стать чьим-нибудь патроном.
Вер поморщился. Разговор со стариком раздражал. И сам старик раздражал. Своей настойчивостью и своей лестью. Но гладиатор не должен отказывать. Он, могущий даровать любому (или почти любому) мечту, не смеет гнать обездоленного. Из глаз старика легко, будто из крана, закапали слезы.
Вер едва сдерживал отвращение. Такое полное отсутствие гордости Вер еще ни у кого не встречал. И этот римлянин носит значок ветерана!?
Гладиатор уже собирался сказать что-нибудь резкое, но тут ему в голову пришла остроумная мысль:
– А у сенатора Элия ты был?
Старик вновь отрицательно покачал головой.
– Обратись к нему, и Элий станет твоим патроном. Он обожает покровительствовать.
Интересно, какой фокус придумает Элий, чтобы отвертеться от попрошайки?
Двое репортеров направились к знаменитому гладиатору, на ходу щелкая фотоаппаратами. Впереди молодой парень, за ним – Вилда, рыжая девица, чем-то похожая на лисичку. На кончике вздернутого носика повисли черепаховые очки. Завтра фото Юния Вера и несчастного старика появятся на первых полосах Римских ежедневников. И крупный заголовок: «Рим не хочет исполнять желание своего гражданина!» Или что-то в этом роде.
– Уходи скорее, – приказал Вер старику и отвернулся.
«Элию будет трудно от него отвязаться»… – улыбнулся про себя гладиатор.
– Пару слов о сегодняшнем поединке, доминус Вер, – обратился к нему молодой репортер.
Юний Вер не успел ничего ответить, как заговорила Вилда:
– Почему распорядители ставят против тебя в поединках слабаков вроде Красавчика, а против Авреола – сильных, таких как Кусака?
«Ну вот, началось». – Гладиатор посмотрел на Вилду и ему сделалось скучно, во рту появился неприятный привкус, будто Вер съел что-то несвежее.
– Красавчик, Кусака… Они равны по силе. Напоминаю: их счет в личном поединке: десять к одиннадцати в пользу Кусаки. Это потому, что его зовут Кусака. – Вер сглатывал после каждого слова, но мерзкий привкус не проходил.
– Но все же счет в пользу Кусаки, – не унималась Вилда.
– Что ты скажешь, Вер, о шансах Авреола стать победителем Аполлоновых игр? – поинтересовался ее собрат.
– У каждого есть шанс. Допустим, меня раздавит на улице таксомотор, Варрона убьют, а Клодия отравится, тогда шансы Авреола возрастут.
– Ты считаешь себя талантливым, Вер? Говорят, что ты лишний среди гладиаторов. – Вилда поправила черепаховые очки, которые тут же сползли на самый кончик остренького носа.
– Значит, я исполняю лишние желания.
Вер прошел в стеклянные двери гостиницы. Два охранника раскинули мощные руки. Репортеры остановились, наткнувшись на них, как прибойная волна на камни. Пена возмущенных криков обдала спину гладиатора. В просторном атрии с двумя рядами беломраморных колонн царили прохлада и тишина.
– Обед в номер, – приказал Вер, беря из рук служителя ключи. – Через час. А сейчас пол-амфоры [21] сока. А ты не собираешься сделаться гладиатором, приятель? – Администратор отрицательно мотнул головой. – Жаль. Я бы научил тебя, как падать на песок, чтобы меч противника не выбил зубы.
Мальчик-рассыльный поднес ему венок из бледно-голубых и пурпурных роз.
– Это от служителей «Императора».
Вер поморщился – ему не хотелось принимать венок. В нем он будет походить на педика из Субуры. Но, с другой стороны, – отказаться значит оскорбить людей, искренне им восхищавшихся. Он взял венок и надел на голову.
Номер в гостинице он всегда занимал один и тот же – на двадцатом этаже, дверь с золотыми знаками «ХL». Из окна открывался прекрасный вид на форум [22] Траяна. Но сейчас Вер не стал по своему обыкновению подходить к панорамному окну, чтобы полюбоваться сверканием новой позолоты на крыше реставрированной после землетрясения базилики [23] Ульпия. Лишь мельком он глянул на статую Траяна, которую заходящее солнце обвело красным контуром. А, глянув, в который раз подумал, что Траяну-завоевателю воздвигли грандиозный памятник. А Деция, спасителя Империи, удостоили всего лишь триумфальной арки. И подарили ему имя завоевателя Траяна. Людская логика не поддается никаким объяснениям. Как и воля богов.
Когда Вер оставит арену, он сделается философом, потому что ни к чему другому он не пригоден. Не идти же в сенат, как Элий.
Вер сбросил одежду и прошел в ванную. Круглая чаша с черно-белым узором по ободку, вделанная в мозаичный пол, была уже наполнена прохладной водой. Вер погрузился в ванну и лежал неподвижно, созерцая мозаичное панно на стене. Обнаженная Венера с роскошными золотыми волосами до земли выходила из морской пены. Художник явно подражал Апеллесу. Вер набрал полные пригоршни воды и брызнул на мозаику. Капли потекли по бледно-розовому телу, оно заблестело, как блестит юная кожа в лучах италийского солнца.
После купанья Вер растерся жестким полотенцем и, накинув черно-красную тунику с разрезом на груди, отправился в комнату. Обед должны были уже принести. Он не ошибся – стол был накрыт. Но в номере, в удобном кресле, покрытом леопардовой шкурой (разумеется, подделка, но очень искусная), сидела гостья. На первый взгляд женщина показалась Веру необыкновенно красивой той зрелой роскошной красотой, которая всегда привлекала гладиатора. На гостье была вышитое платье из золотистого шелка по моде этого года и черная кружевная палла. Одна золотая вышивка стоила как минимум пятьсот сестерциев. Богатые и красивые женщины часто приглашают на пиры гладиаторов, особенно, когда речь идет о нарушении закона.
Вер уселся в кресло напротив элегантной гостьи, демонстративно распахнул тунику.
Надменная красавица бросила равнодушный взгляд на обнаженное тело и сказала сухо:
– Я пришла не за этим.
– А за чем же? – Вер взял за правило с подобными особами держаться нагло, не желая быть униженным.
– Хочу купить клеймо.
– Ах, вот как! – Вер неторопливо запахнул тунику. – Тогда почему ко мне? Тебе стоило обратиться к моему агенту. У него еще есть свободные клейма. Кажется.
– Но времени осталось слишком мало. Я решила действовать наверняка.
Голос ее звучал естественно, и ее объяснение выглядело почти правдоподобным. И все же… что-то заставило Вера усомниться. Может, лучше прямо указать ей на дверь?
– Это очень сложное дело, – она понизила голос. – Твой агент мне бы отказал.
– Насколько сложное? – Вер подался вперед. Почувствовал, как внутри него собирается холодный комок. Этот щемящий холодок ни с чем не спутать. Наверное, боги, верша человечьи судьбы, испытывают нечто подобное. Многие ради одного этого чувства надевают доспехи гладиатора.
– Один шанс из ста…
Вер понимающе хмыкнул:
– Или меньше?
– Может быть. – Она положила на стол бумагу с вероятностным расчетом. Вер лишь мельком глянул на листок. Штамп цензора из Эсквилинской больницы на месте. Ну а на цифры лучше не смотреть. – Но мне сказали, что один из лучших гладиаторов может…
– Самый лучший, – поправил ее Вер.
– Разумеется. Я это и имела в виду.
Если вероятность события меньше одного из сотни, ни один гладиатор не выдаст под него клеймо. Это означает верный проигрыш. Ни один, кроме Вера. Однажды Вер победил, когда вероятность равнялась один к пятистам. Правда, тогда он зарегистрировал лишь тридцать два клейма. А сейчас у него набрано как минимум восемьдесят. Но все прочие вероятности больше десяти из ста, и он вполне бы может потянуть еще и это дело…
– О чем идет речь?
Если что-то сомнительное, если хоть одним краем касается политики или личной мести, он откажется.
Она помолчала, будто сомневалась, стоит ли вообще говорить.
– Моя дочь попала в автокатастрофу. Ей сделали операцию. Сейчас она в коме. Шанс выжить у нее один из ста двадцати.
– Твое имя?
– Сервилия Кар.
Вер взял со стола толстый, изрядно затрепанный гладиаторский кодекс за этот год, перелистал страницы. Кар… Нет, этого имени в списках не было.
– Кар – твое родовое имя? Или имя мужа? – Многие женщины по старинному обычаю сохраняли родовые имена, но это было скорее редкостью, чем правилом. Уже веков пять или шесть женщина, выходя замуж, брала имя супруга.
– Мужа, – она запнулась на мгновение. – Мое родовое имя – Фабия.
Какой древний род! Говорят, впрочем, что из тех настоящих патрициев Фабиев никто не уцелел, а все нынешние – потомки плебеев или вольноотпущенников. Гладиатор проверил список на литеру «F» – опять все выходило чисто. В том, что имена настоящие, сомневаться не приходилось. Заказчики не лгут гладиатору. Ибо фальшивое имя означает фиктивный заказ, и желание обманщика никогда не исполнится. Хотя нет, встречаются и вруны. Заказывают, тратят деньги, но их мечта не сбывается даже в случае выигрыша. Все людские безумства предугадать невозможно.
– А имя твоей дочери?