Иосиф Сталин в личинах и масках человека, вождя, ученого Илизаров Борис
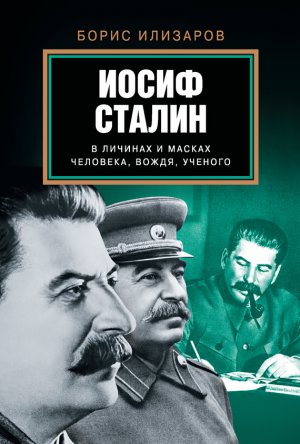
Оставим психоаналитикам исследовать реальность сталинского синдрома кастрации, связывая его не только с отчетливой тенденцией жестоко подавлять волю претендующих на власть коллег-мужчин, но и с пристрастием к грубым мужским шуткам, к матерной брани, со сладострастным отношением к незрелым женщинам, с красноречивым рисунком подвешенного «Брюханова» и с не менее красноречивым текстом к нему. Но здесь же отметим очередной парадокс – я обнаружил непосредственное свидетельство того, что Сталин был знаком с психоаналитической теорией сексуальности, но не через знакомство с трудами Зигмунда Фрейда, а через… того же Щедрина и Льва Николаевича Толстого.
Даже к толпе, к «массе», он относился как мужчина к «женщине». Он почти физиологически чувствовал восхищение и тягу ее к себе и, похоже, сам испытывал высшее напряжение сладострастных сил, когда вступал с ней, то есть с толпой, с массой, в единение. Многие вожди человечества испытывают нечто подобное. При этом важна не только сила «магнетизма», исходящая от лидера, но и его особый стиль поведения – мужественного кокетства. Вспомним, как в молодости Коба мечтал быть вознесенным над толпой с красным знаменем в руках, как он кокетничал перед ней на трибуне Мавзолея во время многочасовых демонстраций, как он кокетливо прищуривался перед миллионами людей, глядящими на него сквозь объектив кинокамеры. В том же фельетоне Щедрина Сталин отчеркнул себе на память почти целую страницу особенного, «эротического» текста:
«Нельзя сказать себе: выйду к толпе и увлеку ее в ту или другую сторону. Толпа не вдруг и не всю открывает грудь свою: как ни распутна она с первого взгляда, но любит, чтоб за ней походили, чтоб к ней относились вежливо. Надобны сверхъестественные силы, чтоб увлечь толпу сразу, а много ли найдется деятелей, обладающих этими силами? Огромное большинство деятелей – простые труженики, для которых толпа представляет любезнейший и сподручнейший предмет разработки, но которые и сами еще недавно были в толпе. Толпа ревниво оберегает предания прошлого и туго решается на риск, потому что уже не мало она порисковала на своем веку, но мало извлекла из того для себя пользы. Мудрено ли, что человек, имеющий дело с этой плотною массою, неслышно для самого себя проникается инстинктами толпы? Мудрено ли даже, что, вместо того, чтоб увлечь толпу за собой, он сам станет в ее ряды! Но не смейтесь ему, не порицайте его слишком поспешно, ибо он не пропал без вести. Положим, что сам он засосался на дно, положим, что он и не выплывет никогда, но мысль, им брошенная, все-таки принесет свой плод, но минутное противодействие, оказанное им толпе, все-таки сделает ее более податливою… хотя бы для последующих деятелей. В этом случае, он не более, как жертва, принесенная новому Ваалу, но жертва не бесследная, ибо кровь ее утучнила почву»[490].
Весь этот абзац отчеркнут на полях справа волнистой чертой.
Старый сатирик предвосхитил многие психоаналитические и пропагандистские разработки XX века. Говорят, что Геббельс в последние дни рейха предлагал свои услуги СССР в качестве «гения» пропаганды. Сталин много раньше Гитлера и Геббельса и в теории и на практике понял психологический исток единения «героя и толпы». У щедринской толпы «обнаженная грудь», особая «плотность», она как женщина «распутна», «порисковала на своем веку», «любит, чтобы за ней походили» и «относились вежливо». Она «туго решается на риск», поскольку ее столько раз обманывали герои-соблазнители. Поэтому она хоть «податлива», но прежде, чем отдаться очередному соблазнителю, очень «расчетлива». А герой-соблазнитель «собрал силы сверхъестественные», для того чтобы «она», этот «любезнейший и сподручнейший предмет разработки», приняла его мысль, которая должна «принести свой плод». И пусть обессиленный герой, сделав дело, сам растворится и исчезнет в ней, он все же «сделает ее более податливой» для нового оплодотворения идеями и эмоциями. То, что Салтыков-Щедрин предчувствовал в теории, вождь тысячу раз испытал на практике. Я думаю, что он любил писателя не столько за острую критику человеческих и государственных пороков, сколько за глубинное проникновение в массовую психологию.
Щедрин, Франс и Сталин «О старости»
Щедрин провел прямую параллель между одряхлевшей Римской империей, стареющей Российской державой, разлагающимся городом Глуповым и похотливой барыней Любовью Александровной. И подобно тому как империи, для того чтобы продолжить свое существование, необходимо обновление, пусть даже и путем появления на исторической арене новых людей – «петрушек» и «иванушек», та же потребность прилива новой молодой и горячей крови испытывает любой стареющий организм. Сталин читал рассуждения Щедрина о старости, бегло подчеркивая отдельные места: «Подобно Любови Александровне, Глупов сморщился и одряхлел; подобно ей, он чувствует, что жизненные начала, которыми пробавлялся до сих пор, иссякли, и что для того, чтобы не лишиться возможности продолжать жить, необходимо, чтобы скверная, густая кровь, до сего времени поддерживавшая организм, обновилась новою, свежею струей, непричастною глуповскому миросозерцанию, не подкупленною ни глуповскими устными преданиями, ни глуповскою историей… Отсюда зуд во всем теле, тот возбуждающий зуд, который с особенной настойчивостью сказывается в старческих организмах. Ах! Был бы ты молод, размотал бы ты, по ветру развеял бы думушку черную, да и пошел бы себе, подплясывая, по дороге жизни торенной, уезжанной, а теперь вот при твоей старости, да при твоей слабости, и развеять-то некуда и размотать-то некому: засела, проклятая, в самую центру, и жжет, и точит там, а ты няньчись с ней, носи ее с собою, будь рабом своей недавней крепостной холопки!»[491]
Тема старости, как и любви, бессмертия, как и другие вечные темы, притягивающие и пугающие любого человека, волновала Сталина не только в своей всеобщей, абстрактно-исторической форме, как тема упадка и одряхления, но и вполне конкретно, как человека пожившего и пожилого.
Один из разделов упоминавшейся книги Франса посвящен старости. Франс, как и Сталин, прожил долгую жизнь, но задумался о предвестниках заката только за несколько месяцев до кончины. Напомню, что Сталин читал книгу французского писателя в возрасте около 55 лет, но для него эта проблема психологически была актуальнее, чем для литератора, которому было за семьдесят. Большинство соратников, окружавших Сталина, да и врагов были моложе, а потому потенциально имели большие перспективы. Но еще важнее было то, что он к этим, уже вполне зрелым годам только-только почувствовал сладостный вкус безграничной власти и увидел ее столь же безграничные перспективы. Его отец в лучшем случае дожил до 45–50 лет, а сын чаще примеряет себя именно к отцу. Поэтому неудивительно, что в зрелые годы вождь при случае задумывался о старости. Да и что такое, наконец, старость, каковы ее признаки, в какие годы она подступает к человеку, чем грозит?
Франс собрал обширную литературу о старости. Составитель книги перечислил с десяток имен от Аристотеля до Казановы. В сохранившихся фрагментах диалога Франс от своего лица, «Пессимиста», обсуждает эти проблемы с неким «Оптимистом». «Оптимист» должен защищать старость, на невзгоды которой жалуется Франс. Сталин отметил карандашом эту литературную условность и углубился в чтение.
Франс описывает встречу с другом, с неким Жоржем Куртелином, который, несмотря на то что был намного моложе писателя, громко поносил свою старость, «как врага рода человеческого».
«“Что бы вы сказали, Куртелин, – спросил я его, – если бы имели мой возраст?” У Куртелина достало ума ничего не ответить… Я тоже молчал… Но, поверьте, мое молчание есть более горькое обвинение против старости, чем гневные вопли Куртелина. Старость, по-моему, есть худшее из зол; она отнимает у человека мужественность, силу, способность к наслаждению, все блага жизни вплоть до любопытства, которое для большинства людей есть единственное основание и оправдание их жизни»[492].
Сталин с этой посылкой писателя охотно согласился, отчеркнув ее на полях. Это видно из последующей части диалога, на которой нет помет и в которой «Оптимист» пытается доказать, что у старости есть свои преимущества. И все же старость, по мысли писателя, страшна не только тем, что она лишает возможности ощущать полноту жизни, а тем, что она вплотную приближает человека к смерти. А что там, за ней?
«Большая разница – думать, что смерть приведет нас к разгневанному богу, или вернет в небытие, из которого мы вышли.
«– Как вы это понимаете? Есть люди, которые больше боятся небытия, чем ада».
«– Именно так. Всем хотелось бы жить вечно»[493].
Здесь уже далеко не в первый и далеко не в последний раз Сталин вплотную сталкивается с обсуждением вопроса о следующим за смертью выбором: гневный Бог или «Ничто», небытие или ад? Зарегистрируем вслед за Сталиным эту мысль и ее диспозицию для последующего анализа психоинтеллектуальных упражнений вождя.
Поскольку перед Сталиным лежала книга, составленная на основании черновиков и подготовительных материалов писателя, то в ней оказались собраны внутренне противоречивые тексты и положения. Это относится, в частности, к проблеме определения того, что считать старостью, с какого возраста она настигает человека, каковы особенности психики и интеллекта стариков?
«– Определять старость? – вопрошает Франс. – Берегитесь это делать. Блез Паскаль предупредил нас, что ошибочно давать определение тому, что ясно само по себе».
Сталин сбоку, рядом с вертикальными линиями, приписал саркастическое: «Хе/»[494] Все-таки попытка определения старости содержится в следующем афоризме Франса:
«Старости достигают немногие и пребывают в этом состоянии недолго. Этот некрасивый маленький хвостик имеет небольшое значение в жизни. Некогда это значение было еще меньше. В первобытные времена стариков не существовало. Их нет также среди диких зверей»[495].
И этот фрагмент был отчеркнут на полях вождем.
Дальше предлагается обсуждение вопроса – с какого возраста начинается старость? На этом вопросе Сталин не стал особо задерживаться, так как Франс ограничился банальностями в духе того, что годы жизни и внутренние ощущения человека решительно не совпадают. В конечном счете весь этот круг вопросов свелся к такому высказыванию: «…старее других тот, кто ближе к смерти. И это не всегда бывает тот, кто старее годами». Но все же и в этом разделе Сталин пометил, видимо, не встречавшееся ему ранее слово:
«Несколько лет назад, в экваториальном море нашли саргассу длиной во много сотен метров, которая прожила, может быть, много веков…»[496] Слева от текста Сталин поставил знак вопроса. Иначе говоря, его не удивил сам факт долгой жизни растения, но зато можно зарегистрировать факт очередного пробела в школьном образовании вождя. Такие диковинные для себя слова и необычные выражения он постоянно брал на заметку.
Но вот Франс приступает к характеристике душевных и умственных сил стариков. Здесь Сталин полностью солидарен с полюбившимся писателем. Анатоль Франс утверждал:
«Старики скупы: для этого есть разумное основание. Они боятся всякой потери, не надеясь больше приобрести что-нибудь»[497].
Редкий случай – Сталин трижды согласно отмечает это нелестное для стариков умозаключение. Франс написал:
«Умственные силы стариков понижаются одновременно с телесными. Да и может ли быть иначе? Мы это видим у самых знаменитых людей. Если восторгаются их последними произведениями, то причина заключается в том, что их известность возросла и что в деле, столь сомнительном, как литературная оценка, они приучили к своим недостаткам»[498].
И эта негативная оценка способности старости жить за счет накопленного в молодости интеллектуального капитала и заслуг одобрена Сталиным. В одном из писем 1925 года Сталин так писал о людях, еще работавших с ним бок о бок: «У нас в России процесс отмирания целого ряда старых руководителей из литераторов и старых “вождей” тоже имел место. Он обострялся в периоды революционных кризисов, он замедлялся в периоды накопления сил, но он имел место всегда. Луначарские, Покровские, Рожковы, Гольденберги, Богдановы, Красины и т. д. – таковы первые пришедшие мне на память образчики бывших вождей-большевиков, отошедших потом на второстепенные роли»[499]. Об особом, почти ритуальном уважении народов Кавказа к своим старикам Сталин, конечно, знал. Но сам он был совершенно индифферентен к подобным традиционным взглядам. Старчество для него давным-давно ассоциировалось с усталостью, с потерей потенции, с умственным упадком, «отмиранием» и даже – с паразитированием. Вот, например, как он характеризовал стариков в целом в самом конце 1923 года, в те дни, когда самый главный «Старик», то есть Ленин, был еще жив: «Говорят иногда, что стариков надо уважать, так как они дольше жили, чем молодые, больше знают и лучше укажут. Я, товарищи, должен сказать, что этот взгляд совершенно неправилен. Не всякого старика надо уважать, и не всякий опыт нам нужен»[500]. Против этого трудно что-либо возразить – действительно, не всякий старик достоин уважения за прожитую жизнь. Но у Франса речь идет не о моральных качествах человека (при чем здесь возраст?), а о физиологии как причине разрушения жизни, о причине ее упадка. Франс писал, а Сталин отмечал:
«Это общераспространенная глупость думать, что старики благоразумны. Они боязливы, не больше. Разум их слабеет»[501].
На самом же деле вся ценность старчества заключена в его прошлом, и там она навсегда остается. Франс замечает:
«Мне приходилось слышать от стариков вещи, достойные внимания только в тех случаях, когда это были вещи, сохранившиеся у них от прошлого времени, воспоминания или прежние наблюдения»[502].
Высказывания Франса довольно мрачно представляют старость, стариков и их качества. Но эта мрачность снимается небольшим анекдотом из жизни композитора Гуно, по-французски изящно рассказанным Франсом. Его соль в том, что:
«Чем старее становишься, тем более отодвигаешь назад начало старости»[503].
Во время первой постановки оперы «Фауст» один из зрителей спросил композитора: сколько лет должно быть тем персонажам, что поют в хоре стариков и дрожанием своих членов изображают крайнюю дряхлость? Гуно, которому тогда самому было около сорока, ответил, «что они находятся в крайней старости, что им лет шестьдесят или пятьдесят пять».
«Через тридцать лет, слушая ту же оперу вместе с композитором, Жюль Симон задал ему тот же вопрос. Гуно, бывший тогда уже на склоне лет, отвечал ему: “Мои старцы – настоящие старцы. Им лет восемьдесят или девяносто”»[504]. На этот анекдот Сталин отреагировал на полях справа легкомысленным: «Хи!»
Но не столь легкомысленным было его отношение к этой проблеме в жизни, выходящей за границы его интимного мира. «Старость», как и ее оппозиция – «молодость», старость как последний шаг к смерти, старость как символ дряхлости и косности занимали особое место в его философии жизни. Оно сильно отличалось от того места, которое занимали в ней власть, сексуальность, Бог, революция, азарт, интрига и другие – душевные и чувственные – наполнители. В политике, как известно, возраста нет, и поэтому он принимал в расчет возраст (причем чужой) только в зависимости от политической конъюнктуры. Он с одинаковым ожесточением расправлялся и со старыми партийными кадрами, и с молодыми лидерами комсомола, и даже с детьми. Достаточно вспомнить хотя бы знаменитый Указ Верховного Совета СССР о возможности приговора к расстрелу детей начиная с 12-летнего возраста. На дореволюционном Кавказе это примерно тот возраст (13 лет), когда мальчик начинает считаться мужчиной, поскольку способен держать оружие и жениться, а девочка может быть выдана замуж. А раз так, раз они взрослые, значит, они подсудны и подрасстрельны. Так что никаких моральных запретов в связи с возрастом для Сталина не существовало. Себя же, внутренне, он ощущал бодрым, вечно молодым, мощным сгустком энергии и воли. Да, он задумывался о смерти, но и о возможности бессмертия; его мучили физические недуги, но он размышлял и о медицинских возможностях бесконечного продления жизни. Когда же надвигавшаяся старость его все же пугала, он прогонял это привидение ночными гулянками, молоденькими женщинами, сладострастным уничтожением более молодых соперников и, на худой конец, – бодряческими заклинаниями. Эти ритуальные заклинания произносили не только верноподданные. Он сам демонстрировал бодрость как основу своей философии жизни. Вот образчик одного из таких заклинаний (цитата из письма к Демьяну Бедному): «Философия “мировой скорби” не наша философия. Пусть скорбят отходящие и отживающие. Нашу философию довольно метко передал американец Уитмен: “Мы живы, кипит наша алая кровь огнем неистраченных сил”. Так-то, Демьян»[505].
Глава 2
Размышления по поводу помет Сталина на страницах романа Л. Н. Толстого
«Ха-ха» графу Толстому от товарища Сталина
Книга Л. Н. Толстого «Воскресение», находящаяся ныне в архиве Сталина, вышла в издательстве «ACADEMIA» с рисунками Л. О. Пастернака в 1935 году. В верхнем правом углу титульного листа сталинского экземпляра красным карандашом нарисована рамка, а в ней надпись почерком, похожим на руку вождя: «Св. Ст.» (Светлана Сталина). Возможно, он обращал внимание дочери на эту книгу или предполагал ее подарить. В 35-м году дочери было около 10 лет, слишком юный возраст для восприятия философского романа. Скорее всего, эта надпись, как и другие пометы, красным карандашом была сделана значительно позже 1935 года. Мне сначала показалось, что эти пометы принадлежат повзрослевшей Светлане Аллилуевой. Но другие пометы и надписи простым карандашом, без сомнения, сделаны рукой Сталина. В книге много бумажных закладок, но кто их туда положил – Сталин или архивисты и исследователи, сказать теперь трудно. Если большинство книг, о которых я уже упоминал, он впервые прочитал после революции, то с романами Толстого вполне мог познакомиться и раньше. Многие мемуаристы упоминают произведения Толстого, якобы входившие в круг чтения будущего вождя. В дореволюционном публицистическом наследии Кобы я не обнаружил следов его серьезного знакомства с классиками русской художественной литературы. Гоголь и Чехов – вот, пожалуй, и все. Зато после революции, и особенно в период между серединой 20-х и концом 30-х годов Сталин читал и перечитывал по нескольку раз многие выдающиеся художественные произведения эпохи. О том, как плохо дети знают внутреннюю и интеллектуальную жизнь своих родителей, лишний раз говорит такой факт – спустя много лет после смерти отца Светлана Аллилуева заявила, что «в искусстве, кроме чистой пропаганды, отца больше всего привлекали, как жанр, сатира, юмор… Отец не любил поэтического и глубоко-психологического искусства. Я никогда не видела, чтобы он читал стихи… Не видела на его столе Толстого или Тургенева»[506]. Заявление о Толстом тем более кажется странным, если учесть сталинскую надпись на книге: «Св. Ст.». Следовательно, и пометы красным карандашом принадлежат не ей, а отцу. Эту книгу дочь никогда не видела. Наибольшее количество русской и зарубежной классики Сталин прочитал перед Второй мировой войной, когда дочь была еще очень юной и поэтому не способна была оценить интеллектуальный уровень жизни отца. В то же время, как это часто происходит во многих семьях, взрослея, дочь все более отчуждалась от родителя и все меньше имела желания и возможности заинтересованно наблюдать и вникать в его внутреннюю жизнь. Отсюда следует, что он с 1935 года этот роман внимательно прочитал дважды и с карандашом в руке.
Фигура Толстого издавна интересовала видных большевиков. Дело не только в том, что он был крупнейшим писателем и мыслителем эпохи, но и в том, что в отличие, предположим, от Ф. Достоевского, Толстой терпимее относился к социалистическим идеям в целом и до 1905 года с осторожным пониманием приглядывался к революционному движению. Толстой подметил истоки социалистических идей в евангельском христианстве и приложил свою руку художника к написанию портретов добросовестно заблуждающихся, с его точки зрения, революционеров-страстотерпцев. Антигосударственная, антицаристская, антиклерикальная направленность проповеди Толстого была близка большинству революционеров. Ленин, как известно, сочувственно отозвался на смерть писателя в 1910 году. Сталин не мог не читать хотя бы отдельные публицистические произведения Толстого, широко печатавшиеся до революции в газетах. Наверняка он читал и какие-то художественные произведения, о чем свидетельствуют однокашники Кобы по семинарии. То же «Воскресение» сначала публиковалось частями в популярном журнале «Нива» и в различных газетах. До революции вышло около сорока изданий этого романа, впрочем, сильно исковерканных цензурой. Но Сталин, скорее всего, прочитал роман только в середине 1930-х годов в этом самом академическом издании, которое и сейчас находится в его архиве.
Очевидно, роман получил сильный отзвук в душе Сталина, вызвал серьезные раздумья и воскресил воспоминания о годах ссылок, тюрем, этапов. Воспоминаниям о пройденных этапах и тюрьмах он любил предаваться еще до революции. И после революции он иногда уносился мыслями в смрадную атмосферу тюремных камер, вспоминал совместные попойки с «благородными» уголовниками, коллег-революционеров разных партий и различных калибров. Но некоторые строчки романа не только высвечивали картины прошлого, а делали как бы прозрачными, просветляли его собственные смутные мысли по важнейшим жизненным, политическим и философским вопросам. Не все, конечно, Сталин воспринимал в романе всерьез, что-то вызывало взрывы издевательского хохота. Что ж, ведь и Ленин, говоря с уважением о Толстом «как зеркале русской революции», насмешничал над его любовью к «рисовым котлеткам», над его «революционной мягкотелостью» и дряблым «непротивлением злу насилием». Тогда Ленин писал: «Толстой смешон, как пророк, открывший новые рецепты спасения человечества…»[507]
Сталин, читая роман, расхохотался трижды – и каждый раз по самым существенным пунктам толстовской этики.
Первый раз – пробегая глазами знаменитое начало романа, в котором описывается весна в городе, а по существу противопоставляется животворящая естественная природа каменному индустриальному противоестеству городской цивилизации и ее бюрократии. Именно в этом месте, жирно отмеченном на полях сталинским карандашом и раскатисто крупными буквами: «ХА-ХА-ХА», находится ключевая для философии Толстого фраза:
«Но люди – большие, взрослые люди – не переставали обманывать и мучить себя и друг друга. Люди считали, что священно и важно в это весеннее утро, не эта красота мира божия, данная для блага всех существ, – красота, располагающая к миру, согласию и любви, а священно и важно то, что они сами выдумали, чтобы властвовать друг над другом»[508].
Может быть, Ленин или другие высоколобые большевики в свое время настроили Кобу на столь веселый лад по отношению к толстовской этике, или Сталину самому почудились знакомые по семинарии ханжески нравоучительные поповские нотки, – не знаю. Второй взрыв смеха вызвал пассаж Толстого в конце заключительной части романа. Толстой описывает, как князя Нехлюдова (главного героя романа, прошедшего, рядом с Катюшей Масловой, как по крестному пути в Иерусалиме, по царским тюрьмам России) вдруг озаряет понимание способа спасения от огосударствленного зла. Остро заточенным простым карандашом Сталин подчеркнул текст, а сбоку на полях приписал «ХА-ХА» по такому поводу: «И с Нехлюдовым случилось то, что часто случается с людьми, живущими духовной жизнью. Случилось то, что мысль, представлявшаяся ему сначала как странность, как парадокс, даже как шутка, все чаще и чаще находя себе подтверждение в жизни, вдруг предстала ему как самая простая, несомненная истина. Так выяснилась ему теперь мысль о том, что единственное и несомненное средство спасения от того ужасного зла, от которого страдают люди, состояло только в том, чтобы люди признавали себя всегда виноватыми перед богом и потому неспособными ни наказывать, ни исправлять других людей. Ему ясно стало теперь, что все то страшное зло, которого он был свидетелем в тюрьмах и острогах, и спокойная самоуверенность тех, которые производили это зло, произошло только оттого, что люди хотели делать невозможное дело: будучи злы, исправлять зло. Порочные люди хотели исправлять порочных людей…»[509]
Странно было бы, если бы эта толстовская мысль не вызвала у Сталина, прошедшего через те же царские тюрьмы, взрыв саркастической реакции. Вся его жизнь, как и жизнь большинства революционеров, тем более большевиков, была положена на алтарь борьбы с насилием средствами насилия же. Но не российские революционеры и тем более не Сталин первыми открыли этот способ преобразования мира. И хотя Маркс после вереницы всемирно-исторических революций прямо заявил, что насилие есть повивальная бабка истории, он тоже не первооткрыватель. Человечество коллективно вносит в мировое историческое пространство все более весомую меру насилия простым фактом своего существования. Просто жить – это значит ежеминутно, ежечасно совершать насилия над собой, над окружающими, над природой. И чаще такого рода насилие есть всего лишь способ отстаивания своего права на жизнь. Все дело в мере, и все живое, кроме человека, знает эту меру. Мера насилия, способствующая всеобщей жизни и коллективной организации, не должна превышать меру, сверх которой начинается угнетение, рабство, умерщвление. Всю свою историю человечество мечется в поисках этой меры, раз за разом все более загребая в сторону безмерного насилия.
Я не думаю, что похожие мысли сопровождали сталинский смех. Может быть, он рассмеялся потому, что отлично помнил, как порочные люди пытались вытравить из него «зло» в семинарии? Еще более порочные люди «исправляли» его в тюремных камерах, и это он помнил. То же самое было во время революции и после нее – красные пытались исправить белых, а те – красных… Но в то же время, если кто-то не будет постоянно пытаться исправлять зло насилием и наказывать, люди, как голодные крысы, сожрут друг друга заживо.
Скорее же всего, ход его мысли был такой: все это «пустяки» (любимое словечко), прекраснодушная болтовня. Надо быть «практиком» на своей земле, дело надо делать – «лес рубят, щепки летят», новое всегда строят с помощью топора, даже «царство божие на земле», и т. д.
В третий раз он рассмеялся, когда Толстой процитировал мысли Нехлюдова, раз за разом перечитывавшего Нагорную проповедь Христа, которая устанавливала, как считал Толстой, «…совершенно новое устройство человеческого общества, при котором не только само собой уничтожилось все то насилие, которое так возмущало Нехлюдова, но достигалось высшее доступное человечеству благо – царство божие на земле»[510]. Двоекратное «ха-ха» вам на это, Лев Николаевич, от товарища Сталина!
В остальном Сталин серьезно отнесся к роману. Характер помет позволяет выявить те проблемы, которые больше всего волновали вождя, и вопросы, на которые он в эти задымившиеся по его инициативе большой кровью годы искал в «Воскресении» ответы.
«Народ» Льва Толстого
Сталин не мог пройти мимо толстовского образа-видения, врезающегося в память навечно:
«Из всего того, что видел нынче Нехлюдов (в тюрьме. – Б. И.), самым ужасным ему показался мальчик, спавший на жиже, вытекавшей из парахи, положив голову на ногу арестанта»[511].
Так, не увлажняя ханжески глаз, Толстой-Нехлюдов увидел разом и настоящее, и будущее состояние своего народа. Но главным, что отслеживал Сталин в этой теме, был мотив вины и покаяния перед обиженным народом. В разгар дискуссии политзаключенных о том, можно ли силой навязывать людям пути их освобождения из рабства, Нехлюдов задает вопрос молчавшей Катюше Масловой о том, что она (бывшая проститутка) думает о народе.
«– Я думаю, обижен простой народ, – сказала она, вся вспыхнув, – очень уж обижен простой народ»[512].
Обижен же простой народ тем, что живет в тяжелейших, почти скотских условиях, лишенный средств пропитания, то есть земли и самого необходимого. Нехлюдов-Толстой с нарастающим удивлением как бы заново разглядывает крестьянский быт, хотя сам был потомственным помещиком и крепостником:
«– А что вы обедать будете?
– Что обедать? Пищея наша хорошая. Первая перемена хлеб с квасом, а другая – квас с хлебом, – сказала старуха, оскаливая свои съеденные до половины зубы.
– Нет, без шуток, покажите мне, что вы будете кушать нынче.
– Кушать? – смеясь, сказал старик… – Покажи ему, старуха».
Барин поспешил уйти: «– Ну, прощайте, – сказал Нехлюдов, чувствуя неловкость и стыд, в причине которых он не давал себе отчета»[513].
Фразу о чувстве стыда Сталин также отметил на полях простым карандашом. И другую, близкую по смыслу мысль Сталин таким же способом выделил. Из моральных соображений Нехлюдов продал свою землю крестьянам по дешевке, но не испытал удовлетворения от содеянного:
«Чем он был недоволен, он не знал, но ему все время чего-то было грустно и чего-то стыдно»[514].
Стыд не оставил Нехлюдова даже тогда, когда он решил отдать оставшуюся землю крестьянам бесплатно, но:
«Мужики молчали, и в выражении их лиц не произошло никакого изменения», – подмечает Сталин вслед за Нехлюдовым[515].
Роман «Воскресение» – это по-толстовски воображенное покаяние. И первым, перед кем кается Толстой-Нехлюдов, стал «народ», представший пред ним в облике крестьянства.
Именно в те годы, когда Сталин с простым карандашом в руке штудировал «Воскресение», СССР трясло от недавних последствий коллективизации и индустриализации, вообще лишивших крестьян собственной земли и выкинувших значительную их часть в города, в жерло советской технической модернизации. Другая их часть гибла в сибирских лагерях или умирала голодной смертью в колхозах. Испытывал ли Сталин чувство вины, пусть втайне, пусть наедине с самим собой? Может быть, он, как и Нехлюдов, испытывал стыд перед крестьянами и поэтому с таким вниманием фиксировал все симптомы его моральных недомоганий? Думаю, все наоборот. Ему было важно то, что чувство стыда испытывал помещик, «частник», собственник земли. Значит, и крестьянин как «собственник» так же не имеет морального права на землю, но, в отличие от моралиста и интеллигента Нехлюдова, никакого чувства стыда не испытывает. Сталин неплохо понимал крестьянскую психологию и поэтому не проявлял по отношению к нему, крестьянину, никакого пиетета, хотя пропаганда твердила обратное. Ни в юности, ни позже Сталин не имел прямого отношения к земледельческому труду (как и к любому другому), но он сам был потомком крестьян, много жил среди них в ссылках, до революции постоянно встречался с выходцами из деревни в индустриальных городах Закавказья. Он любил, когда со стороны в нем подмечали черты крестьянской хитрованности. Думаю, не без подсказки «крестьянскую» основательность подметили в нем и А. Барбюс, и Л. Фейхтвангер, и другие «иконописцы» прижизненного сталинского образа. В художественных фильмах он часто изображался с лопатой в руке, возделывающим свой сад-огород, обрабатывающим розы и плодовые деревья. И в жизни он иногда любил демонстрировать гостям свою любовь к сельхозработам в оранжерее и на участке. Но крестьян-народ он содержал в своем государстве как новый «всесоюзный барин»: государственная барщина, государственный оброк, солдатчина, беспаспортное крепостное состояние.
Самодовольство аристократии
Как известно, Нехлюдов в романе Толстого медленно и с трудом освобождается от моральной нечистоты своего класса. Долгий путь к «воскресению» сопровождается рецидивами, возвращениями в привычный мир довольства, уюта, культуры. Именно на описаниях барственных рецидивов задержалось внимание Сталина. Нехлюдов после мытарств с этапниками, по тюрьмам и дорогам Сибири, и «долгого лишения не только роскоши, но и самых первобытных удобств», приходит на прием в сановный дом:
«Эта тонкая лесть (хозяйки. – Б. И.) и вся изящно-роскошная обстановка жизни в доме генерала сделали то, что Нехлюдов весь отдался удовольствию красивой обстановки, вкусной пищи и легкости и понятности отношений с благовоспитанными людьми своего привычного круга, как будто все то, среди чего он жил в последнее время, был сон, от которого он проснулся к настоящей действительности»[516].
«И Нехлюдову, после хорошего обеда, вина, за кофием, на мягком кресле, среди ласковых и благовоспитанных людей, становилось все более и более приятно. Когда же хозяйка, по просьбе англичанина, вместе с бывшим директором департамента сели за фортепиано и заиграли хорошо разученную ими 5-ю симфонию Бетховена, Нехлюдов почувствовал давно не испытанное им душевное состояние полного довольства собой, точно как будто он теперь только узнал, какой он был хороший человек»[517].
Напомню, что Сталину второй половины тридцатых годов тоже были знакомы подобные чувства «довольства собой» и открытия самого себя в обстановке пиров и застолий как «хорошего человека». С годами его все больше тянуло к суррогатам великосветских раутов и «интеллигентских» вечеров с пианино, на котором играл Жданов, с певцами и артистами и т. п. аксессуарами. Но, в отличие от Нехлюдова, он этим не возвращался в привычную среду веками обустроенной жизни. В действительности все было наоборот – он был вырван силой обстоятельств из нищеты, ссылок и опасностей и вознесен на вершину людской пирамиды так, как ни графу Толстому, ни князю Нехлюдову не снилось. Не отставали от него и другие крупные советские сановники. Впрочем, опасностей там, наверху, было много больше.
Внимание Сталина задержалось еще на одном из образов благополучного класса людей. Это был Сковородников, один из тех чиновников, кто принял решение оставить без изменения, «из нравственных» соображений, несправедливый приговор Катерине Масловой:
«Сковородников был материалист, дарвинист, и считал всякие проявления отвлеченной нравственности или, еще хуже, религиозности не только презренным безумием, но и личным себе оскорблением»[518].
Сковородникову была противна не столько сама женщина, сколько ситуация – «возня с этой проституткой», ее присутствие в Сенате, желание Нехлюдова жениться на ней. Судя по этому тексту Толстого, быть материалистом и дарвинистом, испытывать неприязнь к «отвлеченной нравственности» могли не только революционеры и большевики, но и представители «эксплуататорских классов». Сталин взял себе эту мысль на заметку, но обратил ли он внимание на то, что человек, придерживающийся таких «прогрессивных» взглядов, без всякого зазрения совести походя совершает подлость?
Карандаш Сталина отметил и художественную характеристику нового класса людей, который был представлен молодым купцом-золотопромышленником, являвшим собой «совершенно новый и хороший тип образованного – прививка европейской культурности на здоровом мужицком дичке»[519].
Формула исчисления нравственности революционера
Продолжая традиции классического европейского романа XIX века, Толстой каждой фигуре придавал не только живой человеческий облик, но еще и нагружал ее (иногда сверх меры) признаками типического. Так, Нехлюдов символизировал мечущуюся, умную душу человека, стремящуюся к воскресению. Катюша Маслова – наивная, поруганная любящая душа, выбирающаяся из гнилого болота на твердую почву нравственного существования. Дети, рожденные распутной матерью Катерины, формальным образом крещеные и тут же сознательно брошенные ею на голодную смерть, – символы родины и ее народа. Образы революционеров в «Воскресении» вместе и в отдельности символизируют некие фундаментальные, как представляется Толстому, черточки типичных революционеров. При тяге Сталина к каноническим формам умозаключений он не мог пройти мимо обобщающих наблюдений Толстого, характеризующих духовный мир революционеров. Но обратим внимание на то, как Сталин трансформирует размышления писателя.
По наблюдению Толстого-Нехлюдова, среди революционеров, как и среди обыкновенных людей, было три рода: искренне боровшиеся с существующим злом, эгоистичные и тщеславные люди и большинство – любители риска, авантюрной игры своей судьбой и жизнью. Но вместе они отличались тем, «что требования нравственности среди них были выше тех, которые были приняты в кругу обыкновенных людей. Среди них считалось обязательными не только воздержание, суровость жизни, правдивость, бескорыстие, но и готовность жертвовать всем, даже своею жизнью, для общего дела». Не будем излишне придираться к непоследовательности Толстого, зачислившего в круг высоконравственных людей и тех, кто пошел в революцию из эгоизма и тщеславия. Любое сложное явление не может быть рассмотрено формально, непротиворечиво. Именно клубки противоречий являются сутью очень сложных явлений. И в этой книге о Сталине я не способен избежать вопиющих противоречий, особенно в оценках. Очень надеюсь, что именно они откроют нечто большее в характере вождя и в сущности сталинизма.
В типографии книга Толстого была набрана мелким, убористым шрифтом, плотно расположенным на странице. Поэтому Сталин, вопреки обыкновению, после первой страницы романа вынужден был отбросить карандаш с любимым толстым грифелем и использовать карандаш тонко заточенный, оставляющий заметные, но слабые отметины. Вслед за только что процитированным текстом Сталин подчеркнул: «И поэтому те из этих людей, которые были выше среднего уровня, были гораздо выше его, представляли из себя образец редкой нравственной высоты; те же, которые были ниже среднего уровня, были гораздо ниже его, представляли из себя часто людей среднего уровня, притворяющихся и вместе с тем самоуверенных и гордых»[520].
Внимание Сталина сфокусировано на первой части фразы, на том, как Толстой характеризует разряд революционеров высокой нравственности, и отключается там, где речь идет о противоположном полюсе. Пока Толстой предложил всего лишь общую теорию вычисления уровня нравственности. Но вот он понуждает своего героя применить ее на практике. И Нехлюдов занялся исчисленьями уровня духовного потенциала одного из революционеров:
«Умственные силы этого человека – его числитель – были большие; но мнение его о себе – его знаменатель – было несоизмеримо огромное и давно уже переросло его умственные силы».
И здесь же Сталин на полях слева тоненько приписал собственноручно выведенную формулу:
«Ум/Самомнение»[521].
Толстой так увлек Сталина своими нравственными исчисленьями революционного сознания, что недавний революционер и нынешний вождь проследил эту линию романа до самого конца.
Один из героев романа – революционер, подвергшийся строгому нравственному анализу «по Толстому», встал на путь борьбы из тщеславия, из желания первенствовать. «Сначала, – пишет Толстой, а Сталин подчеркивает, – благодаря своей способности усваивать чужие мысли и точно передавать их, он в период учения, в среде учащих и учащихся… имел первенство, и он был удовлетворен». Затем, когда он перестал учиться и усваивать чужие мысли, то потерял первенство. Чтобы его вернуть, он переменил взгляды, стал красным и занял положение руководителя партии. «Раз выбрав направление, – читает Сталин далее с карандашом в руке, – он уже никогда не сомневался и не колебался и потому был уверен, что никогда не ошибался. Все ему казалось необыкновенно просто, ясно, несомненно… Самоуверенность его была так велика, что она могла только отталкивать от себя людей или подчинять себе. А так как деятельность его происходила среди очень молодых людей, принимавших его безграничную самоуверенность за глубокомыслие и мудрость, то большинство подчинялось ему, и он имел большой успех в революционных кругах. Деятельность его состояла в подготовлении к восстанию, в котором он должен был захватить власть и созвать собор… Товарищи уважали его за его смелость и решительность, но не любили. Он же никого не любил и ко всем выдающимся людям относился как к соперникам и охотно поступил бы с ними, как старые самцы-обезьяны поступают с молодыми, если бы мог. Он вырвал бы весь ум, все способности у других людей, только бы они не мешали проявлению его способностей. Он относился хорошо только к людям, преклонявшимся перед ним»[522].
Я теряюсь, я не знаю, как все это непротиворечиво объяснить. На кого или на какие представления проецировал Сталин характеристики Толстого? На кого-то из своих врагов? Но какой смысл искать у писателя то, о чем он и сам постоянно твердил со всех партийных трибун? Но еще в большей степени я не могу поверить в то, что он вдруг увидел собственное отражение в толстовском зеркале. Признаться, пусть и наедине с собой, что ты начетчик, перепевающий чужие мысли, способный только на то, чтобы морочить голову незрелым юнцам, что ты самоуверен и с легкостью кардинально меняешь политическую окраску, и что безобразно падок на лесть и поэтому хорошо относишься только к тем, кто преклоняется пред тобой, признаться во всем этом немыслимо, невозможно. Невозможно не только Сталину с его гипертрофированным комплексом нарциссизма, немыслимо признаться вообще любому человеку. Еще Достоевский в «Идиоте» устами одного из героев (Ганечка) заявил, что лучше человека обвинить в каких угодно смертных грехах и преступлениях, считать его отпетым негодяем, чем заподозрить в нем отсутствие хоть каких-то талантов и способностей. Признать это – все равно что добровольно самоуничтожиться. Чувство самосохранения распространяется не только на нежную человеческую плоть, как бы она ни была безобразна, но и на душу и на интеллект, как бы они ни были ущербны. Даже если человек знает, что он не умен, уродлив и нечестен, он будет убеждать других и еще больше себя в обратном. Но так же как тело иногда невозможно сохранить без серьезного хирургического вмешательства, так и душа требует, чтобы и ее хоть иногда очищали от скверны. Неужели здесь Сталин наедине с самим собой позволил себе самокритично посмотреть на свое отражение в зеркале, подставленном семидесятилетним Толстым? В конце книги, где автором была проставлена дата ее завершения: «16 декабря 1899 года», Сталин дописал: «70-ти лет».
Обратим внимание на ту часть процитированного текста Толстого, в котором он сравнивает своего революционного вождя со старым самцом-обезьяной, вырывающим «все способности» у молодых особей, только бы они не мешали проявлению его способностей. В своей текущей кадровой политике Сталин точно придерживался рецепта старого самца-обезьяны. Так Лев Николаевич Толстой объяснил стареющему вождю смысл психоаналитической теории Зигмунда Фрейда и метод борьбы за либидо в обезьяно-человеческом стаде.
И снова женщина
Все романы Толстого населены большим числом женщин; иногда они играют равные с мужскими образами роли. В двух романах – в «Анне Карениной» и в «Воскресении» – женщины главные героини. В первом случае – аристократка, бегущая от серых буден и возмечтавшая о свободной любви, во втором – проститутка, стремящаяся к обыденному счастью. В русской классической традиции романа, которой следовали и Толстой, и Достоевский, и большинство известных отечественных писателей XIX–XX веков, проститутка, или «падшая женщина», женщина «легкого поведения», «содержанка», «соблазненная и покинутая» и т. д. – существо страдательное, жертва злой воли, житейских или социальных обстоятельств. Культивирование страдальческого образа проститутки в российском общественном сознании было связано, с одной стороны, с христианской традицией, с образом Марии Магдалины – одной из первых поверившей в божественность Христа, раскаявшейся и потому причисленной к сонму святых дев. С другой же стороны, оно связано с реалиями крепостной и особенно посткрепостной России, когда женщины низших сословий становились в барских усадьбах и городских особняках жертвами сексуального насилия и соблазна, а главное – жертвами обнищания городского и сельского населения. Судя по распространенности сюжета, история соблазненной барином воспитанницы, гувернантки или молодой горничной была довольно типична, и так же типично было декларируемое сочувствие. Но, пожалуй, только Толстой спроектировал городской проститутке не крестный путь по мукам, на манер Достоевского, с параллельным духовным возрождением через сострадание к ближнему, а – каторжный этап рядом с близким человеком, дорогу в революцию. Не знаю, стала ли хоть одна представительница древнейшей профессии профессиональной революционеркой (история на этот счет отмалчивается), не знаю и того, встречал ли их Коба на своем революционном пути? Но Катерина Маслова, на мой взгляд, довольно блекло описанная 70-лет ним графом, почти не привлекла к себе внимание Сталина. Только на одной странице романа дважды зацепился его карандаш за текст. Ближе к концу этапа, когда все отчетливее проявляются признаки морального выздоровления и Нехлюдова и его жертвы – Масловой, для нее открывается перспектива новой духовной жизни, а сама она начинает высоко оцениваться праведными женами-революционерками. Сталин небрежной кривой чертой отметил на полях диалог Нехлюдова и одного из революционеров:
«– Что же я могу сказать? – сказал Нехлюдов. – Я рад, что она нашла такого покровителя, как вы…
– Вот это-то мне и нужно было знать, – продолжал Симонсон. – Я желал знать, любя ее, желая ей блага, нашли ли бы вы благом ее брак со мной?
– О да, – решительно сказал Нехлюдов.
– Все дело в ней, мне ведь нужно только, чтобы эта пострадавшая душа отдохнула, – сказал Симонсон…»[523]
Диагноз духовного и нравственного воскресения Масловой, поставленный влюбленным мужчиной Симонсоном, вызывает интуитивное недоверие, что почувствовали, видимо, не только Нехлюдов, но и писатель и вождь. Поэтому Толстой заставляет Марию Павловну, как идеал девственной женской нравственности в романе, подтвердить диагноз:
«– Она? – Марья Павловна остановилась, очевидно, желая как можно точнее ответить на вопрос. – Она? – Видите ли, она, несмотря на ее прошедшее, по природе одна из самых нравственных натур… и так тонко чувствует…»[524]
Перед нами сугубо мужское умозаключение, вложенное Толстым в уста женщины. Вряд ли хоть одна «добропорядочная» женщина позволит себе простить другой женщине полноту испытанной ею сексуальной свободы, а затем признать ее нравственной, то есть равной себе. Другое дело мужчина, – когда он видит заинтересовавшую его женщину, он мыслит ее доступной для себя, то есть свободной, даже если ему известно, что это не так. Здесь лежат истоки мужской «теории» расщепления женской сущности: при невозможности навечно закрепления за собой желанного женского тела, хотя бы претендовать на «вечную» верность менее осязаемой женской души. Тело может передаваться многим, душа же – сама по себе. При любых обстоятельствах она может оставаться высоконравственной. Толстой здесь лишь художественно выразил то, о чем начинает додумываться любой подросток с момента полового созревания. Полюбивший Маслову Симонсон поступил именно так, как поступает большинство мужчин, предполагающих, что именно они силой своей любви смогут удержать при себе и тело, и душу женщины. Более рассудочным Нехлюдовым двигало великодушие, которое вечно ожидает ответной благодарности. Читая роман во второй раз уже с красным карандашом в руке, Сталин вновь задержался на взаимоотношениях любовного «треугольника»:
«Нехлюдов предлагал ей брак по великодушию и по тому, что было прежде; но Симонсон любил ее такою, каковой она была теперь, и любил просто за то, что любил»[525]. Вспомним, что Сталин в свое время не пошел на «брак по великодушию» с Лидией Перепрыгиной.
Недаром авторами всех господствующих социальных теорий выступают мужчины. Не случайно и то, что все прогрессистские социальные теории исходят из того же мужского оптимизма – прошлое человека и человечества, как бы оно ни было греховно и безнравственно, преодолимо и возрождение всегда возможно. Для бывшего профессионального христианина, практика-большевика и бабника Сталина толстовская мысль была близка и понятна.
В соответствии с той же «мужской» философией, когда свобода женщины рассматривается как ее сексуальная свобода для тебя, а ее нравственность как проявление любви и верности тебе, выстраивается и другой, казалось бы, противоречащий первому тезис. Мы помним, как еще Светлана Аллилуева отмечала, что Сталин публично выступал за равноправие женщин, но на самом деле не любил женщин самостоятельных, считал их по большей части существами недалекими, а в семье был сторонником патриархальных отношений между супругами. Поэтому не удивляет то, что Сталин отметил в романе и такой пассаж:
«Хотя он принципиально и был за женский вопрос, но в глубине души считал всех женщин глупыми и ничтожными, за исключением тех, в которых часто бывал сентиментально влюблен так, как теперь был влюблен в Грабец, и тогда считал их необычайными женщинами, достоинства которых умел заметить только он»[526].
Несмотря на то что Толстой вещает здесь от имени души мало любимого им персонажа, каждый, как и Сталин, может найти знакомые мысли и ощущения. Для любовного чувства нужно, чтобы объект любви выделялся на общем фоне. А при отсутствии яркого накала у любовного объекта психологически гасится окружающий «фон». И тогда действительно все остальные женщины на время влюбленности кажутся глупыми и неинтересными.
Что бы ни твердили сторонники равноправия полов, в человеческом обществе господствуют вечные мужские идеалы женщин. И дело здесь не в мужском шовинизме, а тысячелетиями выработанных представлениях о человеческом счастье, которое достигается в момент наиболее полного слияния «Его» и «Ее». Этот момент, это почти полное единство двоих способна выстроить именно женщина, а не мужчина. Поиски такого единства гонят наиболее активных мужчин от одной женщины к другой. Мужская мечта абсолютной совместности изложена Толстым через такой женский образ:
«Но, раз полюбив и выйдя замуж за самого, по ее убеждениям, хорошего и умного человека на свете, она, естественно, понимала жизнь и цель ее точно так же, как понимал ее самый лучший и умный человек на свете…
И ей казалось, что она действительно так думает и чувствует, но, в сущности, она думала только то, что все то, что думает муж, то истинная правда, и искала только одного – полного согласия, слияния с душой мужа, что одно давало ей нравственное удовлетворение»[527].
Даже Толстой не смог предусмотреть того, что через десять лет после опубликования этих строчек он во имя высших нравственных соображений бросит постаревшую жену, с которой ему за многие десятилетия совместной жизни так и не удалось достичь полного душевного слияния. Утопия может быть не только инженерной или социальной, но и нравственной. Мужская нравственная утопия тем и хороша, что она универсальна. Как и подавляющему большинству мужчин, она была близка и Сталину, который, конечно же, изменял жене и при ее жизни и после смерти, но в мечтах не прочь был иметь при себе верную женину душу. Она же выстрелом в висок убила ее или… отпустила на волю.
Тюрьма как зеркало Российского государства
Не может быть никаких сомнений, что, отправляя на каторгу и на расстрел миллионы людей, Сталин делал это в здравом уме, расчетливо, холодно и заранее взвешивая все последствия. Ужесточая из года в год советский тюремный и лагерный режимы, он, конечно, помнил начальную, так сказать, точку – уровень жестокости царской тюрьмы и каторги. Советские тюрьмы по этому показателю на порядок превосходили царские. Это, по крайней мере, доказывает, что он не испытывал ни малейшего сочувствия к тем новым страдальцам, которых часто знал лично. Считается, что закоренелый убийца и садист – это человек, лишенный воображения, потому и сострадания, не способный представить себя в роли жертвы и перенести на себя чужие боли и страхи. Сталин же сам побывал в роли жертвы репрессивной государственной машины. Правда, жертвы, заслуженно, с точки зрения того, дореволюционного государства, понесшей наказание. Ведь он с товарищами делал все, что было им по силам, чтобы его разрушить.
Проведя в тюрьмах и ссылках в общей сложности около восьми лет, он наверняка встречал невинно осужденных людей, их на российской каторге всегда было с избытком. В России во все времена это были жертвы судебных ошибок, злой воли какого-нибудь негодяя или рокового стечения обстоятельств. Неизвестно, сочувствовал ли он этим людям там, в Сибири, или когда встречался с ними в камерах царских тюрем. Но то, что он особенно злобно ненавидел невинно осужденных его судьями, общеизвестно. Как утверждает дочь, ненавидя, он просто вычеркивал людей из своего сознания. Я не думаю, что Сталин был способен волевым усилием действительно забывать имена или лица убиенных и замученных по его вине. Похоже, что на это вообще никто не способен. Толстой в дневнике за 1905 год записал: «Я получил радость или оскорбление. В настоящем нет ни радости, ни оскорбления, оно начинает действовать только в воспоминании. Из бесчисленного количества впечатлений, которые я получал, я очень многие забыл, но они оставили следы в моем духовном существе. Мое духовное существо образовано из них…»[528] Душа-индивидуальность соткана из огромного количества впечатлений, над которыми мы не властны, пока их оценивает совесть, участвующая в каждом нашем поступке. Но по мере огрубения, а затем омертвления души совесть подменяется рацио, то есть расчетом. Именно это происходило с душою Сталина. Он был расчетлив и поэтому был способен переводить того или иного человека из той части своего сознания, где располагались эмоции со знаком «плюс» и люди, к которым он испытывал временное расположение и доверие, в ту часть, где сосредоточились эмоции со знаком «минус» и люди, к которым он испытывал неприязнь и которых страшился. Поскольку этот процесс не был спонтанен, то есть душевен, как у большинства людей, а рационально регулировался рассудком, то при необходимости он легко переводил и мертвых и живых людей из одной символической «камеры» своего сознания в другую. Вспомним хотя бы историю с К. К. Рокоссовским и другими командирами Красной армии, которых он накануне войны после пыток вернул из ГУЛАГа[529]. Подлые законы, незаконные постановления и инструкции, расстрельные списки, подписанные им и соратниками, опубликованная статистика жертв Лубянки, воспоминания и другие документы – все это свидетельствует: звание генералиссимуса ему в первую очередь следовало бы присудить за беспрецедентное в истории истребление невинных людей, а затем уж за победу над Германией. Но есть ли доказательства, что все свои злодейства он совершал, находясь в здравом уме? Они есть, и они бесспорны.
Древнейшая историческая традиция пытается объяснять жестокости, творимые тиранами, психическими отклонениями, спровоцированными внезапным овладением безмерной властью. В этом наблюдении есть очень много правды. И действительно, даже в демократических системах новый государственный лидер проходит определенную адаптацию к власти через ряд промежуточных ступеней. Когда этого по каким-либо причинам не происходит, может начаться процесс формирования авторитарной личности, даже в рамках демократии. В системах же изначально авторитарных (в том числе и монархических) времени на адаптацию к власти нового правителя может практически не быть. И тогда велика вероятность рождения кровожадного монстра из человека, который до власти не казался общественно опасным и вел себя как обычный представитель своего круга. Несмотря на то что вхождение Сталина, как и всех большевистских лидеров, во власть было с психологической точки зрения стремительным и, по существу, явилось как бы одномоментным переходом из глубин стесненного подполья в разряженную атмосферу властной верховной свободы, Сталин был в какой-то степени адаптирован к ней. В период Гражданской войны он, недавний сиделец станка Курейка, занимал крупные партийные и государственные должности, распоряжался судьбами и жизнями тысяч людей. В эти и последующие несколько лет он по уровню жестокости мало чем отличался от других лидеров Советского государства. Но, когда Коба пришел к единоличной власти, все стало решительно меняться.
Загадку рождения жестокого диктатора из обычного человека решают двумя способами. О первом я уже говорил – объявляют, что данный субъект изначально был неадекватен, и поэтому в благоприятной среде до предела развиваются его садистические наклонности. Во втором случае обвиняют окружение: трусливое, подхалимажное и продажное, которое, потакая человеческим слабостям, формирует из незаурядной личности человека-волка. К случаю со Сталиным применялись оба объяснения (Л. Троцкого, Н. Бухарина, Н. Хрущева), но мне кажется, они к нему совершенно не подходят. Я думаю, они не подходят и для объяснения большинства других случаев феномена единоличной диктатуры.
Внутренняя жизнь человека устроена таким образом, что она может расщепляться на отдельные параллельно сосуществующие отсеки. В одном из «отсеков» живет и развивается интеллектуал и беспринципный политикан, в другом – скромный семьянин, а представится случай – развратник, в третьем – вдумчивый, великодушный человек, способный многое понять и простить, но принципиально не подающий милостыни нищему, и т. д. И совсем не обязательно, что кто-то из них раз и навсегда возьмет верх над всеми остальными. Они легко могут ужиться и, как правило, мирно сосуществуют друг с другом. Все люди это хорошо знают и спонтанно отрабатывают сдвоенные или строенные качества души и все их оттенки дома, на работе, в компании, в метро или на дороге в автомобиле… Так устроен любой человек, будь он правитель или бродяга.
Сталин, читающий роман Толстого в конце страшных 1930-х годов, наедине с книгой и ее персонажами был не чужд сопереживания и сострадания. Но оно, это сострадание, относилось не к людям из крови и плоти, а к литературным героям. В этот момент в нем оживали воспоминания, а с ними – его подлинная душа – все тот же недавний семинарист, а теперь революционер Коба, правда, уже постаревший и умудренный житейским опытом, но не утративший отзывчивости и даже сентиментальности. Сцены тюремной жизни и всей обстановки, мастерски описанные Толстым, были узнаваемы и вызывали живейший отклик. Сталин наверняка всю жизнь помнил, как испугался тюрьмы, когда был арестован в первый раз, и о том, как впоследствии пообвыкнув, тюрьму и этап воспринимал уже как обыденность. Для Катерины Масловой переход от распутной и, как говорит Толстой, «развратной, роскошной и изнеженной» жизни на воле к жизни в остроге сначала с уголовниками, а затем с политическими, несмотря на тяжесть условий, не казался очень ужасным. Скорее даже, эта новая жизнь была хорошей, так как приносила моральное удовлетворение. Сталин отчеркнул красным карандашом: «– Вот плакала, что меня присудили, – говорила она. – Да я век должна бога благодарить. То узнала, чего во всю жизнь не узнала бы»[530].
Каким-то странным образом тюрьма, описываемая Толстым, превращается не просто в место мучительства и страдания виновных и невинных, а чуть ли не в место особой святости, то место, где бытовые грешники, встречаясь с идейными праведниками, приобщаются к ним. Известно, что в царских тюрьмах такое иногда происходило. В те времена уголовный мир испытывал некоторое уважение к миру политзаключенных, так как и власти, и тюремщики содержали последних в чуть более благоприятных бытовых и моральных условиях. Поэтому Сталин со знанием дела лишал советские тюрьмы малейшего ореола святости, административно возвышая в лагерной иерархии уголовников («социально близкий элемент») над политическими. «Политические» зэки сталинского времени из полусвятых страдальцев за народ периода царизма превращались официальной пропагандой и условиями заключения в самых «опущенных» и затравленных «врагов народа».
Толстой рассказывает – Катюша видела, что люди, окружающие теперь ее, были много лучше и чище людей, которых она встречала на воле. Упоминавшаяся уже Марья Павловна, как и сама Маслова, страдала невинно, взяв чужую вину на себя, и теперь «была озабочена только тем, как бы помочь кому-нибудь в большом и малом. Один из теперешних товарищей ее… шутя, говорил про нее, что она предается спорту благотворения»[531]. Красный карандаш Сталина по привычке зацепился за необычное выражение: «спорт благотворения».
Очищающее воздействие тюремной атмосферы, людей, ее населяющих, испытывает по воле Толстого не только Катерина Маслова, но и Нехлюдов. Еще при первом чтении Сталин простым карандашом отметил:
«О чем бы он ни думал теперь, что бы ни делал, общее настроение его было это чувство жалости и умиления не только к ней, но и ко всем людям.
Это чувство как будто раскрыло в душе Нехлюдова поток любви, не находивший прежде исхода, а теперь направлявшийся на всех людей, с которыми он встречался»[532].
Мое воображение отказывается представить – Сталин мог в эти годы, нет, не чувствовать, а хотя бы размышлять вслед за Толстым о любви, жалости, а главное – об умилении. Но если это не так – чего ради он фиксирует свою руку, внимание, эмоциональный центр на этой части текста? Может быть, и он через жалость и сопереживание близкой женщине когда-то испытал описываемую Толстым вселенскую любовь к людям? Толстой утверждает, что на такую любовь к людям способен не каждый. Осмелюсь высказать сомнение – мне кажется, что гениальное воображение художника в очередной раз завело Толстого в манящую перспективу нравственной утопии. Христианская тема любви к людям в догматической и абстрактной форме была знакома Иосифу по лекциям и проповедям семинарских учителей. Но тогда тема любви «к человецам» звучала как прелюдия проповеди любви и служения государству и его символам, включая царя, начальство и тюрьму. Думаю, и здесь, в романе, он отмечает знакомые мотивы, но звучащие теперь на прямо противоположном фоне морального оправдания революционного движения и гневного осуждения государственной машины, власти и церкви.
Как и большинство нравоучений, толстовская проповедь сильна именно критикой, отрицанием и осуждением. Его критика государственной власти, которая, как оборотень, под предлогом борьбы с людскими пороками тысячекратно умножает их, производит неизгладимое впечатление на любого читателя. По Толстому, тюрьма, как государственный институт наказания за преступления, на самом деле выполняет прямо противоположную роль:
«Точно как будто была задача, как наилучшим, наивернейшим способом развратить как можно больше людей, – думал Нехлюдов, вникая в то, что делалось в острогах и этапах. Сотни тысяч людей ежегодно доводились до высшей степени развращения, и когда они были вполне развращены, их выпускали на волю, для того чтобы они разносили усвоенное ими в тюрьмах развращение среди всего народа»[533].
Отчеркнуто на полях слева.
«Единственное объяснение всего совершающегося было пресечение, устрашение, исправление и закономерное возмездие, как это писали в книгах. Но в действительности не было никакого подобия ни того, ни другого, ни третьего, ни четвертого. Вместо пресечения было только распространение преступлений. Вместо устрашения было поощрение преступников, из которых многие, как бродяги, добровольно шли в остроги. Вместо исправления было систематическое заражение всеми пороками. Потребность же возмездия не только не смягчалась правительственными наказаниями, но воспитывалась в народе, где ее не было»[534].
Здесь же с левой стороны листа, рядом с линией, отчеркивавшей последний процитированный текст, Сталин печатными буквами и тем же простым карандашом написал: «Л. Т.» (Лев Толстой). Так он обычно помечал авторский текст, который предполагал использовать в дальнейшем. Именно в эти годы пропаганда твердила о необыкновенных достижениях сталинских воспитателей из ОГПУ-НКВД по перековке разного рода преступников в добропорядочных граждан. Напомню, что вообще вся Советская страна объявлялась зоной переплавки старого «буржуазного» индивидуалиста в нового «коммунистического», коллективистского человека. Даже серьезные люди на Западе с интересом наблюдали за процессами, происходящими в СССР. Зигмунд Фрейд, не веривший в возможность искусственного переформирования психики человека, тем не менее с интересом следил за всем тем, что происходило в России в этой сфере.
До революции состояние царских тюрем не было тайной ни для своих граждан, ни для иностранцев. Революционный процесс, развернувшийся во второй половине XIX века, привел к тому, что в тюрьмах появилась масса людей из дворянских и разночинных слоев, громко возмущавшаяся порядками, творившимися в них. В результате европейский мир стал более пристально наблюдать за российскими тюремными нравами, находя их жесткими и варварскими. В романе Толстой выводит двух иностранных миссионеров-проповедников. Тот из них, к которому Толстой относится доброжелательно, посещает ту же тюрьму, в которой оказалась Маслова. Но перед этим он просит разрешения на посещение тюрьмы у знакомого Нехлюдову генерала. Английский миссионер заявляет ему:
«– Я предпочитаю посещать тюрьмы вечером, – сказал англичанин, – все дома, и нет приготовлений, а все есть как есть.
– А, он хочет видеть во всей прелести? Пускай видит. Я писал, меня не слушают. Так пускай узнают из иностранной печати, – сказал генерал и подошел к обеденному столу, у которого хозяйка указала места гостям»[535].
Интерес иностранцев к российским мерзостям был не меньшим и в XX веке. Но Сталин умело использовал их любопытство, специально приглашая различных знаменитостей, которых окружали особенной заботой, часто элементарно подкупали и водили по «потемкинским» деревням. А потом в печати появлялись их восторженные репортажи и книги. Но тюрьмы и лагеря были для иностранцев почти всегда запретной зоной. Поэтому в середине 30-х годов были организованы специальные пропагандистские акции – Максим Горький совершил торжественные поездки по Беломорканалу и на Соловки и вопреки очевидным фактам освятил своим международным авторитетом сталинскую тюрьму и каторгу.
Художник может себе позволить логические неувязки, так как именно на стыке, казалось бы, несовместимых противоречий рождается действительно непротиворечивый образ явления. Толстого не смущают противоречия, когда он, с одной стороны, утверждает, что вся тюремно-полицейская система бюрократического государства множит и множит своим насилием людские преступления, ненависть и разврат, а с другой – именно благодаря этому же насилию, но в борьбе с ним идет возрождение и воскресение падших душ. Согласно логике получается – не будь государственного насилия, не было бы возможным в результате страдания духовное воскресение. И в то же время людские пороки, искореняемые насилием, поднимают ответную, еще большую волну зла и насилия. Пометы, сделанные красным карандашом, большей частью относятся к этому глубочайшему в своем противоречии тезису Толстого. Нехлюдов наблюдает, как в колонне, идущей этапом в Сибирь, люди выбиваются из сил, страдают удушьем, подвергаются издевательствам. И охранники, которые не были злодеями, а были самыми обычными людьми, просто старательно исполнявшими свой служебный долг, не испытывали ни малейшего сострадания к заключенным. Скорее наоборот: «Они не сделали этого (не оказали помощь. – Б. И.), даже мешали делать это другим только потому, что они видели перед собой не людей и свои обязанности перед ними, а службу и ее требования, которые они ставили выше требований человеческих отношений»[536].
Сталин подчеркнул эти и следующие слова все тем же красным карандашом. На протяжении романа Толстой несколько раз возвращается к образу искусственно вымощенной камнями, лишенной растительности земли как символа государства, создающего противоестественные институты насилия над естественной человеческой природой.
«То же самое и с людьми, – думал Нехлюдов, – может быть, и нужны эти губернаторы, смотрители, городовые, но ужасно видеть людей, лишенных главного человеческого свойства – любви и жалости друг к другу»[537].
И наконец, вывод, отчеркнутый Сталиным двумя красными вертикальными чертами на полях:
«Все дело в том, что люди думают, что есть положения, в которых можно обращаться с человеком без любви, а таких положений нет. С вещами можно обращаться без любви: можно рубить деревья, делать кирпичи, ковать железо без любви; но с людьми нельзя обращаться без любви так же, как нельзя обращаться с пчелами без осторожности»[538].
Примечательно, что тут же за отмеченной фразой о любви к людям идет текст: «Не чувствуешь любви к людям, сиди смирно… занимайся собой, вещами, чем хочешь, но только не людьми», но Сталин этот текст никак не отметил. Похоже, что себя он соотносил с толстовским пасечником, со знанием дела, любовно вычищающим из человеческого улья «трутней». А «народ» (как это полагалось в соответствии с российской интеллигентской традицией) – единственно подлинных тружеников, достойных нового царства, – он, конечно, любил. У нас всегда и все заявляют о любви к народу и о действиях исключительно во имя его интересов. На любви к народу (а не народа к ним!) настаивала не только интеллигенция (и либеральная, и консервативная), но и царское правительство, и государственная церковь. И все они в этом не были оригинальны: традиционно в России элементарное уважение к человеку по большей части подменяется «любовью к народу». Такая любовь мало что стоит любящему, так как объект любви не уточняем в своем абстрактном множестве.
Последняя отметка, сделанная красным карандашом, относится как раз к толстовскому образу «нового мира» и населяющему его трудовому народу: «“Да, совсем новый, другой, новый мир”, – думал Нехлюдов, глядя на эти сухие, мускулистые члены, грубые домодельные одежды и загорелые, ласковые и измученные лица и чувствуя себя со всех сторон окруженным совсем новыми людьми с их серьезными интересами, радостями и страданиями настоящей трудовой и человеческой жизни»[539].
Почти так же, такими же словами (исключая «домодельную одежду») и с той же интонацией, о народе говорили сталинские идеологи, писали литераторы, живописали художники-реалисты и школьные учителя литературы. Этот обобщенно-лучезарный лик «простого народа», как пряничная печатка перешел по наследству от аристократически мысливших интеллигентов (и славянофилов и западников) XIX века к советским мастерам идеологии. Не только стараниями Льва Толстого, но в еще большей степени стараниями других выдающихся российских деятелей разного толка, абстрактный «народ» все в большей степени вытеснял собой единого Бога, постепенно перевоплощаясь в национальный символ – «народ-богоносец». В книгах Достоевского этот идол перерос вселенские масштабы. Как для государственных деятелей, так и революционеров разных мастей борьба во имя «народа» и для блага «народа» стала бесспорным оправданием любого, в том числе и самого безбожного, гнусного поступка против человека.
И все же мне так до конца осталось непонятным – что значила для Сталина вся эта толстовская проповедь любви? Какое практическое значение она для него имела? Или это была своего рода бесплодная тренировка духа, который давно уже не подавал признаков положительной жизни? А может быть, отец просто хотел помочь дочери написать школьное сочинение на тему: «Лев Толстой…» Подобрал для нее цитаты, отмечая их красным карандашом, а потом, за государственной суетой, забыл их ей передать? Тогда эти тексты всего лишь символизируют отеческую заботу о правильном понимании дочерью классика русской литературы. До ее взросления роль заботливого отца он действительно старался исполнять исправно. И все же это не так. Когда мы перейдем к сталинскому анализу творчества Достоевского, то убедимся, что и там одной из тем, волновавших его, была любовь к людям.
От «Учителя из Назарета» к «Учителю из Тифлиса»
Я все больше убеждаюсь, что втайне Сталин тосковал по христианству. Нет, совсем не так, как, возможно, тоскует по нему мучающаяся неверием душа. И совсем не в том смысле, что он втайне продолжал его исповедовать, вынужденно демонстрируя казенный атеизм. Но, несмотря на свою безмерную свободу и власть, он не все мог позволить себе делать и все мысли выражать открыто. Ведь даже Господь чем-то ограничен, хотя бы бесконечным временем и бесконечным пространством. Советский вождь также был ограничен своим историческим временем и своим географическим пространством. Как и обычный человек, он не волен был менять исторические условия, а получил их по наследству. Сначала старый, а затем и новый режим каждый на свой манер успешно освобождались от ограничений, связанных с религиозной моралью. Властителю Сталину уже досталось послереволюционное, то есть вполне атеистическое, обезбоженое пространство-время России. И в этом качестве оно его полностью устраивало в публичной жизни, так как не создавало конкурентов ни со стороны Бога, ни со стороны Христа, ни дьявола. А наедине с собой он был совершенно свободен и нередко позволял себе вновь и вновь поразмышлять над учительским словом Христа. Но одно дело, когда вслушиваешься в слова Христа юношей, другое – зрелым мужем; одно дело, когда ты готовишься стать профессиональным христианином, то есть священнослужителем, другое – когда ты стал профессиональным революционером и Генеральным секретарем атеистической партии.
У Толстого христианский Бог присутствует на каждой странице романа. Не случайно Ленин обозвал писателя – «помещик, юродствующий во Христе»[540]. Сам Толстой проповедует от имени Христа, отвергая одни способы служения Ему и предлагая свои. Антиклерикализм Толстого общеизвестен. Почему и за что его отлучили от православной церкви и предали анафеме, знал любой его современник, читающий газеты или посещающий храм. Рука Сталина не отреагировала на сцены богослужения в тюремной церкви, на нелепости, по мнению Толстого, связанные с таинствами евхаристии, то есть превращения хлеба и вина в тело и кровь Бога. Не отреагировал он на глубоко прочувствованную Толстым фальшь внешней обрядовости богослужения, не затрагивающей ни чувства, ни разум ни у тех, кто служит, ни у тех, кто им внимает. Наверняка все это было хорошо Сталину знакомо. Но вот Толстой описывает миссионера из Европы господина Вольфа. Он специализируется на образованных кругах и проповедует в светских салонах нечто вроде евангелизма. Живая душа Нехлюдова, не принимающая фальши государственной церкви, еще в большей степени не способна переварить умилительную патоку речей заезжего словоблуда. Немного послушав его, Нехлюдов поспешил покинуть салон, а Сталин отметил:
«Нехлюдову стало так мучительно гадко, что он потихоньку встал и, морщась и сдерживая кряхтение стыда, вышел на цыпочках и пошел в свою комнату»[541].
Другого проповедника – англичанина, конфессию которого Толстой не счел нужным обозначать, Нехлюдов вынужденно сопровождает на заключительном круге своего сошествия в российскую преисподнюю. В тюрьме, среди сцен разложения и насилия, где воздух насыщен миазмами параши, дыханием туберкулезных и тифозных больных, где покойники лежат вперемешку с дровами и тряпьем, англичанин с текстами Евангелия в мешке нелеп и даже смешон. Они становятся свидетелями драки в одной из камер, и тогда англичанин счел нужным припомнить слова Христа об обидчике, которому он запретил мстить, а, напротив, предложил подставить другую щеку. Толстой заставляет православный люд ничего не знать об этой заповеди Христа и даже насмехаться над ее формулой. На предложение следовать ей Нехлюдов и англичанин слышат в ответ:
«– Этак он тебя всего измочалит.
– Ну-ка, попробуй, – сказал кто-то сзади и весело засмеялся. Общий неудержимый хохот охватил всю камеру; даже избитый захохотал сквозь свою кровь и сопли. Смеялись и больные»[542].
Может быть, единственное, что ни под каким предлогом никогда не принимал Сталин, даже в теории, как и большинство людей на земле, была проповедь непротивления. Именно она вызвала его саркастическое «ха-ха», о чем я говорил вначале. А непринимающий эту заповедь, тем более если он как будто во всем остальном следует евангельским путем, рано или поздно сойдется с Великим инквизитором. Две тысячи лет христианство терпит моральное фиаско именно потому, что христиане везде и всегда творят насилие в равной мере, как и нехристиане. В этом смысле Толстой ближе всех вернулся к истоку вероучения и именно за это был осмеян и отлучен.
Невозможно представить себе, что при обилии церквей, бывших в России, в том числе на селе, при наличии довольно разветвленной сети церковно-приходских и воскресных школ, при регулярном богослужении в военных казармах и тюремных храмах в массе своей люди ничего не слышали о главнейшей заповеди Христа. Конечно же, не раз слыхали и знали ее с рождения, но знали умом, а не сердцем и потому ничего как бы и не слыхали. В этом массовом потоке обрядовости, когда между Богом и человеком стояла огосударствленная иерархия, крайне редко наступало просветление. Оно произошло с Нехлюдовым, который в очередной раз, принимаясь самостоятельно читать Евангелие, как-то вдруг, сразу прозрел. Такое может случиться с каждым, кто настойчиво и пытливо вопрошает Учителя из Назарета. Нехлюдов открыл наугад, «как Бог на душу положит», Евангелие от Матфея и начал читать главу XVIII. «Учитель из Тифлиса» внимательно перечитал эту главу и пометил в ней простым карандашом только третий и тринадцатый стихи:
«3. И сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в царство небесное»[543].
«13. И если случится найти ее (заблудшую овцу. – Б. И.), то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяноста девяти не заблудившихся»[544].
На этот раз «Учитель из Тифлиса» брал себе на заметку, в свой умственный арсенал, фразу, которую он слышал много раз, но которая теперь в годы его всемогущества приобретала новое звучание. «Будьте как дети», то есть надо «умалиться», как дитя, которое Христос поставил для примера перед учениками. С каждым годом в сталинской пропаганде, в его публичном лексиконе все чаще звучал призыв «к вере». Требовалось верить то в возможность построения социализма в одной стране, то в скорое построение коммунизма, то в победу на войне, то в победные марши пятилеток и т. д. Но все эти требования веры и призывы к народу означали одно – внушение веры в него, Сталина, ведущего народы за собой. Чистая вера (вера старшему), не замутненная критическим разумом, – качество детской души. И если Христос призывал взрослого очиститься от сомнений и тем самым стать подобно ребенку истинно верующим, то Сталин всю силу этой детской веры людей «в царствие небесное» направил в нужное ему русло веры в вождя и его царство. И тогда с советскими людьми произошло то, что Толстой сказал о действиях революционеров 1905 года: «Ребячество без детской невинности»[545]. Детская глупость (ребячество) хуже глупости взрослого, поскольку она помножена на наивность и злой азарт.
То же самое и с притчей о заблудшей овце. Сталин знал, что одно из иносказательных имен Христа – «добрый пастырь». Именно в эти годы имя «Пастырь» Сталин старательно приспосабливал к своему публичному образу. Одно из произведений А. Казбеги, так же любимое вождем, как и «Отцеубийца», называлось «Пастырь». И Анри Барбюс широко использовал образ «пастыря народов» в своей книге. Если Христос в каждом враге своего вероучения видел заблудшую овцу и был особенно рад ее новообращению, то для Сталина все враги были скорее тучными баранами, которые, так или иначе, предназначены на заклание в жертву ему.
Так «Учитель из Тифлиса» пытался рационально использовать теперь уже некоторые идеи и образы «Учителя из Назарета». Толстой, который, как известно, также не избежал прельщения учить и наставлять людей, в «Исповеди» покаялся: «Теперь мне смешно вспоминать, как я вилял, чтоб исполнить свою похоть – учить, хотя очень хорошо знал в глубине души, что я не могу ничему учить такому, что нужно, потому что сам не знаю, что нужно»[546]. Похоть учительствования – не самый тяжелый порок из тех, коим всю жизнь сладострастно пре давался вождь.
Недоучка поп, изгнанный из церкви, на манер миссионера таскал в мешке по местам своих ссылок том «Капитала» Маркса. Лет через двадцать – тридцать на кунцевской даче или в кремлевском кабинете Сталин отчеркнул фразу, как будто выписанную Толстым из его биографии:
«Он теперь изучал первый том Маркса и с великой заботливостью, как большую драгоценность, хранил эту книгу в своем мешке»[547].
Даже омертвевшая душа человека – несказанная тайна.
Глава 3
Сталин и Достоевский
Если на книге Л. Толстого «Воскресение» Сталин оставил в общей сложности более тридцати помет и замечаний, то на одном из томов романа Ф. Достоевского «Братья Карамазовы» – больше сорока. Эта книга хранится ныне в той части библиотеки Сталина, которая находится в Государственной общественно-политической библиотеке (бывшая библиотека Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). Поскольку остатки сталинской библиотеки до сих пор толком не разобраны, то я был первым, кто обнаружил на этой книге пометы вождя. Сам по себе факт, что в сталинской библиотеке находятся произведения Достоевского и следы размышлений над ними, для меня не был неожиданным. О его интересе к произведениям великого писателя сообщали Светлана Аллилуева и Дмитрий Шепилов. Но воспоминания Аллилуевой на сей счет носят гипотетический характер. Вот что она пишет в одной из своих книг: «…о Достоевском он сказал мне как-то, что это был “великий психолог”. К сожалению, я не спросила, что он имел в виду – глубокий социальный психологизм “Бесов” или анализ поведения в “Преступлении и наказании”?
Наверное, он находил в Достоевском что-то глубоко личное для себя самого, но не хотел говорить и объяснять, что именно. Официально в то время Достоевский считался писателем абсолютно реакционным»[548]. Этот разговор мог состояться или в конце войны, или, что скорее, после нее и поэтому отражал уже свершившийся поворот, который произошел как во внутренней, душевной жизни Сталина, так и в его внешней жизни, то есть государственной политике. Дело в том, что Достоевского, как и Толстого, Сталин читал и перечитывал еще перед войной с Германией. Война же многое изменила не только в его оценках внешнего мира, но и в самооценках. Скорее всего, «Братьев Карамазовых» он с карандашом в руке прочитал раньше, чем «Воскресение» Толстого.
В настоящее время в библиотеке Сталина находятся три книги Достоевского: «Дневник писателя за 1873 и 1876 годы», вышедший в 1929 году, и два тома – девятый и десятый из полного собрания художественных произведений. Именно в этих томах был опубликован роман «Братья Карамазовы», с первой по четвертую части с эпилогом[549]. На страницах «Дневника писателя» и на десятом томе собрания сочинений сталинских помет нет. После смерти вождя все эти книги были сохранены исключительно из-за того, что на них остались оттиски штампа библиотеки Сталина. Видимо, на остальных томах собрания сочинений таких штампов не было, и поэтому их выкинули из сталинской библиотеки. А помет, возможно бывших и на других книгах писателя, специалисты, принимавшие библиотеку, не заметили, как не заметили они пометы и рукописные реплики Сталина на девятом томе. Здесь, без всякого сомнения, все пометы принадлежат руке Сталина и сделаны карандашами двух цветов: сначала красным, а затем синим. Это значит, что и «Братьев Карамазовых» Сталин читал в два приема, но, в отличие от «Воскресения», читал роман Достоевского последовательно, а не перечитывал второй раз заново. Читал он его между 1927-м, то есть годом выхода, и 1941-м – годом войны. Вероятно, это произошло в середине 30-х годов, так как и характерный убористый подчерк, и стиль помет, и круг интересующих его вопросов во многом схожи с теми, которые выделяются на страницах «Воскресения» Толстого. И хотя обе части девятого тома «Братьев Карамазовых» Сталин прочитал от начала до конца, пометы оставил только на «Книге второй. Неуместное собрание» (красным карандашом) и на «Книге шестой. Русский инок» (синий карандаш). Обе части связаны с одним персонажем романа. Это старец Зосима.
«Неуместное собрание»
Опять загадка. Почему Сталин не реагирует на главы романа со всемирно известными интермедиями о Великом инквизиторе и о мятущихся душах Ивана и Дмитрия Карамазовых, казалось бы, более близких ему по своему эмоциональному накалу и умонастроению? По мнению многих критиков, Достоевскому гораздо более удались те части романа, в которых он, от имени своих персонажей, излагал богоборческие, нигилистические и социалистические идеи. И наоборот, консервативная линия – защита мира божьего таким, каким он был создан, вложенная в уста иеросхимонаха Зосимы, как и сама фигура старца выглядят слабее. Как справедливо, хотя и витиевато выразился по этому поводу один из современных писателю критиков, «немалое мы видим в новом романе возлияние и деревянного маслица»[550]. Может быть, все дело в том, что в Сталине никогда не умирал не только романтик-революционер Коба, но и семинарист с библейским именем Иосиф, мечтавший совершить особый этико-исторический подвиг и искавший для этого подходящий образец? Вчитаемся в то, что отмечал и комментировал стареющий 55-летний партийный вождь.
В той части романа, которую автор назвал «Неуместное собрание», описывается встреча в монастыре старца Зосимы и его окружения с семейством Карамазовых и их знакомцев. Через встречи и диалоги старца с ними, а также с другими посетителями – верующими и с маловерами, с людьми из разных слоев общества, с помощью просвечивающего душу взгляда «прозорливца» Зосимы, Достоевский оттесняет читателя от отрицательно заряженного полюса богоборческого рационализма к положительному полюсу христианской гармонизации всечеловеческой любви. Удивительное дело – именно тема «любви» вновь почти болезненно влечет Сталина. Но здесь уже не та земная любовь к женщине, как у Горького или Франса, или похотливая, как у Салтыкова-Щедрина, и не рационально-философская любовь к человеку и трансцендентальному Богу, как у Толстого, а любовь безотчетная, то есть религиозная, незримо, но осязаемо, согласно Достоевскому, разлитая в божьем мире для верующего. Может быть, священник, пусть и не состоявшийся, и даже, возможно, в юношеских мечтах – монах, с жадностью ловит в лепете старца мысли о любви, о стыде и лжи, о счастье? И что же он в них находит? Вновь, как у Толстого, Сталин отмечает мотивы жгучего «стыда» перед самим собой и новый мотив – «неискренности», в том числе перед собой. Два замечания Зосимы поразили Сталина. Старший Карамазов-отец, развратник и шут, пытается ерническими речами вывести из себя окружающих, и в первую очередь монаха. Наблюдавший его какое-то время старец несколькими репликами ставит диагноз: «Не стесняйтесь, будьте совершенно как дома. А главное, не стыдитесь столь самого себя, ибо от сего лишь все и выходит»[551]. Федор Павлович Карамазов, потрясенный его прозорливостью, поясняет, что он действительно испытывает подобные чувства: «Именно мне все так и кажется, когда я к людям вхожу, что я подлее всех и что меня все за шута принимают, так вот давай же я и в самом деле сыграю шута, не боюсь ваших мнений, потому что все вы до единого подлее меня!»[552] Столь настойчивая фиксация Сталина на описании чувства стыда в разных художественных произведениях говорит о том, что оно, видимо, было не чуждо для вождя времен «1937 года». И «шута» он любил разыгрывать, доходя иногда до показного самоуничижения и ёрничанья, совершенно искренне полагая, что окружающие люди, особенно оппозиционеры, много подлее его. Следы такого шутовства мы можем найти даже в официальных текстах публичных выступлений. Так, речь на заседании объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б), состоявшегося в октябре 1923 года, он начал с фиглярских словесных фигур: «Вы слышали здесь, как старательно ругают оппозиционеры Сталина, не жалеют сил… Что ж, пусть ругаются на здоровье. Да что Сталин, Сталин человек маленький. Возьмите Ленина… Язычок-то, язычок какой, обратите внимание, товарищи. Это пишет Троцкий. И пишет он о Ленине»[553].
Вслед за многочисленными свидетельствами самого Сталина и его современников я уже не раз обращал внимание читателя на особо обостренное отношение к искренности окружающих его друзей и врагов. Обвинениями в предательстве, в неискренности, двурушничестве, в обмане, в тайном сочувствии врагу или в затаенном предательстве были пересыпаны все его речи и установочные статьи в периодической печати; они были главными обвинительными пунктами на большинстве громких процессов. Но ту же самую претензию он, оказывается, предъявлял и к самому себе!
«Главное, самому себе не лгите», – говорит чуть позже Зосима старшему Карамазову. Отметив эти слова, Сталин читал далее: «Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, стало быть входит в неуважение и к себе, и к другим. Не уважая же никого, перестает любить, а чтобы, не имея любви, занять себя и развлечь, предается страстям и грубым сладостям, и доходит совсем до скотства в пороках своих, а все от беспрерывной лжи и людям и себе самому. Лгущий себе самому прежде всех и обидеться может»[554]. Буквально все здесь как будто о характере самого вождя, и он, похоже, это осознает.
«И ведь знает человек, – продолжает Зосима, – что никто не обидел его, а что он сам себе обиду навыдумал и налгал для красы, сам преувеличил, чтобы картину создать, к слову привязался и из горошинки сделал гору, – знает сам это, а все-таки самый первый обижается, обижается до приятности, до ощущения большего удовольствия, а тем самым доходит и до вражды истинной…»[555] Думаю, что Достоевский раскрыл Сталину, как и каждому, кто вникает в его речи, один из главных механизмов «беспричинного», «спонтанного» зарождения вражды. Но, так же как и Достоевский, который так тонко расписал все нюансы этого механизма, а сам грубо по-человечески ненавидел многое и многих, Сталин, поняв это умственно, в практической жизни, напротив, распалял в себе малейшие признаки обиды. Но мы всему этому все меньше и меньше должны удивляться, обратившись на мгновение для примера хотя бы к себе и вспомнив, как иногда приятно быть обиженным и лелеять мечту о мести, прикидывая меру своих возможностей. А «иноку» Иосифу была приятна «тайная» проповедь старца, сладостно воскрешавшая в душе интонацию давних семинарских учителей: «Главное, убегайте лжи, всякой лжи, лжи себе самой в особенности (здесь старец обращается к женщине-посетительнице. – Б. И.). Наблюдайте свою ложь и вглядывайтесь в нее каждый час, каждую минуту. Брезгливости убегайте тоже и к другим и к себе: то, что вам кажется внутри себя скверным, уже одним тем, что вы это заметили в себе, очищается»[556].
Публицисты, близкие к официальным церковным кругам, обвиняли Достоевского в том, что он очень произвольно срисовал образ старца Зосимы с реального монаха Оптиной пустыни отца Амвросия. Для художника такие обвинения мало что значат, но Достоевского обвиняли еще и в том, что он искажает основы православия устами Зосимы, а это для христианского мыслителя гораздо существенней. Известнейший публицист и реакционный идеолог того времени Константин Леонтьев (он сам себе давал такое определение – «реакционный»), хорошо знавший отца Амвросия, в своих философских статьях и письмах утверждал, что образ Зосимы не имеет ничего общего с прототипом, а главное – писатель извратил фундаментальные идеи православия. Особенно еретичной он считал проповедь Достоевского о грядущей победе христианства во всем мире и наступлении в связи с этим общечеловеческого братства и любви на земле. Леонтьев усмотрел здесь признаки социализма и проповедь идеалистического космополитизма, не имеющего, с его точки зрения, отношения к истинному православию. И действительно, в проповеди старца Зосимы любовь становится средством преобразования, перевоспитания порочного человека, что как бы предполагает затем и изменение социальной обстановки. По существу, здесь – зеркальное отражение прогрессистских, социалистических идей, согласно которым изменения общественных условий человеческого существования (не важно – насильственное или эволюционное) ведет и к изменению внутреннего мира человека, включая его этику, мораль, нравственность. Леонтьев очень зорко подметил взаимосвязь: «Демократический и либеральный прогресс верит больше в принудительную и постепенную исправимость всецелого человечества, чем в нравственную силу лица. Мыслители или моралисты, подобные автору “Карамазовых”, надеются, по-видимому, больше на сердце человеческое, чем на переустройство общества. Христианство же не верит безусловно ни в то, ни в другое, то есть ни в лучшую автономическую мораль лица, ни в разум собирательного человечества, долженствующий рано или поздно создать рай на земле»[557]. Таким образом Достоевский, оказавший огромное влияние на молодое поколение россиян, косвенным образом поддерживал революционный общественный настрой, поскольку призывал не просто к любви сострадательной, то есть пассивной и жалостливой, а к «любви деятельной», активной, преобразующей, то есть агрессивной. В отличие от проповеди Толстого, в его проповеди «любовь» волей-неволей становилась синонимом воинственного прозелитизма, направленного на коренное преобразование души человека, человечества и мира. Здесь Достоевский очень сближался с проповедью «деятельной любви» Мартина Лютера[558]. И именно это, деятельное, агрессивное, подчиняющее себе начало привлекло Сталина в проповеди Достоевского:
«Но доказать тут нельзя ничего, убедиться же возможно.
– Как? Чем?
– Опытом деятельной любви. Постарайтесь любить ваших ближних деятельно и неустанно. По мере того, как будете преуспевать в любви, будете убеждаться и в бытии бога, и в бессмертии души вашей. Если же дойдете до полного самоотвержения любви к ближнему, тогда уж несомненно уверуете, и никакое сомнение даже и не возможет зайти в вашу душу»[559].
Но что это за деятельная и самоотверженная любовь к ближнему, с помощью которой можно «убеждаться» в бытии Бога и в бессмертии души? Конечно же, это не та корыстная любовь, которая требовательно ждет ответной благодарности. Одна из посетительниц старца Зосимы в «припадке самого искреннего самобичевания» так прямо и сознается:
«Одним словом, я работница за плату, я требую тотчас же платы, то есть похвалы себе и платы за любовь любовью. Иначе я никого не способна любить»[560].
Сталин отметил и эту реплику. Действительно, мало кто способен совершать добрые поступки, не получая встречного тока. Но проницательный Зосима почувствовал здесь лукавство, желание посетительницы заслужить похвалу за высказанную искренность:
«Если же вы и со мной теперь говорили столь искренно для того, чтобы, как теперь от меня, лишь похвалу получить за вашу правдивость, то, конечно, ни до чего не дойдете в подвигах деятельной любви; так все и останется лишь в мечтах ваших, и вся жизнь мелькнет как призрак»[561].
Разобравшись с искренностью искренности посетительницы, Зосима предлагает развернутую характеристику того, что понимается под «деятельной» любовью: «Не пугайтесь никогда собственного вашего малодушия в достижении любви, даже дурных при этом поступков ваших не пугайтесь очень. Жалею, что не могу сказать вам ничего отраднее, ибо любовь деятельная сравнительно с мечтательною есть дело жестокое и устрашающее. Любовь мечтательная жаждет подвига скорого, быстро удовлетворимого и чтобы все на него глядели. Тут действительно доходит до того, что даже и жизнь отдают, только бы не продлилось долго, а поскорей свершилось, как бы на сцене, и чтобы все глядели и хвалили. Любовь же деятельная – это работа и выдержка, а для иных так пожалуй и целая наука»[562]. Работа и выдержка – вот качества, которые Сталин особенно ценил в себе и людях. Конечно, как и всякий человек, он иногда позволял себе ничего не делать, то есть лень. Некоторые даже отмечали в нем длительные периоды ленивой задумчивости и прострации. Временами его захлестывали эмоции (все же кавказский человек!), причем не только приступы злобы и ярости, но и искреннего веселья, юмора и радости от полноты жизни. Но в целом он был чрезвычайно деятельным человеком, поскольку больше всего на свете любил власть. И терпением, выдержкой обладал отменной, чем резко отличался от многих своих кавказских соплеменников. Удачливый политический палач, изощренный социальный садист, осторожный и дерзкий интриган, он еще задолго до войны был убежден в особом своем предназначении, в особой исторической миссии, возложенной свыше на него. Все удачливые правители с древнейших времен и до наших дней явно или втайне считают себя любимцами богов, Провидения и даже Бога единого. Все более догадываясь, что он является ставленником и орудием «тайного замысла» высших сил, он к концу 30-х годов становился все более счастливым, а потому все более подозрительным. Его вера в себя была защищена вереницей удач и исполненных желаний, которые буквально преследовали его в последнее предвоенное десятилетие. И он очень боялся, что кто-то украдет его удачу. Отмечу, что счастье, которое он испытывал как победитель, как человек, который все может, показалось ему равным тому счастью, которое испытывает праведник, который перед лицом Бога тоже все может. Конечно, поводы для счастья разные, но чувства-то сходные. Именно поэтому Сталин не мог пройти мимо такой сентенции старца:
«Все праведные, все святые, все святые мученики были все счастливы»[563].
Церковь, государство, социализм. Рим и Москва. Запад и Восток
Об отношении Сталина к церковным организациям, особенно к православной церкви, в последние годы пишется много. В некоторых работах заметна даже тенденция сблизить позиции церкви и Советского государства времен сталинского правления, и особенно в годы Великой Отечественной войны. На самом же деле Сталин подходил к церкви, причем любой – и православной, и мусульманской, и иудейской, и к другим конфессиям, – сугубо прагматически. Придя к власти и несколько укрепившись в ней, он в середине 20-х годов перешел от хаотичных репрессивных действий времен Гражданской войны и первых послевоенных лет к политике планомерного снижения влияния церквей и конфессий на жизнь советского общества. Еще в конце Гражданской войны было принято решение о несовместимости членства в партии с религиозными верованиями. Не следует забывать и того, что в целом религиозные конфессии отнеслись к новой, атеистической власти враждебно. В 1922 году была создана Комиссия по антирелигиозной пропаганде, во главе которой был поставлен один из ближайших сталинских клевретов Емельян Ярославский. В 1925 году под его же началом был создан Союз воинствующих безбожников, который занимался не только делом пропаганды, но и инициировал массовые антирелигиозные кампании и репрессивные действия в отношении деятелей всех конфессий. Эта шумная деятельность проходила под прямым контролем партийных и государственных органов, а все крупные мероприятия осуществлялись с санкции Политбюро ЦК и, конечно, Сталина.
В 1927 году во время беседы с американской рабочей делегацией Сталин на настойчивые вопросы о возможности совмещения веры в Бога и членства в компартии с раздражением, а потому откровенно заявил: «Партия не может быть нейтральной в отношении носителей религиозных предрассудков, в отношении реакционного духовенства, отравляющего сознание трудящихся масс.
Подавили ли мы реакционное духовенство? Да, подавили. Беда только в том, что оно не вполне еще ликвидировано. Антирелигиозная пропаганда является тем средством, которое должно довести до конца дело ликвидации реакционного духовенства. Бывают случаи, что кто-то из членов партии иногда мешает всемерному развертыванию антирелигиозной пропаганды. Если таких членов партии исключают, так это очень хорошо, ибо таким коммунистам не место в рядах нашей партии»[564].
Однако, как и по отношению к другим важнейшим вопросам, Сталин вел себя крайне двусмысленно и по отношению к религии. Очень характерно его письмо, направленное М. Горькому в самом начале 1930 года, то есть практически в то же время: «Вы совершенно правы, что у нас, в нашей печати, царит большая неразбериха в вопросах антирелигиозной пропаганды. Допускаются иногда сверхъестественные глупости, льющие воду на мельницу врагов. Работы в этой области предстоит уйма. Но я не успел еще переговорить с товарищами-антирелигиозниками насчет Ваших предложений»[565]. Письмо впервые было опубликовано в 1949 году среди важнейших сочинений вождя, на излете религиозной «оттепели». Это, конечно же, не случайно. Постоянные противоречия между его действиями и словами, между публичными высказываниями и теми мыслями, о которых не знали даже самые близкие люди, до сих пор вводят в заблуждение наивного российского читателя. Среди его публичных выступлений мы не найдем развернутых высказываний антирелигиозного характера. Но через год-полтора после письма Горького и ответа ему в стране началась так называемая антирелигиозная «пятилетка» 1932–1936 годов. А среди «товарищей-антирелигиозников», с которыми вождь собирался взыскующе переговорить, самым главным был все тот же Ем. Ярославский. В современном архивном фонде Сталина есть документы, раскрывающие его деловые связи с Ем. Ярославским не столько по линии антирелигиозной деятельности, которую последний возглавлял вплоть до своей смерти в 1943 году, сколько по линии борьбы с различными оппозиционерами, особенно на почве истории партии, истории революции и биографии вождя. Все эти документы красноречиво говорят об особой, рабской преданности Ярославского своему патрону, принимавшему ее как должное.
Уничтожение молитвенных домов, мечетей, синагог, церквей и церковнослужителей продолжалось во всевозрастающих масштабах вплоть до Великой Отечественной войны. Во время войны Сталин, как всегда, без какого-либо стеснения использовал религиозно-патриотические чувства верующих граждан в своих целях, в данном случае в целях победы. Никакие сантименты, связанные с семинарским прошлым вождя или религиозный страх перед Богом, были здесь ни при чем. Но зато была вполне реальная опасность того, что немцы воспользуются случаем и привлекут на свою сторону притесняемые советской властью церковные круги. И в чем-то они не ошиблись. Важно было и более тесное сближение с веротерпимым Западом. Учитывая то и другое, Сталин пошел на общее послабление в отношениях с религиозными организациями. Не должно быть никаких иллюзий, будто бы Сталин, как бывший семинарист, явно или тайно испытывал искренние положительные чувства по отношению к церкви и ее иерархам. Известный эпизод времен войны, когда Сталин с почтением принял в Кремле священнослужителей Русской православной церкви и милостиво разрешил провести Собор, на котором наконец-то дозволил избрать патриарха, – всего лишь иллюстрация политической гибкости и изворотливости вождя. В 1944 году были созданы Совет по делам религиозных культов и Совет по делам Русской православной церкви при Совете министров СССР. Вплоть до 1947–1948 годов в стране продолжалась религиозная «оттепель», во время которой была разрешена деятельность сотен религиозных общин и учреждений разных конфессий. С 1948 года и до смерти Сталина «оттепель» вновь сменилась жесткими ограничениями и гонениями. Эта небольшая справка о политике Сталина по отношению к церкви необходима в качестве фона, о котором нельзя забывать, исследуя пометы вождя на книге Достоевского. Как человек внутренне свободный, он позволял себе поразмышлять над такими вопросами, на которые для большинства его сограждан был наложен запрет.
Одна из тем, которая веками волнует российское общество с момента принятия христианства в качестве официальной религии, – это тема взаимоотношения церкви и государства. Во второй половине XIX века она была, как никогда, актуальна и потому обсуждалась одновременно во многих плоскостях. Как известно, Греко-российская православная церковь (так она в те времена именовалась) с упразднением Петром I патриаршества возглавлялась особым церковно-государственным органом – Священным Синодом. В церковных и интеллектуальных кругах вопрос о соотношении государственной и духовной власти был предметом постоянного обсуждения и ожесточенных споров. Другим предметом, так же вызывавшим полемику в печати, и особенно в философско-публицистической литературе, был вопрос об отношении православия к католицизму и наоборот. В то же время и тот и другой вопросы дискутировались в связи с нараставшими в Европе и России социалистическими, либеральными и революционными движениями, ростом бытового атеизма. Достоевский устами Зосимы и его коллег по монастырю изложил суть этих споров и свое видение их разрешения. Сталина они также заинтересовали, и, конечно, далеко не случайно.
В монастыре разыгрывается диспут о перспективах во взаимоотношениях церкви и государства, участниками которого стали, с одной стороны, монахи, а с другой – Иван Карамазов и либерал Миусов. Поводом для споров послужила статья Ивана Карамазова, в которой тот прослеживал связь древней христианской церкви и языческого Римского государства. Как известно, христианская церковь после нескольких веков борьбы и гонений была интегрирована Константином Великим в языческое государство с соответствующими же языческими атрибутами и традициями. С тех пор на протяжении двух тысяч лет отношения государств и церкви продолжали оставаться сложными. То, что государство несет в себе первородное зло, понимали многие христианские мыслители и подвижники задолго до утопистов-социалистов, анархистов и коммунистов. Однако если революционеры видели выход в отмирании или насильственном уничтожении и церкви и государства как орудий порабощения и насилия, то деятели церкви мечтали об иных путях. Вот и Достоевский устами Ивана Карамазова утверждал, что согласно духу христианства «не церковь должна искать себе определенного места в государстве… а, напротив, всякое земное государство должно бы впоследствии обратиться в церковь…». Тем самым, по мнению автора, церковь и общество, достигнув такого перевоплощения, сделают окончательный шаг от язычества к всеобщему христианству. Один из участников дискуссии уточняет смысл статьи Ивана Карамазова и позицию того автора, с кем Карамазов спорит.
«То есть в двух словах, – упирая на каждое слово, проговорил опять отец Паисий, – по иным теориям, слишком выяснившимся в наш девятнадцатый век, церковь должна перерождаться в государство, так как бы из низшего в высший вид, чтобы затем в нем исчезнуть, уступив науке, духу времени и цивилизации. И если же не хочет того и сопротивляется, то отводится ей в государстве зато как бы некоторый лишь угол, да и то под надзором, – и это повсеместно в наше время в современных европейских землях. По русскому же пониманию и упованию надо, чтоб не церковь перерождалась в государство как из низшего в высший тип, а, напротив, государство должно кончить тем, чтобы способиться стать единственно лишь церковью и ничем иным более. Сие и буди, буди!»[566].
Слева же, перед чертой, рукой Сталина приписано красным карандашом: «Ф. Д.», то есть перед нами тот же способ, каким он отмечал особо значимые для себя тексты Толстого.
Сталин сразу почуял в этом диспуте не только древнейший спор о примате духовной или светской власти в обществе, но и некую аналогию со своим становящимся царством. Ведь отныне и в СССР традиционной церкви отводился еще более тесный угол, чем в европейских государствах. Но еще важнее был как бы заново поставленный историей вопрос о соотношении государственной (светской) и «духовной» (партийно-идеологической) власти в его советском обществе.
Участники диспута обсудили возможные преимущества, которые появились бы у того общества, которое бы сумело достичь всеобщего оцерковления. Предположили, что в таком случае церковно-общественный суд не посылал бы преступников на каторгу и на смертную казнь, не рубил бы голов, как суд современного государства, а отлучал бы преступников и от людей, и от церкви. Это, по их мнению, исключило бы бессмысленную жесткость государственного насилия и в то же вемя вычеркивало бы преступника из христианского братства, что для верующего человека нестерпимо. «Теперь, с другой стороны, возьмите взгляд самой церкви на преступление, – заявил Иван Карамазов, – разве не должен он измениться против теперешнего, почти языческого и из механического отсечения зараженного члена, как делается ныне для охранения общества, преобразиться, и уже вполне не ложно, в идею о возрождении вновь человека, о воскресении его и спасении его…»[567]
Зосима говорит почти теми же словами, что и герой романа Толстого, о бессмысленности государственной системы наказаний. По его мнению, только перед «церковью современный преступник и способен сознать свою вину, а не то что перед государством».
«Только сознав свою вину как сын Христова общества, то есть церкви, он сознает и вину свою перед самим обществом, то есть перед церковью»[568], – уточнял Зосима, а Сталин отметил его вывод скобкой.
Многие современные писателю критики, особенно консервативного толка, упрекали Достоевского в преклонении перед народами Европы и их культурой. В то же время раздавались упреки в несправедливом отношении писателя к западным церквям и особенно к католичеству. Как мы помним, в старших классах Тифлисской духовной семинарии преподавали «Обличительное богословие», в котором излагалась критика с позиций официального православия догматов иноверческих христианских конфессий. Достоевский заставляет прозорливца и умницу Зосиму произносить заведомые глупости, только бы доказать читателю коренное различие между Западной и Восточной церквями. Так, например, древнехристианскую идею, развиваемую потом и европейскими гуманистами, и либералами, и социалистами, и анархистами, и большевиками о том, что любой преступник и любое, даже уголовное, преступление есть в конечном счете восстание против несправедливостей существующего общественного устройства, Зосима-Достоевский приписывает мифическим «иностранным деятелям» его времени. Он даже утверждает, что, в отличие от России, в Европе общество относится к преступнику с «ненавистью и полнейшим к дальнейшей судьбе его, как брата своего, равнодушием и забвением». Не забудем, что сам Достоевский пробыл четыре года на российской каторге и ее порядки и «преимущества», так же как Сталин, в отличие от графа Толстого, испытал на себе самом. Сталин отметил очередной ход мысли Зосимы, который связал безразличие католической церкви и всего западного общества к падшему со всеобщим омирщвлением духовной жизни Запада. Зосима излагал внимающим:
«Таким образом, все происходит без малейшего сожаления церковного, ибо во многих случаях там церквей уже и нет вовсе, а остались лишь церковники и великолепные здания церквей, сами же церкви давно уже стремятся там к переходу из низшего вида, как церковь в высший вид, как государство, чтобы в нем совершенно исчезнуть»[569].
Похоже, что Достоевский-Зосима придерживался хорошо знакомого многим советским гражданам мнения о возможности исчезновения преступлений и преступников в новом, окончательно оцерковленном (а у нас в «коммунистическом») обществе. Без сомнения, грядущий христианский мир Достоевского-Зосимы очень напоминает призрачные грезы о коммунистическом обществе советской эпохи. Но об этом чуть позже. Пока же, вслед за участниками диспута и следящим за ними вождем, до конца проследим и мы за особо любимыми мыслями Достоевского о государстве и церкви, воплощенными, как ему представлялось, в различных подходах Запада и Востока, Рима и Москвы.
«Совершенно обратное изволите понимать! – строго проговорил отец Паисий, – не церковь обращается к государству, поймите это. То Рим и его мечта. То третие диаволово искушение! А напротив, государство обращается в церковь, восходит до церкви и становится церковью на всей земле – что совершенно теперь противоположно и ультрамонтанству, и Риму, и вашему толкованию, и есть лишь великое предназначение православия на земле. От Востока звезда сия воссияет»[570].
Действительно, то древний спор. На протяжении тысячелетий Вселенскую церковь потрясал диспут о первенстве церкви или государственной власти. Сталин выделил слова: «То Рим и его мечта», то есть мечта католицизма о превращении церкви во всемирное государство. Отец Паисий вполне справедливо напоминает, что в Евангелии есть место, где дьявол различными посулами искушает Христа. Согласно евангелисту Матфею, третье, наиболее великое искушение состояло в том, что он предложил Христу стать всемирным владыкой и тем самым как бы соединить в своем лице всемирную духовную и светскую власть, то есть сделать то, к чему как будто бы стремятся римские папы. Христос отверг это искушение, но именно в этот соблазн «папо-цезаризма» впали, по мнению православия, католики. Впрочем, последние обвиняли Восточную церковь в «цезаре-папизме», поскольку в православных государствах власть правителя и царя была выше власти и авторитета церкви. Достоевский видел возможность преодоления этого противоречия на пути Восточной, Русской православной церкви, которая, по его мнению, была способна переродить остатки языческих государств в мировое христианское сообщество. Отсюда и пророчество-лозунг: «От Востока звезда сия воссияет!» Но для Сталина эта формула означала нечто совсем иное и не столько символическое, сколько политическое. Дело не только в том, что советская Россия традиционно рассматривалась ее вождями, в том числе и Сталиным, как Восток, и соответственно ее всемирно-историческая миссия виделась в продвижении социализма на Запад, то есть в Европу и Америку. Дело еще и в том, что в эти 20–30-х годах предпринимались попытки поднять колониальные народы Азии, то есть Востока против западных империй. Эти попытки предпринимались в рамках концепции экспорта революции в отдельные колониальные страны и победы социализма в мировом масштабе. Так мессианская идея русского православия в трактовке Достоевского сошлась под карандашом вождя с мессианской идеей советского социализма.
Кроме оппонентов Достоевского, и сам писатель осознавал связь своих и вообще евангельских идей с теми идеями социализма, которые захлестнули Европу и Россию в XIX веке. Ненавистный Достоевскому герой романа – либерал и западник Миусов иносказательно уличает монахов в тайном исповедании социализма. Он рассказывает им о своем разговоре в Париже с неким полицейским-сыщиком, который признался, что не так опасается социалистов и революционеров безбожников, как социалистов-христиан. «Вот этих-то мы больше всех опасаемся, это страшный народ!» – заявил сыщик Миусову. Выслушав эту историю, монах понял ее так:
«То есть вы их прикладываете к нам и в нас видите социалистов? – прямо и без обиняков спросил отец Паисий»[571].
И хотя Сталин почти не ввязывался в дискуссию с примыкавшими одно время к социал-демократам мыслителями типа Н. Бердяева, С. Булгакова, П. Струве и даже с большевиками вроде А. Луначарского, А. Богданова, М. Горького и с другими «богостроителями» и «богоискателями», пытавшимися получить некий новый синтез христианства и социализма, он об этих поисках, без сомнения, имел представление. В одной из дореволюционных публикаций (1909 г.), которую Сталин признал своей, а именно в «Резолюции Бакинского комитета о разногласиях в расширенной редакции “Пролетария”» говорится, что «так называемое “богостроительство”, как литературное течение, и вообще, привнесение религиозных элементов в социализм, – является результатом ненаучного и потому вредного для пролетариата толкования основ марксизма». Бакинский комитет «подчеркивает, что марксизм сложился и выработался в определенное мировоззрение не благодаря союзу с религиозными элементами, а в результате беспощадной борьбы с ним»[572]. Так что Сталин давно знал о попытках соединения христианства и социализма и на идейном уровне относился к ним по-ленински отрицательно. Милосердный Бог, «боженька», как издевательски отзывался на это имя Ленин, и для Сталина был «пятым колесом в телеге» его социализма. Не случайно Сталин отмечает слова Ивана Карамазова о нелепости, с его точки зрения, такого смешения:
«…что вообще европейский либерализм, и даже наш русский либеральный дилетантизм, часто и давно уже смешивает конечные результаты социализма с христианскими. Этот дикий вывод, конечно, характерная черта»[573].






