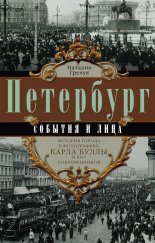Железный Тюльпан Крюкова Елена

Зачем она пришла сюда? Ноги сами привели. Красные буквы ресторана по-прежнему кроваво размахивались веером вширь по стеклу, покрытому морозными узорами: «PARADISE». Шуба на ней была уже другая. Беловолк с Изабеллой продумали ее гардероб. Она пыталась представить, что все эти вещи принадлежат ей, – и не могла. Беловолк ясно давал ей понять, что она – рабыня-актриса, хорошо исполняющая роль, какую хочет хозяин. Она закурила, дым обволок ее лицо. Люди оглядывались на нее. Некоторые перешептывались, возможно, узнавали. «Вольво» она припарковала за углом Казанского вокзала. Был поздний вечер, и сегодня у нее была запись в студии. Она запеисывала новый альбом, разученный с Мишей Вольпи. Бедный Миша Вольпи. Он ходит по канату над пропастью. Миша знает, что она не настоящая Люба; если он проболтается, его уберут. Нет, его уберут даже раньше. Когда он закончит шлифовать ее голос и разучит с ней достаточно шлягеров, и дальше по сцене она побежит сама, без поводка. Беловолк – убийца?! Почему нет. Мало ли кто хочет нанять киллера, теперь это просто. Может быть, это он убил Любу. Может быть. Все может быть.
Она не показала Игнату Тюльпан там, в номере, хотя тысячу раз могла бы показать. И спросить, что это такое. Ну и что? Он бы рассмеялся, повертел бы игрушку в руках. Даже если бы знал, оставил бы лицо каменно-равнодушным или игриво-веселым: «Хм, занятная штучка!..» Никому никогда не показывай его, Алла. В нем тайна.
Ее будто обожгло ударом хлыста. Тайна убийства Любы.
Не может быть, не может. Разве этот железный бутон может убить, он же не граната, с него не сорвана чека. Разве только размозжить им череп. Она усмехнулась, кинула окурок в снег, шагнула ближе к ресторанному окну.
Тот самый нищий сидел за столом и ел.
Он сидел за столом, поставив локти-кочерги на столешницу, густо посыпал солью неизменный салат и вбрасывал его вилкой в рот. Стопка перед ним уже была пуста. В графине еще белела водка. Он, глядя в морозное окно на Аллу и, видимо, смутно различая ее, протянул руку, не глядя, схватил графин за горлышко, налил водки еще. Алла вздрогнула. Он смотрел на нее так пристально. Она, сама не сознавая, что делает, расстегнула сумочку, вынула Тюльпан, сцепила во вмиг захолодавших пальцах, показала ему. Нищий поднял стопку и выпил. Его узкие восточные глаза разрезали бритвой белую наледь на стекле. Красные буквы стекали вниз по стеклу. По спине Аллы пробежали когтистые лапки мороза. Она вспомнила себя рыжей Сычихой, сощурилась так же, как этот завсегдатай ресторана, молчаливо пьющий свою водку, что ни вечер, в углу у окна.
Он посмотрел на нее так, будто узнал ее. Будто он целый век знал ее. Он глядел на Тюльпан у нее в руке, как на язык огня. Потом поднес ладонь к глазам, словно защищая их от яркого света.
Какая муха укусила ее нынче вечером? Может быть, она так заглушала дикую тоску, поднявшуюся со дна ее души после того, как она переспала с Игнатом Лисовским? Ей надо было забыться. Зачем она пришла к ресторану? Зачем поехала к Сим-Симу? Она умерла для ресторана, для Сим-Сима, для подружек-девиц. Это она умерла на самом деле, а не Люба; зачем она демонстрирует себя, появляется там, где появляться нельзя больше? Алла испытывала судьбу. Она погнала свой «вольво» на Воронцово Поле, благо это было рядом с Комсомольской площадью, быстрый пролет по Садовому, и она снова у своего сутенера. Она держала пари с самой собой: он не узнает ее. «Брось, не лукавь, он узнает тебя по запаху, как зверь». Она понюхала рукав дубленки. Она давно уже, целых два месяца, пахла немыслимыми парижскими, египетскими, мадридскими ароматами – духами «Палома Пикассо», «Шок де Шанель». Ее влекло на Воронцово поле неотвратимо, как приколдованную. Это было вроде рулетки, вроде карточной игры: я выиграю, он меня не узнает! Он попятится и заорет: Люба Башкирцева, здравствуйте, какими судьбами?!.. Башкирцева, Ваше Величество, как, вы… и – ко мне?!..
Она хотела поглядеть на того, кто мучил ее, отсюда, из своей нынешней звездной жизни. Пусть он побудет хоть немного рабом, а она – хозяйкой. Он – внизу, она – над ним. Она горько улыбнулась, тормозя у подъезда. Она ведь тоже рабыня. И она об этом не забывает ни на секунду.
Спасибо, когда-то Сим-Сим научил ее водить тачку – оплатил ей курсы и водительские права. Думал: выращу стильную шлюху, будет мне на «мерсах» клиентов зашибать. Сим-Сим давал ей свой «фордик», и она везла клиента на квартиру – подгулявшего командировочного с Курского, богатого азиата с Казанского… На этом же старом «фордике», страшно матерясь, он вез ее в больницу с острым животом. Внематочная. Залетела. Как ни береглась… О ребенке не могло быть и речи. Сим-Сим оплатил ей и ту операцию тоже. Она – его выкормыш. Так же, как Люба была выкормышем Беловолка. Да, у них, двух девок, похожие судьбы. По какой зимней морозной канве огнем вышито сужденное ей?
Алла стукнула в дверь. Постучалась громче, сильнее. Дверь подалась под ее рукой. Она нажала – дверь отворилась. Ну, что же ты, входи.
Какой затхлый дух. Чем-то соленым пахнет. И гнилым. Струйка засохшей крови, вытекшей из-под плотно закрытой в комнату застекленной двери заставила ее сжаться. Она, с сильно бьющимся сердцем, открыла дверь в гостиную и подумала, что обязательно попросит Беловолка купить ей револьвер. Или, еще лучше, пистолет. Хотя какая разница. В пистолете больше патронов умещается, она знала об этом понаслышке. А если в квартире кто-то спрятался?! Теперь поздно. Насытила ты свое любопытство?! Свое тщеславие, маленькая сучка?!
Вперед. Шагай. Теперь уже поздно все.
Тишина глухотой, ватой заложила уши. На полу гостиной лежал мертвый Сим-Сим, Семен Гарькавый, ее сутенер, весь в крови. Откуда столько крови, подумала Алла глупо, ведь он весь вроде бы целенький, непорезанный, и рваных ран никаких нет, и… Она зажала себе рот рукой. На шее Сим-Сима зияла маленькая круглая ранка, будто от шила. Кровь натекла из нее, и, должно быть, он умер не сразу, приходил в себя и снова терял сознание, ползал по полу, пачкаясь в своей крови, звал на помощь. Рот его был слегка приоткрыт. Алла, осторожно обойдя подсохшую красно-коричневую лужицу, присела на корточки, расстегнула пуговицу воротника пушистой песцовой шубы. Она задыхалась. Та же рана! Не может быть!
Она протянула руку в перчатке, отвела со лба Сим-Сима сальные темные пряди волос, заслонявшие лицо. Как оно искажено. Она с трудом узнала черты сутенера. Узнать его ей можно было лишь по брюнетистой масти да по темно-синей щетине, покрывавшей его массивные скулы. Внимательно рассмотрела рану на шее. Да, точь-в-точь такая, как у Любы. Совпадение? Жизнь полна совпадений. Стрелок стреляет в «яблочко», и другой попадает в десять очков. И все же странно. Слишком странно.
Она поднялась. Осмотрела песцовую шубу. Только бы не было следов крови. Сим-Сима убили недавно, дня три назад. В квартире было холодно, запах от трупа шел слабый, сутенер, истязавший рыжую Джой: «Десять мужиков за ночь – норма хорошей проститутки!» – еще не успел разложиться.
Так, так, так. Дохлый номер, чтоб ты помер. Так, так.
Почему не заводится машина?! Еще не хватало, чтобы в меня выстрелили из-за угла перед домом Сим-Сима. Или чтобы дверца открылась и на меня накинули удавку. Или воткнули мне шило в шею, как… как всем им. Кому – «всем»?! Ты же не знаешь, Алка, как умер Евгений Лисовский. Ты же не знаешь. Ну и молчи.
Так, все завелось, отлично, прочь отсюда. Быстро в Раменки. Юрий уже с умасходит. Обзвонил больницы, морги. Уже, верно, за полночь. Мне нельзя и погулять. Тогогляди, он приставит ко мне охранника. Или сделает так, чтобы я и не подозревала о слежке. Ему это придет в голову. Он боится за меня. Он боится – за себя?!
Снег залепляет лобовое стекло. Декабрь, и скоро Новый год. Какие Новые года были там, в Сибири, на станции Козулька, ты помнишь, Алка?! Мать приносила из тайги не ель – маленький кедр. Кедр топорщил изумрудно-синие, густо-колючие лапы. Ты трогала иглы голыми ладошками, кололась, восхищенно кричала: «Мама, он голубой!» Ты тогда не знала, что станешь шлюхой. Что словом «голубой» будешь называть геев. Ты вырезала снежинки из конфетных оберток, из фольги, и навешивала их на кедровые ветки. И свечи из настоящего пчелиного воска, из ульев с пасеки дяди Митяя, мать прилепляла к ветвям, и святой Иннокентий, сибирский святой, смотрел из красного угла на людскую кутерьму. Часы били двенадцать, и за ночь гирька ходиков дотягивалась до половицы. В моих катанках утром я находила подарки. «Лесовик принес», – смеялась мать. Мать одна ходила в лес, с берданкой и ножом, на медведя. На какого медведя пойдешь ты, Алка, в дикой, хуже тайги, Москве?!
Морозная дорога ложится под колеса. Жизнь пока ложится под тебя, Джой. Только ты уже не рыжая. Беловолк. Ты думала – он убил Любу. Но разве Беловолк знает Сим-Сима? Откуда он мог его знать? Неувязка. Стоп. Светофор. Красный свет. Включи «дворники», Алла. Закури, легче будет. Хорошо, что ты не снимала перчатки, не оставила отпечатков пальцев в хате Сим-Сима. Игнат. Что – Игнат? У Игната был когда-то брат Женя. Как Женя был убит? И кем? Кажется, убийцу не нашли, дело закрыли. А может, нашли, но не обнародовали – побоялись мести, если за тем убийством стояли крупные мафики, они могли убрать всех. Узнать все же, как он был убит. Застрелен в машине? Взорван в офисе? Вспоминай, вспоминай, старушка, ты же читала об этом в газетах. Вроде бы перерезали горло. Но это могла быть всего лишь версия журналистов. Дырка на шее запросто превращается в перерезанное горло. Ты спросишь об этом Беловолка. Ты спросишь его об этом осторожно, не в лоб, а по-умному. Найдешь время и место.
Может, покурить, пока машина катится по ночной Москве? Может. Где сигареты, ага, в «бардачке». Зубы ловко зажимают бумажную соску. Я раскуриваю сигаретину виртуозно, одной рукой щелкая зажигалкой, другую небрежно держа на руле. Певица. Великая певица возвращается ночью домой. Неужели я настолько талантлива, что мой обман, наш с Беловолком обман никто не раскроет?
Зачем я показала Тюльпан тому нищему, тому мрачному человеку, что всегда жрет свой салат в «Парадизе»? Он выпил водки за мое здоровье. Как вдруг захотелось сациви. Помню, мы с девками, с Акватинтой и Серебро, ели сациви, аж за ушами трещало, пальчики в тарелку обмакивали, Витя смеялся, потому что на Толстой Акватинте была вуаль, настоящая такая черненькая парижская вуалька – вроде той, что так пошла бы Любе… мне. Я правильно сделала, что показала ему Тюльпан, хотя сама не понимаю, зачем я это сделала. У него такое лицо, у этого нищего. Такое мрачное, тяжелое. Раскосое, как у Чингисхана. У него лицо воина.
У него лицо убийцы.
Что ты несешь чушь, Алка. Опомнись. Затормози на красный. Уже мост через Москва-реку. Уже проспект Вернадского. Уже Раменки. Беловолк. Игнат Лисовский. Безымянный нищий в кабаке. Ты дура. Ты круглая дура, Алка. Ты же не сыщик. Корысть ли тебе думать об убийце. Да! Корысть! Я же сама живу сейчас под дулом страха. Под невидимым лезвием ножа. Чем делают такие маленькие круглые ранки на горле?!
… … …
– Сычиха! Это ты?! Это же не ты!
– Какого хрена…
– Иди ты! Это же Башкирцева, ты что, не признала! Здрасьте, Любовь Борисовна! Проходите, у нас не убрано…
– Черт, Алка, что, уже Рождественский карнавал начался, что ли, ты нас разыграла к шутам как по нотам, да?!..
Она видела – подружки обалдели. Стряхивая снег с рукавов шубки, сбрасывая песцовую шапку на руки онемевшей от изумления Толстой Аньке, Алла смеялась от души. Смеялась, хоть теперь, после того как она увидала в квартире Сим-Сима его труп, ей было не до смеха.
– Да ладно дуру-то гнать!.. Ты?!..
Инна протянула руку и бесцеремонно ущипнула Аллу за коротко стриженные, смоляно-черные густые волосы. Алла ударила ее по руке.
– Дерешься ты, надо отметить, все так же!.. Ну, Анька, это же Сычиха собственной персоной, поверь, только вся к чертям перекрашенная! Под Башкирцеву решила поработать?!.. Сбежала от Симыча, да?!..
Они не знают, что Сим-Сим убит. Они не знают.
– Ну разумеется, это я. Классно сработано, да?
– Класснее не бывает, – Серебро задыхалась от зависти и восторга. – Как тебе это в голову пришло? Стрижка супер, – Инна поцеловала кончики пальцев, – эпока Любиного «кабриолета»… двадцатые годы, твою мать… а я сяду в кабриолет и уеду, блин, куда-нибудь!.. сейчас в моде стиль ретро, всякие шимми, хримми… ты все просчитала верняк, Алка!.. Я всегда говорила, что у тебя тыква не пустая! Ты всегда мыслила железно, даже под кулаком Сим-Сима… у тебя всегда варил котелок, всегда, не то что у меня…
– Не хнычь. – Алла прошла в комнату, и девки заахали, рассматривая ее сапожки, ее платье, кольца на ее руках, ее самое. – Есть что пожрать?
– Есть, есть… Инка, тащи курятину… Мистика! Бред! Расскажи!
Она выложила девкам все. Все как есть, без утайки.
Она нарушила клятву, данную себе: никому и никогда. Там, где баба говорит, огонь горит, это же ясно. Серебро хохотала. Акватинта прижимала ладони к вискам.
– И вот я ему говорю, значит, Беловолку-то: это ты грохнул Любку! А он мне: ни хрена подобного! И смотрит на меня, будто хочет…
– …будто хочет, я понимаю. И ты…
– И я говорю: что будем делать? А он: я тебя сделаю…
– В каком смысле? Убью, что ли?..
– …сделаю Любкой. Ну, понимаешь, Анька, чтобы я поменяла имиджуху всю! Досконально! Стала ее двойником! Второй Башкирцевой! Чтоб никто ничего не понял!
– Ты ешь, ешь, я курочку с чесночком в духовке напекла, помнишь, как мы любили. – Акватинта пододвинула к Алле всю сковороду. – Ломай пальцами, не стесняйся, жри! Или тебе, после барского стола, наша кура говном глядится?!..
Пальцы Аллы окунулись в белое, пахнущее чесноком куриное мясо, поплыли в жире. Щеки ее вспыхнули. Ей отчего-то стало неимоверно стыдно. Она устроена, а девки?! Влачить существование уличной шалавы… Устроена – мягко сказано.
– Я подневольная скотинка. – Ее голос стал тяжелым, как чугун. Она не могла поднять глаз от растерзанного пальцами мяса. Ей показалось – это ее мясо приготовили в печке и растеребили, и грызут, и рвут на куски. – Мне туго, девчонки. Хрен редьки не слаще. Я пашу будь здоров. Иногда мне все это кажется кошмарным сном. И я щиплю себя за руку, чтобы проснуться, и не просыпаюсь. – Она задрала рукав черного трикотажного платья от Гуччи и показала синяки на запястье. – Интересно все так, правда?
Толстая Анька, прищурясь, смотрела на нее. Ее веки без ресниц, ненакрашенные, набухли, как после слез, поросячьи глазки часто заморгали.
– А если все откроется? – опасливо спросила она и тоже залезла рукой в сковородку. Серебро задумчиво заплетала бахрому скатерти в косичку.
– Я защищена, – гордо, неожиданно для самой себя, вскинула голову Алла. – У меня есть счет в банке на имя, черт побери, Любови Борисовны Башкирцевой.
Зачем она так сказала? Счет существовал. Беловолк не закрыл его. Но счет был не ее, а Любин. Смерти Любы не было. Люба продолжала жить. В ее коже, в ее теле. Она внезапно вспомнила нежные маленькие пальцы, ласкавшие ее тело, проникавшие в его потаенные уголки. Она никогда не испытывала с мужчинами того, что испытала тогда, в ту ночь, с ней. Почему же наутро, в машине того таксиста, ее чуть не вырвало, как беременную? Она сказала девкам про счет потому, что не хотела выглядеть перед ними униженной. Она не должна быть униженной. Не должна.
– Та-а-ак, – протянула Серебро, исподлобья глядя на нее. – А ты не боишься, что твоя роскошная жизнь, твои концерты, твои гастроли, дачи на Багамах – вся эта твоя опасная игра в звезду – временная отсрочка, и тебя замочат так же, как замочили ее мужа и ее самое?!.. Замочат по-простому. По-русски. Без всяких тайн и выдумок. Из-за твоих неподдельных камешков твоего, пардон, Любиного Лисовского в твоих, милль пардон, Любиных закромах и из-за Любиных настоящих счетов… не твоих, не пудри нам мозги, мы же все понимаем!.. где там?.. в «Лионском Кредите»?.. в «Bank of New-Jork»?..
– Это ты, а не я, всегда была сообразительной, Серебро. – Аллин голос пресекся. – Это твоя кастрюля всегда хорошо варила.
Все похолодело у нее внутри.
Время. Пошло время. Время стало отстукивать внутри нее.
Костяшками по морозному стеклу.
Колотушкой – по железу.
Они, бедняжки, не знают, что Симыч убит. Молчи. Не говори им.
Тебя могут убить так же, как Гарькавого – в любое время.
Приехав домой, в Раменки, она первым делом полезла под подушку. Журнал с VIP-персонами был на месте, продюсер еще не добрался до него – или он показался Беловолку безобидным, развлекательным. Алла привыкла, что за ней следили. Обыскивали ее вещи. Рылись в ее нарядах. Обсматривали каждый закуток. Перебирали ее драгоценности. Ее? Серебро права. Ей здесь ничто не принадлежит. Призрак, фантом. И она – фантом. Может, у нее уже выросли за спиной призрачные крылья, и она вспорхнет, откроет окно и полетит – с девятого этажа?
Раздевшись, она упала на кровать, схватила журнал, стала его листать. Где та фотография? Вот она. Сколько раз она смотрела на нее. Вглядывалась в лица. Кто еще остановлен бесстрастным объективом? Что это за люди рядом с Любой и Лисовским? Что это за женщина с копной пышных иссиня-черных волос, похожая на испанку или на аргентинку, стоящая чуть поодаль от счастливо обнявшейся у фонтана Треви звездной семейной пары? Что это за мужчина, с заметной восточной раскосостью, уставившийся на пышноволосую красотку зло и требовательно, несмотря на то, что его губы весело улыбаются? Немая сцена. Замороженное вспышкой мгновение. Эти люди еще не знают, что будет с ними. Она, Алла, знает, что сталось с двумя. Остальные? Остальных не знает она. Она должна узнать, кто они.
Она, в длинной ночной сорочке, обшитой по подолу белопенными кружевами, встала с кровати, подошла к креслу, щелкнула замком сумочки. Косметичка. Визитка. Где-то здесь. Да, вот она. Визитка того нахального папарацци. Павел Горбушко. Она лениво взяла со стола сотовый, набрала домашний номер журналиста. После пяти длинных гудков усталый голос в трубке ответил: «Павел у телефона. Але, але. Говорите, вас не слышно».
Он говорил с ней так, как она и ожидала – не радушно, а сухо и жестко. Жесткий стиль общения, посматривание на часы. «Время – деньги, понимаю, котик». Она назначила ему свидание в «Парадизе». Она не смогла отказать себе в удовольствии еще раз посидеть в любимом ресторанчике, который теперь, отодвинувшись в туман прошлого, казался ей ностальгическим раем. Она осматривалась. У нее скоро будут гастроли в Париже. Миша Вольпи разучил с ней новое отделение, специально для зала «Олимпия». Зал «Олимпия»! Шутка сказать! Если бы Алле год назад сказали, что она будет выступать в зале «Олимпия» в Париже, она бы повертела пальцем у виска и бросила: «Пить надо меньше».
Они с Горбушко, собкором газеты «Свежий номер», ведущим рубрики «Сенсация», сидели в «Парадизе», и Алла следила, как снуют официанты по залу – туда-сюда, туда-сюда. Они говорили долго; говорили, пока им, как назло, долго не приносили закуску и второе, говорили, едва глядя на принесенную еду, безразлично ковыряя в ней вилками; говорили, осторожно прощупывая словами почву друг под другом – не опасно ли, не оступятся ли, не завязнут ли в трясине. Из долгого и непростого разговора Алла узнала, что Павел Горбушко – настоящий фанат, fan, просто-таки летописец Любочки Башкирцевой, ее Штирлиц, ее Квазимодо. «Я был на всех ваших концертах в Москве. Я ездил за вами во все более-менее крупные города, где вы давали концерты. Я по крупицам собирал сведения о вас. Я…» Он закурил. Она лениво тянула из бокала сухое вино, которое она ненавидела. «Я мотался за вами по Америке, когда вы еще не были замужем за Лисовским». Она вздернула брови. Он слишком внимательно смотрел на нее.
Халдей Витя сто раз прошел мимо их столика, сто раз подобострастно, с улыбочкой, сощурился, склонился: сама Башкирцева! «Не узнал», – с горечью подумала Алла.
– По Америке?.. Это занятно.
– Да, по Америке. Вас тогда подхватил под мышку Юра Беловолк. Юра – древний делатель звезд, я-то знаю. – Алла с сомнением глянула на его гладкое молодое лицо. – Он выловил вас в ресторане. – Почему этот нахал папарацци на нее так подозрительно смотрит? – Я тогда подрабатывал на нью-йоркском телевидении, осваивал медиапрограммы, строчил как проклятый статьи о русских на чужбине, пропадал в ресторане «Приморском» на Брайтоне… – Он посмотрел вокруг. – Здесь немного похоже на Брайтон. Какая-то странная атмосфера мрака, ностальгии. Даже табак тут пахнет ностальгией. А мы в России. В сердце Москвы. Вам не кажется это странным, Люба?
Он назвал ее – «Люба», и она слегка вздрогнула. От него не укрылся этот вздрог. «Дотошный папарацци». Она сделала большой глоток вина. Вот сейчас он начнет расспрашивать ее об Америке, и она промахнется. Она пьет, а он нет. Не хочет захмелеть? Журналисты всегда так внимательны к себе?
– С некоторых пор мне ничто не кажется странным. – Она помолчала. Он взглянул понимающе и как-то насмешливо. – Даже ваша слежка за мной в Америке. Вам что, в Штатах делать нечего было?
Сердце бухало в ребра. Сейчас он спросит ее: «А вы помните, когда вы пели в крошечной забегаловке „Цветок лотоса“ в Чайна-тауне, каких там подавал дядя Сяо к столу змей, жаренных в собственном соку?»
– Мне было что делать. Журналисту всегда есть что делать. – Его глаза вдруг загорелись странным волчьим, чуть красноватым светом. – Я был в вас влюблен, Люба, с тех пор, как увидел вас там, в Нью-Йорке, в «Ливии». Вы так забавно пели «Жиголо, мой жиголо». Я сам чувствовал себя этим жиголо. Я сразу почувствовал в вас мощь. Я сказал себе: вот эта маленькая певчая русская шлюшка из занюханной «Ливии» – гений. Надо проследить за ней. Потом этот ваш внезапный взлет. Концерты в Америке. Диски. Ваш голос на дешевых кассетах, в машинах, в автобусах, в такси, особенно если таксист – русский: «Наша Люба поет!» Беловолк накрыл вас вовремя, как бабочку – сачком. Ух, ему повезло. Но ведь и вам повезло тоже.
– Вы не слишком много говорите, Павел? Покурите. Я подумаю о том, что вы мне сказали. Я и не подозревала, – она постаралась, чтобы усмешка вышла естественной, – что у меня был такой поклонник в Америке.
Горбушко помолчал. Они оба услышали, как на сквозняке под потолком звенят хрустальные колокольчики ресторанных люстр.
– Я знаю о вас такое, что даже сам ваш пастух, Юрочка Беловолк, не знал никогда.
Их глаза встретились. Алла шепнула себе: «Только не побледней. Только держись».
Она распахнула зев крокодиловой сумочки, вытащила журнал. Раскрыла его на измусоленной ею странице. Поднесла к лицу Павла Горбушко, к самому носу.
– Вы знаете, кто тут сфотографирован? Кроме меня и моего бедного… мужа, конечно? Кто?
Горбушко взял журнал в руки. Его прищур стал режущим, стальным. Он рассматривал фотографию, а Алла исподтишка рассматривала его лицо. «Похож на солдата, – решила она. – Подбородок как тесак, лоб как лопата. Взгляд наглый, глаза как две пули. Так и летит навылет, через тебя. Журналист разве таким должен быть? Журналист – это тихая сапа, он должен вползти, как змея, втереться в доверие, собрать информацию. А этот! Рубит наотмашь, как топор. Сразу видно, человеку неохота зря время терять».
– А вы не знаете?
Снова этот взгляд, резкий, режущий надвое. Полоснувший по лицу, вошедший под ребро, как нож.
Алла постаралась придать своему голосу кошачью вкрадчивость, мягкость.
– Я спрашиваю вас, Павел, не потому, что…
Тишина. Звон хрустальных висюлек в тишине.
– Я знаю, почему вы меня спрашиваете.
После ужина с Горбушко в «Парадизе» Алла так помрачнела, что никакой Беловолк с его жесткими приказами: «Делай то! Делай это!» – никакая суровая Изабелла с ее каждодневной муштрой – тренажерный зал, шведская стенка, сорок отжиманий от пола, ледяной душ, – не могли выжать из нее ни слова. Ни чувства. Ни шевеленья глаз в их сторону. Алла смотрела мимо них. В пространство.
Игнат Лисовский после той ночи с ней звонил два раза. Оба раза, услышав его голос в трубке мобильника, Алла обмирала. «Да, мы можем увидеться. Конечно. Но не сейчас, Игнат». Она не стеснялась назвать его по имени, даже если рядом стоял Беловолк. Когда Игнат позвонил, а Алла и продюсер завтракали, она нарочно подчеркнула, здороваясь: «Да, милый господин Лисовский, это Люба, вы угадали». У Беловолка было такое скошенное лицо, что на нем читалось: я-то уж знаю, голубочки, что вы давно не на «вы». Алла знала, что Игнат не верит тому, что она – Люба. «Увидимся после моих парижских гастролей. Чао». Она нажала зеленую кнопку. Огонек погас. «Твой кофе остыл, Люба». Она развернула газету, лежащую рядом с кофейной чашкой. «Вот как, меня снимают папарацци уже в постели. Это вы меня сфотографировали, когда я сплю?» Беловолк усмехнулся: «Ты же здесь не спишь, а бодрствуешь. У тебя открыты глаза». Он вырвал газету из ее рук, захрустел ею, скомкал. «Иногда мне кажется, что ты и вправду Любка. И что я вас сделал подряд, как матрешек. Одну и другую. Что тебе предлагает младший Лисовский? Руку и сердце? Так сразу?» Алла выпила кофе залпом, обожгла язык. «Он спрашивал меня, хочу ли я пойти на выставку Пикассо из французских коллекций на Крымском валу. Я ни черта не понимаю в живописи, Юрий. Пойти, что ли? Что, я Пикассо в Париже не посмотрю?»
Игнат позвонил мне и ударил мне прямо в лоб: «Давай пойдем на выставку Пикассо в ЦДХ и заодно зайдем к одному моему дружку. Там, в галерее „Альфа-Арт“… Знаешь, у нас с Женькой был дружок». Он сделал паузу, и я чуть не выматерила его по телефону. Это молчание сказало мне: «Ну, ведь ты же не Люба, ты же не знаешь». Ну и что, сердито спросила я, при чем здесь дружок? А при том, затрещал он как трещотка, что именно ему, этому дружку, ты можешь показать ту презабавную вещицу, ну, ту, о которой ты говорила мне тогда… ночью. Черт, когда я могла разболтаться ему о Тюльпане? Неужто я так перепила? Неужели на меня так подействовал секс? Он же на меня не действовал особо никогда. Я всегда владела собой, у меня все всегда было как в аптеке. «Какую вещицу?» – спросила я невинно. «Железный цветок», – ответил Игнат безошибочно, и я поняла, что прокололась. Я действительно, в бреду ли, в забытьи, растрепалась, рассказала. А может, даже и показала, если сильно пьяна была. Я же его с собой в сумочке всюду таскаю, как талисман. Не помню. Ничего не помню, хоть убей.
Пикассо так Пикассо. Дружок так дружок. «Пойдем, – сказала я, – а я кто, твоя Девочка на шаре, что ли?»
И мы пошли.
И мы пришли в этот дом, Центральный Дом Художника, где я никогда не была, очень он был мне нужен, этот Дом, я никогда не интересовалась живописью и художниками, правда, мы с Серебро вели странную дружбу с двумя нищими художничками, торчавшими со своими картинками около гостиницы «Интурист»; художнички были бородаты, низкорослы, грязны и похожи на две дворницких метлы, а глаза у них сияли чисто, будто ключевая вода. Они дарили нам маленькие картинки, написанные маслом на картонках, и называли нас ласково – «путанки». «Эй, путанки, привет, гребите сюда скорей, есть чего выпить, Вася продал этюд, у него коньяк во фляжке!..» Что за имя – Пикассо? Мало что оно мне говорило. Да, краем уха я слышала, что был такой художник, ну и все, пожалуй. И когда мы вошли в залы, увешанные его работами, я поразилась: и это все намалевал один человек?!
Мы шли через анфиладу залов, и Игнат искоса взглядывал на меня, будто я была блестящая елочная игрушка. «С кем ты будешь встречать Новый год?» – «Ни с кем». – «Это что же, одна? И даже без Юры?» – «И даже без Юры». – «Глупо. Я тебя приглашаю, – он помедлил, – в хорошую компанию». – «Посмотрим». Мне не хотелось отказывать ему с ходу. Пусть лелеет надежду. Мы оба все знали друг про друга. Он – что я не Люба. Я – что он знает, что я не Люба. «Слепой сказал – посмотрим?..» Я рассмеялась невесело.
Под цветными перекрестными сполохами вызывающе-странных картин мы завернули за угол, и я увидела над дверью медную табличку с выгравированной надписью: «Альфа-Арт». «Сюда, – сказал Игнат тихо, – заворачивай. Тишина какая тут, звенит в ушах». Мне казалось – звенели золотые музейные тибетские колокольчики над входом в новый, непонятный зал. Антиквар, как это оригинально. Спросить бы Игната: а что, дорого стоят такие вот вещицы? Такие, как мой… железный цветок? И что бы он мне ответил? «Твой железный цветок никому не нужен, крошка. Это мусор, лом. Выкинь его к чертям».
Я ж его не на помойке подобрала, Игнат. Не на помойке. А у Любы дома.
Здравствуйте, – сказал выплывающий нам навстречу из глубины зала, уставленного драгоценными старинными вещицами и увешанного старыми, в разводах кракелюр, картинами в тяжелых золоченых багетах, высокий, худой чуть седоватый, перец с солью, человек с заметной раскосостью узких, как две уклейки, длинных глаз, – здравствуйте, о, гости дорогие, Любочка, давненько у нас не были. А, Игнатушка, привет, привет. С чем пожаловали?.. Обрадовать хотите?.. Помните, Любочка, как я вас три годочка назад обрадовал, а?.. Вот радость-то у вас была, вот радость… Удружил я вам, удружил… Вы уж, пожалуйста, этого не забывайте…
Черт, «не забывайте». Я не знаю, о чем он.
Не забуду.
Рука моя сама полезла в сумку. Я не хотела доставать Тюльпан, и все-таки я достала его. Разжала кулак. На моей ладони лежала эта странная металлическая вещица, да какую, к чертовой матери, ценность она представляла?.. никакой, судя по всему; и она так странно, дико волновала меня, и она прожигала кожу моей сумки, жгла мне руку, жгла душу, – а может, мне жгла душу та ночь с Любой, когда Любу убили, и то, что я стала Любой, тоже дьявольски жгло душу мне.
– Покажите.
Да, взгляни, Бахыт, – небрежно бросил Игнат, косясь на Тюльпан на моей ладони, – Любочка носится с этим цветочком, не знает, куда девать. – Казалось, он даже не удивился. Будто знал, ЧТО ЭТО ТАКОЕ, сто лет. – Сасаниды?.. Или, может, Великие Моголы?.. Или династия Тан?..
Антиквар, которого поименовали Бахытом, – спасибо тебе, Игнат, теперь я хоть буду обращаться к нему по имени, улыбаясь, – бережно принял у меня из руки железную игрушку.
Ни то, ни другое, ни третье, – тихо промычал он, вертя железный бутон в пальцах. – Ни то, ни другое и ни третье, Игнатушка. Не Великие Моголы… а монголы. Скорей всего, Чингис. Или чингизиды. По крайней мере, ковка монгольская.
Может, хунну?..
На хуннскую сталь не похоже. У хунну выделка грубее, неправильнее. Если только… если только это не искусная подделка. Уж больно блеск нов и свеж. Будто вчера из-под ювелирного молоточка. Впрочем… Оставите, Любочка?..
Под расписку, – мои губы пересохли.
Брови антиквара Бахыта поползли вверх над узкими, прищуренными в смехе глазами.
Вы же всегда… хм!.. без расписочек оставляли… Вы же всегда доверяли мне, Любочка!.. Или я, – он приосанился, и я ощутила, как выпятились, заторчали у него под пиджачным сукном все мослы и кости худой фигуры, – уже не вызываю у вас прежнего доверия?.. Да-а, изменились вы, как-то… – он развел руками, – похудели… Гастролей много?.. Или…
По мужу тоскую, – грубо кинула я. – Червь точит. Не могу забыть.
А, ну да, да, – он упрятал вбок, отвел насмешливую раскосость взгляда, – конечно, пережить такое… такую трагедию…
В антикварном зале пахло пылью и чуть-чуть ванилью. Мне казалось – они оба, Бахыт и Игнат, знают, кто я. Знают все. Смеются надо мной.
Я ощущала во всем теле легкую, неприятную дрожь. Будто бы я стояла на крыле летящего самолета, чувствуя все содроганья двигателя.
Так оставляете?..
На три дня, – губы мои шершавились, как наждак. Игнат смотрел на меня с вожделением, как жеребец на кобылу.
Хотите посмотреть картины?.. Новые поступления… Вот недавно Тенирса принесли… Жанровая сценка прелестная, в таверне… Сейчас западная живопись не в моде, сейчас особо ценится русский девятнадцатый век… салонный… Маковский, Семирадский, Харламов… сто тысяч долларов, извольте, вот эта вещица… царевна Лебедь выплывает на лебедях к князю Гвидону… крылышки-то как прописаны!..
Бахыт поцеловал свои пальцы, почмокав губами. Меня уже била дрожь отвращения. Я хотела вон отсюда. На воздух. На улицу. В снег. Через три дня я приду сюда. Я заберу Тюльпан обратно.
Если тебе отдадут его, дура.
Антиквара звали Бахыт Худайбердыев. Он не дрогнул тонким усом, вертя Тюльпан в руках. Я не оставлю вещь. Ну, не оставляйте, дело ваше. Эта штучка сколько стоит? А смотря где, дражайшая. В Брюсселе?.. В Гааге?.. На Кристи?.. На Филипсе?.. На Сотбисе?.. Дайте, я пороюсь в каталогах. Ройтесь на здоровье. Вам что, некогда ждать?.. Игнатушка, напои Любочку кофе, у меня есть дивный кофе из Венесуэлы, натуральный. Не нужна мне твоя растворимая бурда, Бахыт, хоть она и от латиносов. Так не оставите?.. И под расписку?.. Вашей распиской можно подтереться. Любочка, вы раньше не были такой… невежливой. Не тяните кота за хвост. Опишите мне эту вещицу устно. Расскажите мне все о ней. Я заплачу.
Он смотрел на меня как на идиотку. «Стоимость вещи, как минимум… навскидку… э-э-э… триста тысяч долларов. Учтите, дражайшая, это не аукционная цена. Один процент, как минимум, от этой цены, если вещь продается, за экспертизу я обязанвзять». Я глядела на него, как на жабу. Раскосое лицо смеялось надо мной, расплывалось в улыбке. Они оба морочат мне голову. Бежать отсюда. Бежать. «За письменную экспертизу, Бахыт». Мне смертельно хотелось курить. В музее не курят. В антиварной галерее не смолят. «Письменную экспертизу я даю, если вещь оставляют мне на исследование с тем, чтобы продать ее. Мне или кому-либо другому. Кто покупатель, неважно. Важен факт продажи. Но вы же, Любочка, не хотите…» Я щелкнула замком сумочки. Игнат вытаращился на мня, как баран на ноые ворота. Я вытащила из сумочки и отсчитала Бахыту – сотнями – ровно три тысячи баксов. Пять тысяч сегодня утром выдал мне Беловолк, чтобы я заказала для гастролей в Париже новое платье в салоне Кати Леонович, шиншилловый полушубок и туфли с золотым бантом, инкрустированным мелкими алмазиками, у Армани.
… … …
Басе
- Луна в черноте.
- Сосновые иглы
- Колют мне сердце.
Мелкая морось. Запах сырой пустоты.
С Океана здесь всегда несет запахом сырой пустоты. Он никогда не привыкнет.
Какие тягомотные эти задворки Нью-Йорка, где он нынче обитает. Он никогда бы не подумал, что он так будет жить. А впрочем, именно так и надо было ему думать о себе. Художники всегда так живут. То густо у них, то пусто. Разве в России не так было у него? Зачем он уехал из России?
Рембрандт тоже был богат, одевал свою Саскию в шелка и рытый бархат, нацеплял на нее натуральные японские жемчуга, яванские кораллы, что он покупал в еврейских лавках Амстердама за баснословную цену. А потом… Потом умерла Саския. И умер Титус. И он разорился. И распродал все до жемчужинки. И приходили кредиторы и трясли его. И судьи кричали в суде: с вас причитается, господин ван Рейн! С него, с Ахметова, тоже причитается. Он разорился.
Он разорился разом, внезапно, быстро до смеха. Он даже сам не понял, как это получилось. После хором на Манхэттене, после фешенебельной «Залман-гэллери» – эти трущобы в Джерси-Сити, этот полуподвал в краснокирпичном доме двадцатых годов, решетки на врытых в землю окнах, черные скелеты пожарных лестниц по красной, как кровь, стене. Галерист Сол Залман, старик Соломон, выставлявший его на Манхэттене в своей знаменитой галерее и продаваший дорого, так дорого, как и не снилось Энди Уорхоллу и Мише Шемякину, был найден однажды утром мертвым в офисе. Поговаривали разное. Скорей всего, старика Сола убили соперники. В Нью-Йорке нельзя безнаказанно становиться богатым и знаменитым. Соперника уничтожат всегда. Это жестокий мир, и тут надо бороться. Мускулы твои должны быть железными, парень, не то волки с железными зубами тебя съедят и косточки сжуют. У тебя оказались железные мускулы и железные кости, Канат, ты прокололся лишь на одном, не рассчитал. Ты взвесил свои силы, но не рассчитал, что тебя предаст женщина.
Женщина. Никогда не заводи себе женщину. Никогда не бери женщину в дом; никогда не женись на ней; никогда не дружи с ней. Женщина – это порождение темной ночи. Ночь всегда опасна. Ночью люди рождаются и умирают. Ночью жены бросают мужей.
Он очень любил жену. Жена сбежала от него в Италию с любовником. Она сбежала от него ночью. Когда он спал. Выпросталась из-под одеяла, выгнула хребет, как кошка, беззвучно, по одной половице, прокралась в другую комнату, где у нее все было приготовлено для побега, вещи сложены в дорожную сумку, запрятанную под диван.
Он очень ее любил. Он так любил ее. Он любил перебирать ее мелкие черные кудри, густой волной, тяжелым крылом черной птицы ложившиеся на смуглые, лоснящиеся от загара и кремов плечи; он любил целовать ее длинные, как у креолки, жгуче-черные – зрачки сливались с темной радужкой – бешеные глаза, искрящиеся то ли неистовым смехом, то ли отчаянием. «Черный жемчуг, – шептал он, – твои глаза черный жемчуг». Он любил писать ее – и в одеждах, и обнаженную, и голая она была еще красивей, чем в тряпках, и его кисть плясала по холсту, высвечивая в ней то, что другие глаза никогда не увидят. Как вышло, что она завела себе любовника? Разве это когда-нибудь угадаешь? И предотвратишь… Ты же не предотвратишь свою собственную смерть, думал он, выдавливая остервенело краски на палитру, ты же бужешь жить и жить, пока не умрешь, но ты не знаешь часа своего; и ты не приблизишь смерть, ты же не самоубийца. Когда он понял, что она ушла, убежала от него ночью, ему захотелось стать самоубийцей. Он позавидовал Славке Смолину, повесившемуся пятнадцать лет назад в старом сарае в деревне Филимоново, куда он поехал на этюды. Какая муха укусила Славку, он не знал; братва называла его Эль Греко, – не меньше. Кем бы ребята назвали его теперь? Они все думают – он богат и счастлив, на вершине земной славы; матерятся, досадуя на свою нищету. А он вон уже где. На самом дне.
Остаться одному – как это погано. Он остался один.
Он чувствовал себя нью-йоркской поганкой, растущей под стеной краснокирпичного унылого дома времен Великой Депрессии.
Пока у него еще были деньги на счету – он снимал их со счета и снимал себе квартиры, съезжая с них, меняя их одну за другой; когда деньги заканчивались, он подыскивал себе жилье подешевле. Вы знаменитый мистер Ахметов?.. «Я его однофамилец», – мрачно шутил он. Его зубы желтели от табака. Что ни день, он шел в банк, засовывал карточку в банкомат и снимал доллары, снимал, снимал. И шел в ювелирные лавки – как тогда, при ней, вместе с ней. Как она любила копаться в украшениях! А он любил их ей покупать. Теперь он покупал бирюльки один. Складывал в карман настоящие ожерелья, поддельные серьги, неистово сверкавшие – хоть сейчас на президентский бал в Белом Доме – алмазные колье, мишурную бижутерию, стоившую у негров близ статуи Свободы два доллара – для туристов. Вместе с камнями он покупал и ткани. Ему нравились дорогие ткани – и блестящие, и матовые, переливы бархата, перламутровая свежесть атласа, павлинья роскошь китайских покрывал, расшитых хризантемами и райскими птицами. Он был художник, и он был восточный человек. Ему нравилась роскошь Востока, и он любил ее живописать. Он раскладывал купленные ткани на стульях, столах, на спинках кресел, налаживал мольберт, устанавливал холст, давил краски из тюбиков, писал и плакал. Кисть выводила блики на атласе, а он плакал об ушедшей жене, называя ее то непотребными, то нежнейшими именами. «Она имела право на свободу, – шептал он себе, – имела, ты же не можешь это право у нее отнять».
Краски пахли терпко и остро, как фрутти ди маре. Океан был совсем рядом. Комнаты менялись, он переезжал, снимая все более дешевые, и все меньше вещей становилось у него – лишь угловатый, как скелет, мольберт оставался неизменным. Он научился много и жадно курить, покупал все более дрянные сигареты, наловчился курить табак, раскуривал трубку, крутил «козьи ножки». В комнате, уже нищенской, голой, пахло разбавителем, лаком, подсыхающим на холсте маслом – он писал картину, как всегда, подолгу, тщательно накладывая лессировку за лессировкой. Кровать он застилал уже не бельем – странными тряпками: дорогими атласными драпировками, ободранными свитерами, старыми сэконд-хэндовскими плащами, купленными за гроши, кусками рытого бархата, вышитого искусственным жемчугом. «Я Рембрандт, – шептал он, – я Рембрандт. Саския, зачем ты уплыла к этим козлам, к красным кардиналам. Я тебе никогда не прощу». Когда он называл ее шлюхой, ему на миг хотелось шлюху. Он надевал плащ, всовывал в зубы сигарету, выходил на улицу, слонялся, заглядывая в лица женщин. Проститутку было видно издалека. Они ошивались обычно у ночных баров. Отловить их не составляло труда – они сами вешались на шею. «О, бэби, какой ты классный!.. пойдем?.. а сколько дашь?.. от тебя пахнет скипидаром, ты что, с автозаправки?..» Когда он говорил, что художник, – девки визжали: «А нарисуешь?!» Он обещал нарисовать – и держал слово. Он приводил шлюх домой, кормил тем, что валялось в холодильнике, поил – обычно покупал спиртное подешевле в маркете поближе, – варил им кофе, подносил в старинной, антикварной чашечк на серебряном подносе – жена любила пить кофе из этой чашечки. Шлюхи хохотали: ах, как мило! Он шептал: сиди тихо, вот так, так, я буду тебя рисовать. Он писал их маслом, ловя их движения, повороты их голов, раззявленность распутных губ, и, случалось, он засыпал за мольбертом, падая лбом на палитру, вымазывая лицо в краске, а девки, порывшись у него в закромах, в карманах и в тощем кошельке, дочиста обирали его, ощипывали, как липку.
Красные буквы льются по стеклу. Красные буквы льются, льются.
Он смотрел на буквы пристально, будто хотел их вырезать из стекла, унести с собой, наклеить на холст, – присвоить. Красок у него уже было очень мало, он не мог себе купить красок столько, сколько покупал там, в Америке. Он вернулся сюда нищим, и здесь он был нищим. Какого цвета дно? Дно грязно-серого цвета, подчас – темно-зеленого, этот тон может взять сиена жженная, смешанная с густым волконскоитом. Жизнь на дне мира полна чудес колорита. Живи, радуйся, наблюдай. У него не было достаточно красок, и он приспособился – он делал картины из чего угодно, краски уже были необязательны.
Он делал картины из старых досок; из разломанных ящиков; из обрывков тряпья; из клея и зубной пасты, и засохшая зубная паста, обмазанная клеем, вполне сходила за роскошные голландские белила; он, сладострастно, со свистом всасывая слюну, задыхаясь в упоении и самозабвении выдумки, даже швырял грязь, обычную уличную грязь на холст, сделанный из распоротого мешка из-под картошки, и думал о себе: ай да я, отлично придумал, вывернулся. Вывернулся из-под судьбы?.. Иной раз у него покупали его странные картины, сделанные им из того, на что люди плюют, обо что вытирают ноги, во что кладут одежду и овощи, пахнущие землей. Покупали дешево, прельщаясь именем: а вы не тот самый Ахметов, случайно?.. – и когда он мрачно качал головой: нет, не тот, вы ошиблись, – у покупателя лицо вытягивалось: как жаль, что волшебство кончилось, а мы просто, ну так уж водится на Руси, помогли бедному художнику.
И совсем недавно он сделал картину из старой двери старого гаража. Он нашел эту дверь уже оторванную – она валялась на снегу, – подошел к ней, прищурясь, и в свете зимнего солнца на исчерканном временем, кроваво-ржавом железе сверкнул цветок.
Он отступил на шаг. Наклонил голову. Цветок исчез. Он шагнул ближе – и ослепительный металлический тюльпан проступил так явственно и грозно скоплением иглистых, морозно-колких звезд, так больно хлестнул высверком по глазам, что он попятился и закрыл рукой лицо.
У него была такая картина в Америке. Давно. Он написал ее с натуры.
У него когда-то был такой вот железный цветок. И он перенес его на холст. И на холсте приделал его к телу женщины. Дышащее соблазном, раскинувшее ноги смуглое тело. Стальной цветок – вместо лица. Страшная работа. Он боялся ее. Он никому ее не показывал, ставил холст лицом к стене. Правда, дотошные друзья любопытствовали. Она была еще сырая, когда однажды один ушлый французик, заезжий режиссер, цапнул ее, развернул к себе – и захохотал: «А где лицо у твоей бабы?!» В ту ночь он напился до чертей.
Он изрезал картину ножом в припадке пьяного отчаяния. Дурак он был! Он ее повторит. Ничего, что нет красок, холста. Он теперь мастер инсталляций. Он научился делать искусство из предметов, из мусора, грязи и лома, из мертвых молчащих вещей, окружающих нас.
Он доволок отломанную дверь до своего жилья. Жилье у него было в подвале. Там было тепло и сыро. Слава Богу, батареи все время дышали теплом, не надо было мучиться с дровами, топить печку. Предыдущее его жилище извело его печкой. Он не умел, не мог заготавливать дрова. Истопив весь зимний запас в два месяца, он мерз, грея руки под мышками, покупая самую дешевую водку, какую мог разыскать. А здесь было хорошо. Райское блаженство.
Он положил лист старого корявого железа на пол и долго смотрел на него. Надо сделать из этого вещь. Он всегда умел делать красивые вещи.
И он стал работать.
И он работал долго и жестоко.
И, когда железный тюльпан проявился ясно и ярко, выступил из ржавой тьмы, мерцая металлом холодных лепестков, он засмеялся хрипло и довольно.
Тот, настоящий Тюльпан пропал. Тот, давний, который ему сделали, чтобы…
Тс-сс. Чтобы ничего. Нельзя об этом. Не думай больше об этом никогда. У тебя есть другой цветок. Двойник ТОГО. Ты же художник. Ты сделал себе новую игрушку. Утешься. Ты дома, в России, ты сдохнешь дома, не на чужбине, и у тебя снова есть Тюльпан. Что тебе еще нужно?!
Тот Тюльпан не пропал. Не ври себе.
Ты же видел его в ресторане.
Там, где ты всегда пьешь свою водку.
У той девицы с черной челкой. У той дивы. У знаменитости. Она показала его тебе тогда. За окном. Или это тебе, Ахметов, приснилось?
А если она узнает?!
Она ничего не узнает. Откуда?!
Все тайное становится явным, Канат. Ты же знаешь это. Все тайное когда-нибудь становится явным и страшным.
Я выяснила. Я выяснила все.
Черт побери, об этом же можно было догадаться. Догадываются догадливые, а туполобые утки вроде меня громко машут крыльями, прежде чем взлететь, – и, когда взлетают, меткая пуля бьет их влет, как и задумано.
Я выяснила, что у этого сволочного папарацци записано – дотошно, скрупулезно, как в Библии, как в амбарной книге – как в Интернете – все, касающееся закрытого дела об убийстве Евгения Лисовского. Это бы еще полбеды.
У него, в его дьявольских журналистских записняках и в электронном блокноте, который он таскал с собой, как визитку, в нагрудном кармане, было зафиксировано все, касающееся убийства Любочки Башкирцевой.
Он действительно был помешан на ней. Помешан до того, что… вынюхал даже это?! От кого?! От Юрия он все узнал?! Не может быть. Беловолк молчал бы как рыба. Разве только под пыткой… Горбушко не Малюта Скуратов и не эсэсовец. Потом, жилистый и спороивный, вооруженный – я теперь это знала – Беловолк уложил бы его одной левой. Кто ему все так подробно рассказал?! Кто?!
– Нет, вы послушайте, пожалуйста, послушайте. Ваши ушки не заболят. Почему вы отворачиваетесь? Вас что-то пугает? Вам что-ниюудь неприятно? У нее на шее была рана от длинного и острого предмета, наподобие шила. И женщина, которая была с ней в ночь убийства, испугавшись, сбежала, но продюсер Башкирцевой смог ее отыскать, припугнул, как мог, и стал делать из нее двойника. Почему вы плачете? Я рассказываю что-то трогательное?
Я закусила губу, я кусала губу до крови, но дикие, идиотские слезы ползли, как горячие змеи, по моим щекам.
– Вы думаете, что вы скажете мне все это, и игра закончится?!
– Почему же. Игра только начинается. Игра, как известно, всегда стоит свеч. И вы еще не загнанная лошадь. Вы только начинаете скачки. Я думаю, вы будете иметь успех. Все верят, что вы Люба. Народ верит. При желании Любу можно было бы воссоздать даже посредством компьютерной графики и пускать этот мультик по ящику. И народ верил бы точно так же.
Я схватила со стола зажигалку.
– Вы слишком много курите для певицы… Люба. – Насмешка в его голосе испугала меня. Слишком жестко она прозвучала, как угроза. – Кстати, как ваше настоящее имя? Вы подтверждаете то, что я вам прочитал?
– Протоколист. – Я задыхалась от бессилия. – Сволочь. Сучонок вонючий. – Я вспомнила все своли вокзальные ругательства, что я выпаливала в рожи сучьим клиентам, если они, пытаясь зажилить деньгу, норовили улизнуть от меня, облаять, а то и ударить. – Куриный помет. Откуда ты…
– Мы с вами еще не перешли на «ты», дорогая. Люба мне слишком, – он подчеркнул это «слишком», – слишком дорога, чтобы я стал щадить такую…
– …дешевку, как я, договаривай, гад.
– Такую прожженную тварь, как вы. Итак, вы подтверждаете, что все это правда?
Я резко вытерла глаза выгнутым запястьем.
– Ты, гаденыш. Я покупаю.
– Что – покупаете?
Он смотрел наигранно-непонятливо. Я обозлилась.
– Я покупаю у тебя этот материал. Сколько?!
– Играете в богатейку?.. – Горбушко процедил меня, как через сито, через медленный, пристальный, издевательский взгляд. – Славная бедная девочка, хочет поиграть в богатейку. Не каждый раз такое случается.
Он внезапно встал. Вырос надо мной. Взял меня рукой за подбородок. Крепко сжал мой подбородок жесткими пальцами.
– Я продам этот бесценный материал только за суперденьги… или вообще не продам. Это мое будущее. Это моя слава.
Он стоял, держал мой подбородок в жестких пальцах, тяжело дышал, сопел надо мной, и я ненавидела его больше всего на свете. Кровь бросилась мне в голову. Сейчас я могла бы его убить.
Он замолчал, выпустил из клещей-пальцев мое лицо. Я брезгливо отвернула голову. Все-таки выбила из пачки сигарету. Все-таки крутанула колесико зажигалки.
– Вы не Люба. Хотя играете искусно. И внешне все сработано – не придерешься. Как вам это удалось? Впрочем, это удалось не вам. Беловолку. Вас хорошо вышколили. И вы блестящая актриса. Вы будете еще долго дурить публику. Пока я…
Сволочь, я знала, что он сейчас скажет, сволочь.
– Пока я не открою эту тайну публике… через все газеты… через все телевидение и радио… через Интернет.
Снова молчание. Мне стало по-настоящему страшно.
Страшнее, чем тогда, когда я своим девкам, Акватинте и Серебро, трепалась обо всем. А может, это они?! Ну не дури. Горбушко не мог их найти. Он же не шпионит за мной. Он же не ходит за мной по пятам. Не висит на хвосте у моего «кадиллака».
– Чем мне купить вас, чтобы вы, сумасшедший, не обнародовали все это?!
Я крикнула это громко и хрипло, как прокуренная шалава Лизавета с Казанского. Она, юродивая, слонялась по вокзалу, моталась как помело, хрипло выкликала: «Я пирожок! Я пирожок! Кусай все, кому не лень!» Я тоже былапирожок. Вот – докусались меня. Уж лучше бы сразу сожрали.
Молчание. В полном молчании зазвенел гонг.
Это звенело у меня в ушах.
– Правдой. Вы скажете мне правду. Кто убил Любу.
Горбушко прямо посмотрел на меня. Посмотрел мне в глаза.
И я посмотрела ему прямо в глаза.
И в его глазах я увидела свет безумия, блеск взгляда маньяка, смертельно влюбленного пса, идущего по пятам древнего ужаса.
– А если не скажу?..
– Воля ваша.
– У меня… есть время подумать?..
– Есть.
– Сколько?
Молчание. Молчание висит, мерзнет лицо. Пальцы сжались в кулак. Костяшки пальцев. Костяшки.
Костяшки стучат. Ты была права, Серебро. Часы пошли. Костяшки застучали.
– А если… я не знаю, кто это сделал?! По-настоящему не знаю?!