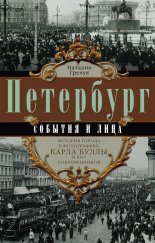Железный Тюльпан Крюкова Елена

– У вас есть время узнать. Это в ваших интересах.
Я вглатывала в себя дым, как больные глотают из подушек кислород.
Теперь у меня два поводка. Два. И два хозяина. Все на свете имеет пару. Все раздвоено. Раздвоена судьба. Раздвоена жизнь. У человека две руки и две ноги, два глаза и два уха, и две губы у рта; и только сердце – одно. Может, я феномен, и у меня два сердца. Два хозяина – Беловолк и Горбушко. И второй – пострашнее будет. Беловолк выжмет из меня все, как из певицы. Он понял, спасибо, браво Мише Вольпи, что у меня талант к пению, что я не только мордой похожа на Любу, но еще и певицей оказалась неплохой, и он задался целью – сделать на мне деньги, еще деньги, еще, еще деньги и славу; Люба была его творением, она умерла, и он, чтобы утешиться, сделал двойника. Беловолка еще можно было понять. Я даже на миг восхитилась им: это он сделал Любу бессмертной, а меня – ее продолжением! Но Горбушко…
Горбушко сдаст меня как убийцу, если я не найду ему правду.
Цена правды – жизнь.
Что ж, так было всегда.
А ты бы, дрянь с Казанского, хотела, чтобы было все по-другому?!
… … …
Басе
- Смотрю на меч,
- И течет роса по нему.
- Холодное утро.
- Я улыбнулся:
- Плачет и твердая сталь.
– Хунну пользовались широкими и короткими мечами. Они предпочитали сражаться тяжелыми, не особенно длинными коваными мечами, такие мечи висели у них на кожаных поясах в плетеных ножнах. У чжурчжэней имелось оружие гораздо более изощренное. Мечи разных видов, и длинные, и короткие, а также разнообразные ножи, несколько сотен и даже тысяч видов ножей. Китайцы, жившие на берегу моря, в портовых городах, и имевшие связи с другими странами, встречая иноземные корабли или посылая в далекое путешествие корабли собственные, привозили издалека чужестранное оружие, и китайские мастера перенимали заморский опыт. Видите, этот нож хоть и сделан на Востоке, а формой он напоминает наваху, нож-рыбу иберийцев. Такой нож если метнуть – он пронзает грудь навылет, не хуже пули. Таким ножом можно убить даже быка, если умело перерезать ему горло. Вот нож для жертвоприношений, кстати. Он выгнут слегка, но не как ятаган, похожий на серп Луны, а чуть-чуть, как рыба чехонь. Да, он на чехонь и похож. До чего красивый. Если его лезвие остро заточено, оно без труда перерезает глотку даже самому сильному зверю – хищнику: медведю, барсу. Охотники в горах охотились с такими ножами на снежного барса ирбиса. На Востоке было также и хитрое оружие, которое было скрыто в разных… Вы спите?.. Зачем вы спите?.. Не спите…
Тени ходили по потолку. Человек, тихо и монотонно говоривший, оторвался от книги. Книга лежала перед ним вверх ногами. Он ощупал пустой стол, как если бы на нем лежали вещи. Он видел эти вещи. Он видел ножи и мечи и иное оружие. Он любовался им. Он медленно произнес, глядя в угол:
– Не спите, прошу вас. Я не рассказал вам самое интересное.
По потолку ходили тени, и казалось, что в кресле кто-то сидел. Может быть, там и впрямь кто-то сидел. Говоривший минуту подождал, потом успокоенно выдохнул:
– Ну вот, так-то лучше. Глазки открылись. Слушайте, дорогой мой. Вы же теперь ее муж, а раньше я был ее мужем; когда я думаю о том, как моя жена ложится под вас, как она раздвигает перед вами ноги, мне хочется завыть и кинуться головой в снег, и так замерзнуть. Но, видите, я жив, и я рассказываю вам всякие забавные вещи и показываю разное оружие. Зачем?.. Для того, чтобы вы… ха-ха, переняли опыт… скопировали… слямзили… сделали точно такое же… такой же нож, такой же вот меч… и убили… убили вашу и мою жену?.. О нет, вы никогда ее не убьете… Мою Риту… мою…
Тень на стене кивнула длинным птичьим носом. В теплом затхлом воздухе пахло табаком. Говоривший возобновил гундосую, мерную речь.
– И вот, поглядите-ка, я еще не показал вам, самое великое оружие – нож для метания вдаль, им можно убить, только если бросаешь его… Когда он летит, он блестит нестерпимо… Его бросают в плясунью на арене цирка, во взбесившуюся лошадь… в неверную жену… Она танцует и закрывает живот рукой, нагой живот, перламутровую грудь, ах, как ее можно написать, кадмий красный густо разбавить белилами, стронциановой желтой, чуть охры добавить… всего два мазка… она пляшет и знает, что сейчас умрет, что все равно я брошу нож, что все равно ты бросишь нож… Это японский нож, это нож самураев, столь же знаменитый, как самурайский меч, и зачем, зачем ты его не сделал мне, ты, собака, лучший друг…
В круге света от лампы, прикрытой драным абажуром, клонилась голова. Волосы тускло блестели сединой. В сморщенном ухе мерцала старым золотом, как слеза, золотая серьга.
Он был один. Нет, их было двое. И он пытался напомнить тому, другому, о том оружии, которое он сделал ему когда-то давно, там, в каменных недрах… – Шанхая?.. Иокогамы?.. Чайна-тауна?.. – по его страстной просьбе, в ответ на его слезы, его мольбу, его ужас, его ненависть.
… … …
Он тупо, набычившись, глядел сквозь стекло. Красная надпись, читавшаяся наоборот, уже не так будоражила его. Он уже не хотел сделать из этой надписи картину – разбить булыжником стекло, вырезать стеклорезом алые буквы, унести домой, наклеить на мешковину. Как бы он назвал такое полотно? Он бы назвал его: «Кровавая Мэри». Повсюду пьют коктейль «Кровавая Мэри», не только в Америке. Они с женой тоже пили его. Жена очень любила грубые коктейли, грубую еду. Любила жареное испанское мясо с бобами, алжирский кус-кус – рис, мясо, вареные овощи. Вино пила кружками. Водку – как извозчик, сказали бы сто лет назад. Теперь в Москве нет извозчиков. А вот в Вене есть, по улицам Вены снуют старинные фиакры. Туристический бизнес, доход, деньга в городскую мошну. А Нью-Йорку не до извозчиков. Нью-Йорк скоро подохнет от автомобилей. Кровавая Мэри, кровавая Кармен, кровавая Машка. Эй, Машка, сюда!.. Развелось проституточек. Так и шныряют между столов, снимают клиентов. Интересно, сколько они отстегивают официантам? Барменам?..
О, опять эта козочка. Она мелькает здесь не впервые. Тоже шлюха?.. Не похоже. Богато одета. А что, богатых шлюх, скажешь, не бывает?.. В наше время все бывает. Чудесное время, Господь, доложу я Тебе. Спасибо, что Ты все так устроил. Ты показал нам, что будет, если мы прорубим окно в Америку. Прорубили. А топор-то наш, старый, русский, тупой. И ко дну идет быстро, стремительно. Куда идешь, козочка?.. Сядь ко мне. Я старый и немного пьяный, ну, да это ничего.
Он разлепил губы.
– Эй, крошка, иди ко мне. Посидим. Мне скучно.
Рука его согнулась в неловком зазывном жесте. Богато, во все черное – в черный шелк, в черный бархат – одетая дамочка смотрела на него во все глаза. «Сейчас плюнет мне в рожу», – подумал он. Она шагнула к нему, отодвинула стул и уселась за его столик.
Она глядела на него из-за наполовину опорожненной бутылки водки, и ее глаза горели напряженным светом, как лампы большого накала. Он не понял, светлые у нее глаза или темные. Черная челка свешивалась до бровей, лаково блестела. Она ему кого-то сильно напоминала.
– Ну, привет, – сказала брюнетка хрипло. – Посидим, значит? Еще пузырь закажем? И закуски. Ты сиди, – остановила она его властным жестом, когда он сунулся, так, для виду, в уже пустой карман, – я сама закажу. Я угощаю. Эй! Икры нам! Мясное ассорти! Хлеба, помидор! И пузырек, – выдохнула она в лицо подбежавшему, скалящемуся халдею, – «Гжелка» есть?..
– «Абсолютику» не желаете?.. – официант подмигнул. Ну конечно, они друзья. Девочка снимает здесь сливки. Работают вместе, прожженные.
Официант улизнул, и он опять воззрился на девицу. Сердце ныло от бередящего, зудящего, как надоедливый зуммер, воспоминания. Где он видел ее? Где? Она подперла лицо кулаками, облокотившись на стол. Рассматривала его, как если бы он был не Канат Ахметов, а редкий тропический жук.
– Рассматриваешь?.. Гляди, гляди. Осетрина бывает только первой свежести. – Он поморщился, губы его скривились. – Сто морщин, двести. А когда-то художник был красив.
– Вы… художник?..
Он качнулся вперед. Брюнетка возьмет им еще бутылку «Гжелки». Это изумительно. Это великолепно. Это так замечательно, что ни в сказке сказать.
– Я – художник. – Он сложил губы в трубочку, будто посылая воздушный поцелуй. – Я великий художник. Ты меня не знаешь. Я был когда-то знаменит. Картины мои – в коллекциях… королевы английской… президентов всяких… князей, магнатов… черт знает у кого висят мои картины… так вышло, крошка, что я вот тут сижу, ты уж меня извини. – Он пьяно шмыгнул носом. – Так уж получилось. Не обессудь. С каждым бывает. С тобой вот тоже может случиться. А красоточка ты. – Он сильнее сощурил глаза, они стали совсем как две щелки. – Где-то я тебя видел, не вспомню никак.
Черненькая киска смотрела на него так внимательно, что ему стало не по себе.
– А ты меня узнала, узнала!.. Да, мои фотографии раньше в журналах печатали… давно, двадцать лет назад… тебя, крошка, тогда еще и не свете не было… с какого ты года?..
– Ни с какого. Витя, мерси!.. Ставь все на стол и исчезни, – черненькая быстро протянула ошалевшему официанту зеленую купюру, – на тебе, провались… – Она снова уставилась на него. – Ну, давай посидим, – весело сказала. – Ты забавный. Ты очень, очень хороший. Я тебя приметила давно. Я увидела тебя первый раз с улицы. Из-за стекла. Ты всегда тут водку пьешь? Почему ты был знаменит, а сейчас не стал?
Он смотрел на черненькую, коротко стриженную девушку, и ему было радостно, как в детстве. Если бы не этот странный, комарино зудящий зуммер внутри него, под ребрами, в висках.
– Потому что, – назидательно сказал он, улыбнулся, и его желтый клык выставился хищно. – Ничего нет нового под солнцем, все люди то воспаряют, то низвергаются в пропасть. А потом все становится костями и прахом. Понятно, крошка?.. Где я тебя видел?! – почти крикнул он, и из-за соседних столиков на него оглянулись возмущенно.
Она налила водку в рюмки сама. Чокнулась с его рюмкой.
– Давай за встречу, художник. – Ее блестящий глаз глядел озорно, завлекательно. Может, она уже где-то выпила? – Я-то тебя вижу впервые.
Он поднял рюмку. Поднес к глазам. Посмотрел на нее сквозь водку, как сквозь алмаз.
– Вспомнил, – вышептал он довольно. – Все вспомнил. Ты нью-йоркская певичка Люба Башкирцева. У тебя был концерт в нью-йоркском порту, для докеров, на открытом воздухе, в тот день, когда я… ну, словом, когда я убегал… уплывал… я… бежал!.. – он махнул рукой. – Мне надо было убежать, вернуться… понимаешь, вернуться… а на самолет у меня денег не было… уже не было… и я…
Она смотрела на него, широко распахнув глаза.
– Ишь, реснички-то накрашенные, неподъемные какие… Хочешь, допьем это дело, доедим, – он взял пальцами из тарелки ломоть буженины, засунул в рот, – а то и не доедим, соберем в кулечек… и еще бутылочку возьмем, в ночь, про запас… и рванем ко мне?.. Ко мне в мастерскую… И я вспомню, расскажу тебе, когда там… когда я…
– Когда вы убегали из Америки в Россию? – четко спросила чернявая. Он обрадованно кивнул.
– Вот-вот… да-да… А ты… а ты правда Люба Башкирцева?.. Это ведь ты?.. Я хлопал тебе… в порту… я кричал тебе: браво!.. Русская девка всех ниггеров за пояс заткнула!..
Алла смотрела на него все так же, широко открытыми глазами, не мигая. «Как кукла», – подумал он.
– Да, – кивнула она. – Да, я Люба Башкирцева. Ты угадал. И мы сейчас пойдем к тебе. Как ты хочешь.
Он долго возился с ключом. Забухшая дверь с трудом поддалась. Великий художник Канат Ахметов жил, существовал, прозябал в подвале неподалеку от Казанского вокзала, в Рязанском переулке. Она переступила порог и чуть не упала – вниз сразу же, за порогом, обрушивались три крутых ступеньки, а свет Ахметов не успел зажечь. Он вцепился в ее локоть и удержал ее.
– Ножку не сломала, примадонна?.. Вот и ладненько!.. Проходи… Дай шубочку сниму, поухаживаю за тобой, повешу… М-м-м, какая шубочка… Любочка… У меня, в моем логове – сама Любочка!.. Баш-кир-це-ва… Да ведь и я тоже не лыком шит, а, Любашечка?.. Выпьем… закусим… Закусочку взяла из ресторана?.. «Парадиз» он и есть «Парадиз»…
Он зажег свет. Тусклая лампа под потолком. Как он работает здесь при таком тусклом свете? Алла огляделась. Да, логово. Логово волка. Старый волк лежит на холодном полу и рычит, есть хочет. И пить. Напиться, чтобы заглушить скорбь. Он узнал ее, сказал он. Беловолк сделал из нее копию Любы. Теперь ее все узнают на улицах. Хорошо, она ездит в машине.
– Машина у тебя классная, – пробормотал он. – У меня тоже раньше была… там, в Нью-Йорке. Я разбил ее в пух. Ну?.. Нравится у меня?..
НРАВИТСЯ. Какое слово. Алла проглотила слюну. Облизнула сухие губы. Огляделась. Подобралась вся, сжалась в комок.
Ей не могло здесь НРАВИТЬСЯ.
Она попала в ад.
Грязное и нищее жилище не могло испугать ее – она за всю свою маленькую жизнь навидалась таких жилищ выше крыши. Со всех сторон ее обступали Чудовищные Вещи. Такие, каких она никогда не видывала – и не могла бы увидеть нигде. Кроме как здесь. В мастерской в прошлом знаменитого, а ныне забытого, спившегося, проспиртованного до костей, нищего художника Каната Ахметова.
Прямо на нее глядела голова Медузы Горгоны. Она была сделана из настоящего черепа. Вместо волос-змей Ахметов приклеил к голому черепу Горгоны портняжные метры. Они свисали до полу, шевелились на сквозняке – хозяин не закрыл форточку, холод гулял по каморке. Зубы Горгоны скалились, пустые глазницы черно смотрели на Аллу. Огромная скульптура из двух стульев, водруженных друг на друга, увенчивалась глиняной тыквой и разбитым ночным горшком, из которого выползали – она вздрогнула, попятилась, взяла себя в руки – черные тараканы. Как настоящие, черт возьми, да они же картонные… из папье-маше… искусно крашеные. Нет, настоящие! Только мертвые… высушенные… наклеенные на дерево, на дерматин…
Господи, что это?! Виселица. Зачем он сделал здесь виселицу?! Что помнит душа человека о прошлых жизнях, о тысячах умерших, погибших насильственной смертью, об убитых на сотнях войн, о казненных? Он сделал виселицу… Боже, он совсем спятил… из ручки старого пылесоса… и петлю стащил – срезал?.. – из салона автобуса… Господи, помоги, да он же сумасшедший… И она приплелась сюда, к нему… Зачем?.. Ей захотелось развлечься?.. Отдохнуть от Беловолка?.. От вечной муштры?.. От Игната, под которого надо было ложиться и ложиться бесконечно, чтобы он тоже не выболтал миру ее тайну, шитую белыми нитками?.. От мыслей о Тюльпане?.. От чувства обреченности, что охватывало ее, едва она вспоминала об этой сволочи, о Павле Горбушко, и о том, что у нее осталось так немного времени?.. Так мало времени, чтобы…
На этой виселице он повесит ее. Напьется, упьется в хлам, озвереет, обезумеет и повесит. И она будет качаться в троллейбусной петле, пьяная, с высунутым изо рта языком, с посинелой мордой, никакая не Любка, а просто Сычиха из Красноярска, пьяная после ночи с вокзальным обходчиком. Так все глупо кончится. Весь твой светский блеск, вся поддельная мишура.
Она шагнула вперед – и под ноги ей выстрелил сноп металлического, жесткого света.
Чтобы не упасть, она отшатнулась назад и схватилась рукой за спинку колченогого стула. Стул закачался, тоже как пьяный, поехал под тяжестью ее тела, ножка стула подломилась, и Алла упала – шумно, позорно, вместе со стулом, а Ахметов стоял и улыбался бессмысленно.
– Ну что же ты, крошка, – сказал он заплетающимся языком, – что же ты… ну поднимись… ну я сейчас…
Он протянул ей руку. Она оттолкнула ее. Встала сама. Отряхнула платье. Старалсь не смотреть в ту сторону, на пол, себе под ноги, откуда в нее ударил снизу этот странный, жестоко-ослепительный свет. Она даже не спрашивала себя, что это. Она знала – это сделал он. Еще будет время посмотреть. Еще будет время спросить. Если, конечно, они не слишком крепко надерутся к утру. Позвонить Беловолку? Сотовый в сумочке. Лень. Потом. Когда ты не будешь лыко вязать?.. Все равно потом. Сейчас нельзя. Я гостья. Я в его личном Эрмитаже, в его бедняцкой сумасшедшей Третьяковке. Когда я падала, подумала она, моя черная юбка задралась, и он увидел мои ноги. Он сейчас будет вожделеть меня. Он начнет приставать ко мне. Все эти разговоры кончатся одним – тем, что ей так отлично известно. Зачем она сюда явилась?! Какого дьявола?!
– Любочка, голубочка…
– Я тебе не голубочка. Это все твои поделки? – Она обвела подвал рукой.
– А то чьи же! – Он выпятил под грязной рубахой тощую грудь. – Ахметов и без красок художник. Классные инсталляции?.. у, конфетки… первое место на Биеннале в Гран-Пале, золотая медаль…
– Что такое… инсталляции?.. – Ее голос внезапно сел, охрип. – Ин… что?..
Она впервые слышала это слово. Оно пугало ее. Так же, как все, что тут обступало ее со всех сторон.
– Ух ты, ах ты, она не знает… Ну, разгляди получше!.. И садись. Да садись ты, не бойся!.. Любка… – Она вспомнила, как Беловолк сказал когда-то, вспоминая о Любиной карьере там, в Америке: «А была рыжая Любка Фейгельман, красно-рыжая, как и ты». – Кто бы мог подумать, что у старика Ахметова, в его вертепе, в его берлоге…
Она искоса глянула на него. «Ты совсем не старик, – подумала она отчего-то зло. – Тебе от силы пятьдесят… а то и меньше. Алкоголики рано старятся. Тебя бы отмыть, почистить. И чтобы ты не пил водку хоть дня три, четыре».
– Где ты берешь деньги на водку? – спросила она, осторожно садясь на стул, такой же колченогий, как тот, сломавшийся.
– Да где угодно… где угодно. – Он засуетился, нашаривая посуду в распахнутом старом буфете. – Где угодно, видишь ли.
– Крадешь, что ли? – Она была не особенно деликатна.
Он тоскливо покосился на нее, прижимая к груди две битых фаянсовых чашки. Раскосый глаз загорелся тусклым светом, как лампа под потолком. Она пожалела, что вызвала в нем печаль. Чего доброго, еще заплачет.
– Я продаю работы.
– Кому? Таким же бомжам, как ты?
Он вздохнул. Поставил чашки на стол, укрытый пожелтелой газетой. Построгал потускневшую золотую серьгу в мочке уха.
– Тебе это интересно? Я думал, тебе будет интересно послушать про мою жизнь в Америке. Жизнь знаменитого художника в Америке, это же так интересно. – Он разлил водку. – Я такой водки давно не пил… аристократическая… маслом так и течет в глотку… и становится горячо… как в раю. Мы с тобой сегодня в раю, Любочка, а?!..
Она поморщилась. Усмехнулась. В раю. В таком раю, где она пребывает сейчас, не приведи Господи пребыть. У тебя мало времени, Алла. У тебя его так немного. Расслабься хоть чуть-чуть с этим забавным человечком.
«Он не забавный. Он серьезный. Он загадочный. Он… страшный. Он…»
Она резко, так, что он даже испугался и вздрогнул всем телом под нищенскими тряпками, повернулась туда, откуда ей под ноги брызнул серебряный свет.
– Что это?! Отвечай быстро! Ну!
Он испуганно вылил в рот водку. Понюхал рукав.
– Ты что… ты что это, Люба!.. Ты… с места в карьер?!.. ну нельзя же так резво брать с места в карьер… Это… тюльпан…
Она встала со стула. Шагнула к огромному листу железа, валявшемуся на полу, как ржавый корявый ковер. На ржавчине был тщательно процарапан гигантский цветок. Тюльпан. Серебряные, стальные крылья лепестков отсвечивали зловеще. От чашечки цветка вниз текла, вилась серебряная лента – Алла сначала подумала, змея, – потом догадалась: стебель. Цветок и стебель, и больше ничего. Металлический цветок – на густой, непроглядной ржавчине старости и смерти. Металлический цветок, как это мило. Железный цветок. Как прелестно все это, как изысканна инсталляция, или как там ее, несчастного художника, если не считать того, что в ее, Аллиной, сумке тоже лежит железный цветок.
Тоже тюльпан.
Бред. Невозможно. Так не бывает.
Так вот зачем она сюда пришла!
Вставай и быстро убегай, сыщица. Все равно тебе не разгадать этой загадки.
Сиди, кляча, на месте. Сиди, Сычиха, стерва. Не рыпайся. Тебя Бог сюда привел. Выпытай у этого человека все. Сдери с него кожу. Вынь из него душу. Но узнай. Узнай все. Иначе Горбушко тебя убьет. Иначе это ты будешь убийцей. И никто другой.
– Это твоя… картина?..
– Это моя картина.
Кажется, он был доволен, что ей понравилось. Его лицо лоснилось. Раскосые глаза искрились. По лбу бежали, переплетались морщины.
– Ты… – Ей хотелось крикнуть: у меня в сумке такой же цветок! Она закусила губу. – Ты… давно ее сделал?..
– Недавно. Это моя новая вещь. Тебе нравится?.. Купи. Ты богатая.
Ну да, он же думает, что она Любовь Башкирцева.
Ну да, он думает, что я – Любовь Башкирцева, что я богата, как норвежская королева, как мадам Форд, как Аль Капоне, и куплю у него эту картину, этот процарапанный на двери старого гаража стальной жуткий цветок за сто тысяч баксов, не иначе. Картина лежала у меня под ногами, цветок отсвечивал под тусклой лампой военным блеском сабли или меча, а быть может, остро наточенного ножа. Я подняла глаза и посмотрела на Ахметова.
Он пристально, сощуря свои наглые раскосые глаза, глядел на меня.
Нет. Все не так просто. Все совсем не так просто. Он неслучайно изобразил стальной тюльпан. Он… знает.
Он не знает! Это твои дурацкие догадки! Что, художник не может изобразить цветок?! Розу?! Гиацинт?! Тюльпан?! На двери гаража?! На крышке унитаза?!
– Я куплю у тебя эту картину. Сколько?
Я приоткрыла рот, глядя ему прямо в лицо. От его рта доносился запах водки.
– Сколько, говоришь?.. Ну-ну, сколько… Картины Ахметова бесценны. Ты, крошка, никогда не сможешь ее купить. Потому что я изобразил здесь свою беду. Свое дикое несчастье. Я процарапал здесь свою боль. Сильную боль. Ты такой ине нюхала.
Я ощупывала его лицо глазами. У меня закружилась голова. О какой беде он говорит?!
– Хочешь, расскажу?.. Мы ведь пришли разговаривать… пить, есть, говорить. Со мной так давно никто не говорил. Они в «Парадизе» все зовут меня – Эмигрант… Эмигрант, слышишь ты!.. Я просто – Эмигрант… Уже не Канат Ахметов… У меня уже нет имени. У меня нет возраста, нет имени, нет страны… а пола что, тоже у меня нет?!.. Ну уж нет, дудки… Я еще мужчина… Я… еще… художник!.. и мужчина!..
Он замолчал. В тишине я услышала, как он скрипит зубами.
– Там, давно, далеко, я любил женщину. Она была моей женой. Ты, слышишь!.. ты, бездарная певичка… У меня была жена. Самая красивая жена на свете. Красивая, как цветок.
Я схватила себя за локти, чтобы не прыгали руки. Говори! Говори!
– Я так любил ее. – Голос говорившего охрип, будто он выстыл на морозе. – Мы так прекрасно жили. Я писал ее… о, где ни попадя, на чем ни попадя… раздевал, писал голую… целовал ее колени, швырнув кисти к чертям куда подальше, раздвигал ее ноги… Там… знаешь, там!.. о, там у нее все было – как цветок… Лепестки тюльпана… Я целовал эти лепестки… Она смеялась, стонала… Я любил распускать ее черные волосы, погружать в них лицо, руки… Она вся пахла пряностями, корицей, марципаном, Востоком, она была такая сладкая… моя Рита!.. Залман выставлял тогда меня на Манхэттене. Его… кокнули. Кто?.. Разве можно узнать когда-нибудь, кто кого на этом свете убил?.. Это все только на том свете будет ясно. Мы тут – слепцы!.. слепцы старика Брейгеля, и мы бредем, беспомощно схватившись друг за друга… и валимся, валимся, валимся в пропасть… и вопим как дураки: спасите!.. помогите… а сами уже летим задравши ноги…
Он замолчал. Я крепко сжала зубы. Боялась спугнуть его. Плеснула водки в чашки – себе и ему. Залпом выпила свою.
– Ну?.. Ты про жену говорил…
– Да, про жену. Про жену, верно! – Он выпил, подхватил двумя пальцами ломоть сырокопченой колбасы из мясного ассорти, что мы приволокли из «Парадиза». – Жена моя прелесть… другой такой на свете нет… сбежала от меня с любовником. Старая история! С любовником, с русским любовником, в Нью-Йорке полно русских, где она его подцепила, да еще и в Италию, ах, как романтично… Из Америки – в Италию… Черт бы драл… суки… – Он зажевал колбасу, жевал долго, вслушиваясь во вкус, в свое чавканье, как в музыку. – А я так хотел в Италию с ней поехать… Вместе с ней – поглядеть Микеланджело, Рафаэля… А я ее… драгоценностями засыпал с ног до головы!.. я-то ей… жемчуга к ногам… алмазы… одно колье у меня от нее осталось, она все украшения забрала с собой, сука, когда убегала!.. а вот про него забыла… оно так и лежало рядом с палитрой, в мастерской… алмазное колье… и алмазики складывались, ха-ха-ха, во что бы ты думала, Любочка!.. в тюльпан… этот цветок меня преследует, он мне… да, да, уже надоел…
Он шумно выдохнул. Я сидела как на иголках. Черные тараканы, приклеенные к ночному горшку, были похожи в полумраке каморы на черные агаты.
– Что так смотришь?.. – вскинулся он. – Пьяный я, да?!.. Не пьянее тебя… И вот я стал жить без нее… жить-поживать, добро терять!.. кто-то, хакер какой-то скребаный, влез в мой счет… раздули дело… никого, конечно, как всегда, не нашли… все бьютифул и о’кей… я разорился, я переезжал с хаты на хату… я мучился. Я хотел… сюда!..
Он выкрикнул это так жалко, что мне захотелось схватить его седеющую голову, обнять и прижать к груди, исцеловать это раскосое лицо.
– И я пришел в порт… я стал удирать… у меня не было визы, не было денег, я из гордости не занял ни у кого… я постеснялся занять… меня многие знали, помнили… помнили мою славу… но я так хотел уехать, вернуться… я бредил Маросейкой, Якиманкой, Арбатом, Тверским бульваром… бредил Москвой… и я сказал себе: ступай в порт, подбей матросиков с русского лайнера, с нового «Титаника».. лучше напорись на льдину и утони, это будет лучше… заплати!.. улести… А платить-то нечем, кроме… кроме того алмазного колье, ее колье, что я не продал, я на него смотрел, вспоминал ее, матерился и плакал… я медитировал, Любка, на это колье… И вот я его взял и пошел в порт, я придумал: я договорюсь с матросиком каким-нибудь славным, и он спрячет меня у себя в каюте, провезет тайком, а мне и жратвы особой не надо, ну, хлеба пусть с камбуза притащит, глоток воды… И я нашел такого матроса… добрую душу… и я ему сунул эту алмазную игрушку… мою последнюю память о ней… и он взял…
Колье. Алмазное колье в виде тюльпана. Где я видела такое?!
Фото. Фото вVIP-журнале. Искрящийся алмазный цветок на груди смеющейся у фонтана Треви Любы Башкирцевой.
Почему я не видела это колье в ворохе Любиных украшений в большой шкатулке, которую приносил мне Беловолк время от времени, когда я одевалась на концерт или мы оба собирались на вечер, раут или прием?!
– Он взял и довез тебя до России.
– Он взял, матрос, шельма, еще бы… и мы доплыли до России… и, пока я плыл, я плакал о потере… еще об одной потере…
– О какой?.. – Мой голос сошел на нет. Меня всю колотило.
– Хо-хо, детка… Я так ее любил, что я захотел… ну да, не смейся, как это смешно!.. ее убить… Я сильно любил ее и так же сильно захотел ее убить. Это было мое право. Право мужа… и любящего человека… Наша любовь принадлежала нам… Нам – и только!..
– Но она же, ваша жена, была свободным человеком. Она имела право…
– А я?! Я не имел права ее убить, если я так захотел?!.. Ну-ну, не бойся, крошка, у меня не получилось… Все рухнуло… А я ведь сделал оружие, для того, чтобы ее убить. Мне его сделал монгольский мастер, старик монгол Цырендоржи… там, в Чайна-тауне, в китайском квартале, в ресторане, похожем на фанзу… или на бумажный, на карточный домик… весь исписан иероглифами… Я пришел к Цырендоржи и сказал: от меня ушла жена, я вернусь в Россию, разыщу ее и убью сначала ее, потом ее любовника. Монгол засмеялся: а ты найдешь их?.. Найду, сказал я… и взял с ресторанного стола свечу и поднес к ладони, и так держал огонь, пока не запахло паленым… и монгол выхватил у меня свечу и крикнул страшно: брось!.. я верю тебе…
– Я тоже верю тебе. – Я положила руку на его руку и крепко сжала ее. – Говори. Говори.
– Я… я заказал ему оружие. Я сказал ему: сделай такую штуку, чтобы это не было похоже на обычное оружие!.. на нож, на кинжал, на револьвер, на лезвие… на то, что стреляет и режет… чтобы то, что убивает, было запрятано внутри… Х-ха!.. он понял меня, прожженный монгол… Он… согласился. Он сказал: я знаю древние китайские тайны, тайны оружия династии Тан, тайны Чингисхана… устройство самурайских тайных мечей… древние секреты… я сделаю тебе, что ты хочешь, сказал он, но для этого надо заплатить мне, ха-ха!.. А-ха-ха!.. а денег-то у меня уже не было… а колье жены я приберегал на оплату возвратной дороги… И тогда я сказал ему: заказывай любую картину, Цырен, друг, я тебе напишу, только холст и краски – твои… И он крикнул мне так весело: напиши мне на всю мою жизнь красивую голую женщину, и чтоб я все время смотрел на нее, и у меня всегда стояло!.. ха, ха, ха… И я написал ему красивую голую женщину, Любка… Угадай, с кого я ее списал?!.. Угадала?!.. А?!..
Меня колыхало, как в том корабле, в том океанском пароме, в котором он, в трюмном затхлом закутке, в запахах мазута и мешковины, возвращался на родину.
– Ты написал жену?..
– А кого же еще?!.. Голую, лежащую в подушках, расставив ноги, будто она собирается меня принять в себя… с распущенными волосами… И Цырен весь соком изошел, когда увидел… И хлопнул меня по спине, и завопил: я сделаю тебе то, что ты хочешь! И ты убьешь этим неверную жену, ведь неверных жен всегда убивают, не правда ли?!.. а-ха-ха-ха-ха…
Он так хрипло засмеялся, что я вздрогнула. Дьявол. Я сидела и беседовала с дьяволом.
Не выдумывай, Алка. Слушай и запоминай. Тебе невиданно повезло. Только не спугни его. Не спугни.
– Эта игрушка была хороша… ох, как хороша!.. Это было настоящее произведение искусства… Черт побери, эту штучку хотелось взять в руки, нянчить, как ребенка, взвешивать на ладони ее сладкую тяжесть… она была такая красивая и сладкая, такая волнующая, как… как женщина… как драгоценность… как хорошая живопись, мать ее… Я был там, в мастерской Цырена, когда он мне ее делал. Я следил, как вздымается молоток в его руке. Ковка – древнее ремесло… такое же древнее, как живопись… удовольствие смотреть на мастера… как на акт… как на любовь… Он делал Тюльпан на моих глазах… делал… делал… И еще он вделал в него такое… такое… об этом сейчас нельзя говорить… Ты!.. Любашка!.. Что так смотришь?!.. Я… вспомнил тебя… это ты стояла за окном, ты показывала мне Тюльпан через морозное стекло… ты… ты… Отдай мне его!.. Отдай!.. Я тебе – картину, а ты мне – его!.. А-ха-ха-ха-ха…
Сумасшествие. Вот сейчас. Сейчас я смогу спросить у него, как же Тюльпан убивает.
Тихо! Сиди тихо. Одно твое слово, движение – и ты спугнешь его. Он же в стельку пьян.
Лучше плесни ему еще. Чтобы язык у него развязался совсем.
Нет. Не надо. Он упадет головой на стол. И заснет. Лучше не надо. Слушай.
– И она убежала… и у меня был Тюльпан… и я сжимал его в руке, как сжимал когда-то ее грудь… ее живую грудь… и я его потерял… потерял, падла, а-а-а!.. я сволочь, я последняя сволочь, я его потерял… я сидел в ресторане, я надрался, я был погружен в черноту, все время погружен в черноту… я видел вокруг только сиену жженную, только умбру, только ультрамарин… только черную краску видел я… и я надрался как свинья… я надрался до чертиков… в стельку… в дымину… как никогда в России не надирался… мне надо было как-то заглушить горчеь… и я вертел Тюльпан в руках… вертел и мял… игрался с ним, игрался, дурень… и он выпал у меня из руки, как шишка… и покатился… и я сам покатился лбом в стаканы с недопитым виски… а там, рядом со столом, все вертелся какой-то негр… какой-то черный вертелся там, я помню… я смутно помню… помню, как плакал!.. как кричал: fuck you, America!.. Может быть, он поднял мой Тюльпан… может быть… не помню… больше ничего не помню…