Лесные солдаты Поволяев Валерий
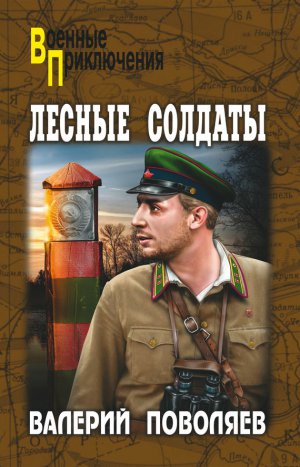
– Что будем делать, а?
– Пока ничего, – спокойно ответил Чердынцев, – будем лежать и наблюдать…
– Ничего мы здесь не высмотрим, товарищ лейтенант, – в свистящий шёпот маленького бойца неожиданно натекла тоска, он пошмыгал носом, будто его кто-то обидел, – и ничего не найдём.
– Приказа на отход не было.
– Погибнем мы тут.
– Бог не выдаст – свинья не съест, Ломоносов. Главное, чтобы Бог не выдал, всё остальное ерунда… Так что не ной, боец!
– И жрать чего-то хочется, – не обращая внимания на одёргивания лейтенанта, продолжал ныть маленький боец; надо заметить, что кроме нытья он был обучен в своей далёкой северной деревне ещё упрямству и стойкости – чертам характера, просто необходимым всякому солдату.
– Не ной, я сказал!
Но Ломоносов опять решил не услышать командира – так было удобно. Глаза его внезапно загорелись азартно – видать, в голову пришла какая-то новая мысль.
– Может, я, товарищ лейтенант, сбегаю к броневику, пошукаю, что там есть, а? Заодно и пулемёт из окна выверну – он нам пригодится… А?
– Не дёргайся, Ломоносов. Бежать куда-либо рано ещё… Понял?
– Понял, чем дед бабку донял, – маленький боец вздохнул жалобно и утих.
Чердынцев вновь покусал зубами травинку. Неплохо было бы разжиться не только оружием, но и биноклем. Без бинокля пограничник – не пограничник, дело его без сильной оптики дохлое, в засаду можно влететь играючи. А бинокль – штука такая, что засаду поможет обойти, даже самую хитрую… Наверняка в броневике есть ещё и бинокль, принадлежащий какому-нибудь задастому немецкому офицеру.
Броневик продолжал стоять с распахнутыми дверцами, это было словно бы специально сделано – брошенная, мол, машина, подходи и садись за руль, – подманивал к себе, но тревожная, какая-то полая тишина, в которой не звучал ни один птичий голос, настораживала: не все, дескать, так просто, не обожгись, солдат…
А с другой стороны, немцы через полчаса, от силы через час потеряют бдительность, глаза у них запылятся, нюх притупится, в сон, глядишь, после сытого обеда потянет… Да и в сортир хотя бы раз, хотя бы один из них должен отлучиться. Нет, никто в сортир не торопится что-то… В чём дело?
Может, действительно засады тут никакой нет, оставлена пара человек с машинной тягой и всё, остальные же почесали дальше вдоль границы, либо вообще углубились в нашу территорию… Ломал себе мозги лейтенант, соображал, что к чему, разные варианты в голове прокручивал, искал ответа на вопросы, которые сам себе задавал, но никаких действий пока не предпринимал, искусывал зубами травинку и сохранял спокойный невозмутимый вид.
На солнце наползло низкое полупрозрачное облако, повисло неподвижно, жара, раскалившая землю добела, немного увяла, откуда-то примчался игривый ветерок, освежил лица. Дышать сделалось легче.
Лейтенант приподнялся над землёй:
– А вот сейчас, Ломоносов, уже можно сделать рывок… Будем делать?
Ломоносов нахмурился, разом становясь похожим на маленького старичка, помотал перед лицом ладонью, отгоняя муху:
– Обязательно будем, товарищ лейтенант.
Поглядев в последний раз по сторонам – не видно ли где немцев? – Чердынцев вытащил из-за пояса ТТ, проверил обойму. Хорошая машинка, рельсу запросто простреливает, только дырка с зазубринами остаётся, да под рельсой чёрный чугунный песок возникает, небрежно рассыпанный, Чердынцев ещё в курсантскую пору сам испробовал и вообще такие фокусы с ТТ проделывал, что друзья-приятели только дивились…
Как-то на спор он всадил из пистолета пулю в ствол берёзы, следом всадил ещё одну, потом ещё – в результате первая пуля вылезла из коры с противоположной стороны ствола, обломила гнутый, обросший лишаистой корой сук. Берёза оказалась продырявленной насквозь. Правда, за подвиг этот пришлось отчитываться перед помощником начальника стрельбища Безугловым – то стал качать права и кричать, что ему не на кого списать патроны…
Но он же всё-таки – помощник начальника стрельбища, который должен хорошо соображать, что к чему, и знать, как азбуку умножения, как списывать истраченный боеприпас, в данном разе – жёлтые, тонко смазанные солидолом «маслята»… Поэтому совсем непонятно, чего это так громко разоряется очкастый старший лейтенант со скрещёнными пушечками в петлицах – артиллерийской эмблемой?
– С Богом, Ломоносов! – шёпотом произнёс Чердынцев, пружинисто поднялся с места и перемахнул через проросший травою бруствер, за которым он вместе с маленьким бойцом нашёл временный приют.
В несколько длинных прыжков он достиг стенки канцелярии, прижался к ней боком, послушал, не доносятся ли какие звуки изнутри, из помещения?
Нет, ничего не доносилось, внутри было тихо. Лейтенант сделал знак Ломоносову: вперёд! Маленький солдат выпрыгнул из-за бруствера, в несколько мгновений, колобком, перекатился к щитовому домику заставы, ткнулся лейтенанту головой в плечо.
– Тихо! – осадил его лейтенант, втянул шею, снова прислушался – не раздадутся ли в помещении чьи-нибудь шаги. Он бы уловил сейчас любое движение, даже самое малое, любой скрип или шорох, но ничего этого не было, лишь недалеко, в траве, трещали, переговариваясь друг с другом, кузнечики.
Лейтенант заглянул в окно, прикрылся сверху ладонью: что там видно внутри? – в следующий миг поспешно откинулся назад – показалось, что он встретился с чьим-то взглядом, – затем снова прильнул к стеклу.
Внутри помещения никого не было. Видны были два стола, несколько тумбочек и настежь распахнутый сейф. Внутри сейфа – ничего, даже каких-нибудь жалких бумажек, и тех не было.
Куда же подевались люди? Впрочем, куда подевались пограничники, понятно: их перебил немецкий десант, но вот куда исчезли сами десантники? Не провалились же они в конце концов сквозь землю. Чердынцев ощутил в горле невольное жжение: жалко было убитых ребят… Он сглотнул горячий комок, возникший во рту, и протестующее мотнул головой – не хотел верить, что ребят тех, которые ещё два часа назад были живы, сопротивлялись, отстреливались из винтовок, уже нет на этом свете.
Он пригнулся, пробежал под окнами щитового дома, достиг следующего угла, замер. Раскинул пальцы веером, придерживая Ломоносова – подожди… Ломоносов прижался к стене, слился с ней и отчаянно закивал – всё понял, мол…
Лейтенант, держа пистолет на взводе, стволом вниз, выглянул из-за угла – что там?
Квадратная площадка перед канцелярией, на которой обычно напутствовали наряды, уходящие охранять границу, была также пуста, – ни одного человека… Ни живых, ни мёртвых, вот ведь как – никого нет. Что за чёрт?
Открытая дверца броневика неожиданно вздрогнула и сдвинулась с места. Раздался резкий, вызывающий неприятную ломоту на зубах скрип.
Ветер. Не игривый ветерок, уже знакомый, а настоящий ветер. Примчался откуда-то с высоты, из-за облаков, заслонивших солнце, поднял с дорожки песок, скрутил его в несколько тугих жгутов и швырнул прямо в открытую, пронзительно визжавшую дверцу броневика. Ветер унёсся, вновь сделалось тихо. Только кузнечики продолжали равнодушно верещать – ни чужая боль, ни дела людские не волновали их совершенно.
Чердынцев надавил пальцем правой руки на пяточку курка, ставя ТТ на боевой взвод. Раздался металлический щелчок. Лейтенант недовольно дёрнул головой – слишком громкий звук. Оглянулся на маленького бойца, тот был неподвижен – замер, вросши спиной в щитовую стену. Чердынцев сделал ему знак рукой – оставайся, мол, на своём месте, не дёргайся и вообще не двигайся, – пригнулся и стал пробираться к крыльцу, пристроенному к щитовому домику, к двери.
На крыльце вновь остановился, прислушался – не засечёт ли ухо какой-нибудь звук? По-прежнему было тихо. Где-то далеко-далеко, у самой линии лесного горизонта, слышалась слабая, задавленная расстоянием стрельба. Она и раньше была слышна, раздавалась то сильнее, то слабее, но слышалась отовсюду, пустот не было, и Чердынцев поймал себя на мысли, что привык к ней – произошло это очень быстро. Вот какой приспосабливаемостью, оказывается, обладает человек – с волками он воет по-волчьи, с бегемотами разговаривает на неуклюжем бегемотьем языке – под всех подделывается.
В домике заставы также никого не было – ни единого звука не доносилось оттуда. Ни писка, ни треска, ни шмурыганья, ни вздохов с царапаньем – ничего, словом. Неужели экипаж броневика сидит где-нибудь в кустах, выставив перед собой стволы автоматов, и даже не шевелится, не дышит, чтобы не выдать себя?
Продолжая держать палец на пятке курка, лейтенант неслышно вошёл в помещение, огляделся и снова засунул ТТ себе за ремень.
Посреди большой комнаты. – прямо напротив двери, за тонкой стеночкой, находилось служебное помещение, окна которого выходили на противоположную сторону, – за широким, обтянутым облезлым зелёным сукном столом сидели четыре немца. Трое – рядовые, один, судя по серебряным витым погончикам, украшавшим походный мундир, – офицер.
Все мёртвые. Их убрали так аккуратно, что ни один немец не свалился со стула. Чердынцев обошёл страшный этот стол, подивился аккуратности, с которой немцы были отправлены в мир иной, качнул головой восхищённо:
– Вот это работа!
Оглядел комнату. На полу валялись бумаги, много бумаг. Обычная канцелярщина – недаром на заставах самые большие комнаты отводили под канцелярии, ведь в журналах приходилось регистрировать всё – и как рыба ловится в тихом «нейтральном» озере, и кто с сопредельной территории приезжал косить камни, и что внушал замбой – заместитель начальника заставы по боевой части нарядам, когда те уходили на охрану границы… И не просто внушал – в журнале ещё оставались соответствующие росчерки фамилий, иногда очень смешные, совершенно детские, расписывались все, кто слушал замбоя.
Надо было посмотреть – вдруг где-нибудь отыщется карта? Карта была очень нужна: Чердынцев эту местность не знал.
Он ногой подгрёб бумаги в одну сторону, в другую, потом погрёб ещё – карт не было. Заглянул в шкаф – пусто, лежат на полке обрывки чистых листов, поверх них стоит блюдце с обколотым краем, и всё.
У всех убитых немцев имелись огнестрельные отверстия. Трое были поражены в грудь, один в голову – пуля аккуратно вошла солдату, наряженному в новенький, с необмявшимися складками мундир, прямо в лоб, вокруг ранки запеклась густая коричневая кровь, выходного отверстия не было: пуля осталась сидеть в черепе.
У офицера в двух местах была просечена грудь. Каска, которую он снял с головы, была за ремешок повешена на спинку стула, всем телом офицер откинулся назад и застыл. Нет, всё-таки удивительно: как все четверо остались сидеть на своих местах, ни один из убитых не свалился на пол? Хотя удар пули часто бывает очень сильным, отбивает человека на несколько шагов, – здесь же ничего похожего… Меткость была снайперская. На ремне у офицера висела фляжка, обтянутая тонкой козлиной кожей. Чердынцев отстегнул фляжку.
Кобура пистолета была расстёгнута, оружия не было – забрали бойцы, которые так лихо уложили этих фрицев. Похоже, тут остался весь экипаж броневика – всё тут легли. Чердынцев вышел на крыльцо, позвал негромко:
– Ломоносов!
Маленький солдат выдвинулся из-за угла и, встав перед лейтенантом, щелкнул каблуками:
– Так точно!
– Не «так точно», а «я»!
– Так точно, это я, товарищ лейтенант!
Чердынцев повёл рукой назад.
– Там четыре немца. Все мёртвые.
– Ай-яй-яй, – запричитал было маленький солдат, но в следующую секунду смолк: а чего причитать-то?
– Пойдём, машину обследуем. Вдруг что-нибудь толковое найдём?
В броневике уже побывали бойцы – пулемёт, грозной жердиной выглядывавший из окна, был раскурочен, затвор выдернут и выброшен неведомо куда, другое оружие, которое явно имелось в броневике – автоматы, например, – исчезло, его забрали наши. Единственное ценное, что нашёл лейтенант, была карта. Правда, карта немецкая, с незнакомыми названиями, но судя по всему, довольно точная, а главное, она обеспечивала знание ближайших ста километров. Ведь двигаться без карты, да по незнакомой местности – штука опасная. Можно легко влетать в какую-нибудь неприятность.
– Товарищ лейтенант, смотрите, чего я нашёл! – раздался крик Ломоносова из глубины броневика.
Он выволок на свет туго набитый ранец, приподнял его за ремень, встряхнул. В ранце что-то глухо звякнуло – сместились прижатые друг к дружке консервные банки.
– Провиант, – одобрительно произнёс Чердынцев, – немецкий НЗ… Молодец, Ломоносов!
– Засунут ранец был далеко – туда, где Макар телят не пас… Но от меня не спрячешь, – хвастливо проговорил маленький боец, – у меня нос – ватерпас!
– Обычно бывает глаз – ватерпас.
– А у меня – нос! – Ломоносов был упрям.
– В лагерях среди заключённых бывают нюхачи, которые носом, извините, определяют, где у кого что спрятано – у кого сгущёнка, а у кого мясные консервы, присланные из дома, и собирают дань…
– У политических, которые сидят по пятьдесят восьмой статье, такого нет, товарищ лейтенант… Не получают они посылок из дома – это положено только уголовникам.
– Откуда знаешь?
Взгляд у Ломоносова неожиданно затуманился:
– Знаю.
Лейтенант не стал продолжать разговор – тема эта явно больная для бойца, пригнувшись, он глянул снизу, в бойницу броневика, на смотровую вышку, где лежал убитый пограничник, прокашлял озабоченно в кулак:
– Надо бы нам, Ломоносов, похоронить ребят – полегли ведь смертью храбрых. И документы их собрать…
– Надо, – согласился с лейтенантом маленький боец, – очень даже надо. Они это заслужили.
Погромыхивая найденным ранцем, он выбрался из броневика наружу, оценивающе приподнял добычу в руке:
– А что, сидор неплохой. Дома с ним по ягоды буду ходить. У нас для ягод обычно туеса из бересты делают, но сидор будет лучше. Ягод у нас тьма-тьмущая.
Чердынцев иронически хмыкнул: до дома ещё дожить надо. Ладно, если это обычное нарушение границы, немцы как пришли, так и уйдут… А если Ломоносов прав, и это война?
В то, что началась война, не хотелось верить. Лейтенант свернул карту и выпрыгнул наружу. Снова глянул на вышку, где лежал убитый пограничник.
– Ломоносов, нам не только людей похоронить надо, но и оружие себе подобрать. Вдруг где автомат найдётся?
Маленький боец с сомнением покачал головой.
– Вряд ли, товарищ лейтенант. Автоматов в отряде было очень мало, это я знаю доподлинно.
– Тогда винтовки. Два ствола – тебе и мне.
– А вот винтовочки обязательно найдём. И патроны к ним. Это я обещаю, товарищ лейтенант.
Вдвоём они стащили с вышки убитого пограничника. Убили его выстрелами издали, на подходе к заставе – сняли из пулемёта, в теле от крупных пуль осталось несколько рванин, заполнившихся, словно сусличьи норы тёмной, превратившейся в студень кровью, лицо пограничника также было залито кровью.
Маленький боец вгляделся в лицо, почмокал огорчённо языком.
– Что, знал его? – спросил лейтенант.
– Определённо знал, а вот понять, кто это конкретно, не могу.
С пояса убитого сняли патронташ – там оказались три заряженных обоймы, забрали винтовку с примкнутым к ней штыком.
– Спасибо, друг, – поблагодарил убитого маленький боец, – мы за тебя отомстим.
Убитого часового они оттащили в угол двора заставы, на площадку, посыпанную песком, под турник – тут бойцы занимались спортом, туда же приволокли тело второго пограничника – крупного белобрысого парня, застреленного в голову (из головы его даже капельки крови не вытекло, чернело только маленькое ровное отверстие, и все), затем – ещё двоих: одного сержанта-казаха, маленького, но оказавшегося очень тяжёлым, и тощего черноволосого парня с горбатым орлиным носом.
– Перекурим, товарищ лейтенант? – Ломоносов отёр ладонью влажный лоб. – Не то совсем запурхались.
– Давай, – лейтенант присел на корточки, платком обмахнул себе щёки, шею, прислушался к стрельбе, раздававшейся у линии горизонта, отметил вслух: – А стрельба-то стала слабеть. Похоже, наши уходят…
– Значит, это война, товарищ лейтенант!
– Не знаю, Ломоносов.
– Уходить отсюда надо. К своим. Чем быстрее – тем лучше.
– Вот похороним товарищей. – Чердынцев покосился на убитых, поморщился, будто от боли – по лицам их ползали мухи, – и уйдём.
– И я это говорю, товарищ лейтенант. Похороним и уйдём.
– Но мы сюда вернёмся, Ломоносов, – лейтенант ухватил горсть песка, с силой сжал, словно бы хотел, будто из творога, выдавить воду. – Мы сюда обязательно вернёмся!
Яму они вырыли довольно быстро: песок – материал лёгкий, сыпучий, копать можно сноровисто, да и время поджимало – лейтенант понял, что им здорово повезло, коли до сих пор сюда не заглянули немцы, они ведь движутся волнами: первые, боевые цепи уже прошли, за ними пойдут жандармы, штабисты, тыловые службы, все имеют охранные взводы и роты, а народ там, чтобы не очутиться в первых порядках, среди наступавших, подмётки от сапог на ходу откусывает, норовит выслужиться. Пристрелят и глазом не моргнут и лишь потом, уже у убитого, спрашивать будут: кто таков?
Лейтенант стиснут зубы – зло взяло.
В яму аккуратно сложили убитых, всех четверых, Чердынцев пожалел: знать бы фамилии их, ребят этих храбрых, но документов при убитых не оказалось – те, кто находился в наряде, документы свои сдали дежурному, а те, кто был при документах, лишились их – забрали гитлеровцы.
Уложив убитых, сверху накидали песка – вот и вся могила. Была обычная яма – стала могила. Братская, общая. Чердынцев выпрямился над ней, замер на несколько мгновений, потом поискал глазами какую-нибудь фанерку, чтобы на ней написать, что это за песчаный бугор тут образовался…
Не нашёл и послал маленького бойца в канцелярию.
– Явно там что-нибудь подходящее для могильной дощечки отыщется. Сходи, посмотри…
Боец проворным колобком укатил в щитовой дом. Солнце опять начало жарить нещадно, спасательное облако растаяло бесследно, фуражку снять с головы было опасно – волосы могли вспыхнуть. Лучше, конечно, было бы, если б у него была пилотка, но пилотки у лейтенанта не было, не выдали – это раз, и два: пограничная фуражка с зелёным верхом и тёмно-синим околышем – приметная, ни один род войск таких фуражек не носит, и это нравилось лейтенанту. Он сунул руку с платком под фуражку, отёр волосы, затем – дерматиновую изнанку околыша, влажную от пота.
Тем временем прибежал маленький боец, притащил фанерную спинку от стула, украшенную двумя ободранными ножками.
– Это самое лучшее, что годится для похоронной дощечки. Лучше нету.
– Годится.
В накладном нагрудном кармане фасонистой командирской гимнастёрки лейтенант нашёл карандаш, помусолил его губами, хотя это было бестолку – карандаш был простой, а не химический, и принялся за работу.
«Здесь похоронены пограничники заставы 36, героически сражавшиеся с врагом 22 июня 1941 года. Четыре человека», – вывел он крупным печатными буквами, отставил спинку в сторону, прочитал текст и утверждающе качнул головой. Добавил с сожалением:
– Плохо только, что мы не знаем их фамилий…
– А как узнать, товарищ лейтенант, когда у них нет документов. Были б документы – узнали бы, – резонно заметил маленький боец. – Можно, конечно, что-нибудь написать, но это будет ошибка.
– Нет, нам что-нибудь не надо.
– И я об этом же говорю, товарищ лейтенант.
– Да что ты заладил: товарищ лейтенант, да товарищ лейтенант? Меня Евгением зовут, Женей…
– Женей вас звать нельзя, товарищ лейтенант, вы – командир.
– А тебя как зовут?
– Иваном.
– Иван Ломоносов… Хорошо! Необычно как-то, но – хорошо!
– Конечно, Михаилом Ломоносовым быть лучше, но родители назвали меня Иваном.
Лейтенант воткнул погребальную дощечку в песок, навалился на неё всем телом, вгоняя поглубже, и сказал:
– Мы скоро сюда вернёмся, Иван Ломоносов, очень скоро и оформим могилу как надо. Погребём наших товарищей по-настоящему.
Чердынцев искренне верил в то, что говорил, только не знал он, что происходит, что обрушилось на их землю – не мог знать… Если бы знал – сказал бы другое.
– Фамилии напишем, – подхватил его слова маленький боец.
– И памятники установим, – закончил лейтенант. Добавил вдохновенно: – Здесь должен стоять хороший памятник.
Ломоносов неожиданно озадаченно покосился на броневик.
– А с этим железом что будем делать, товарищ лейтенант?
Лейтенант через плечо глянул на гитлеровскую машину, стоявшую с беспомощно распахнутыми дверцами, похожими на большие, откинутые в стороны уши, вздохнул и произнёс безжалостно:
– Сожжём!
– А может, на нём поехать можно будет? – с неожиданной надеждой проговорил маленький боец – очень уж не хотелось ему бить ноги.
– Куда? – вопросительно сморщив лоб, жёстким голосом проговорил лейтенант. – На Кудыкину гору? А, Ломоносов? Нас тут же остановят. Либо граната какого-нибудь ловкого красноармейца, либо немецкий патруль… И то и другое кончится плохо. Сожжём железо – и дело с концом.
– Жалко!
– Жалко бывает у пчёлки, Ломоносов, а тут… тут боевые действия.
Лейтенант ещё раз огляделся, отметил, что стрельба, неровной звуковой полосой обозначавшая линию горизонта, стихла окончательно, вздохнул сожалеюще: а ведь это перестали сопротивляться наши, – и призывно махнув рукой Ломоносову, указал пальцем на броневик – за дело, мол…
Бензобак Чердынцев нашёл быстро, было плохо, что железный бок его прикрывал броневой лист, не подобраться… Значит, надо искать провод, по которому горючее подаётся к карбюратору. Провод явно прикрыт какой-нибудь железкой, алюминиевой полутрубой или чем-нибудь ещё, надо будет пробить трубку вместе с железкой, спустить бензин на землю и поджечь – вот и все дела, от броневика останется один остов. В том, что железо может полыхать за милую душу, будто некий горючий материал, Чердынцев был уверен: однажды у них в училище загорелась полуторка с курсантами в кузове – в несколько мгновений пламя взвилось до неба, еле курсантов удалось спасти.
Бензопровод Чердынцев не нашёл, тот был прикрыт очень надёжно, немцы создавали вокруг технику на совесть, а вот патрубок с несколькими фильтрами, к которым бензин поступал из бака, обнаружил и расколотил его большим гаечным ключом, найденным в кабине, в инструментальном ящике. Бензин тонкой красноватой струйкой полился на землю.
Лейтенант звучно потянул ноздрями: что-то бензин пахнет не так – не нефтяной дух у него, а какой-то бытовой, похоже, он пахнет жжёным сахаром, ещё чем-то, чуть ли не подливкой из укропа, – в следующий миг Чердынцев понял, что бензин этот – эрзац, искусственный.
«Ничего, броневик всё равно заполыхает, – лейтенант упрямо нагнул голову, – всё равно заполыхает… Только клочья сажи понесутся вверх».
Он подождал, когда под броневиком образуется лужа, и достал из кармана спички. Несколькими взмахами отогнал от броневика маленького бойца:
– Отойди!
Ломоносов – мужичок сообразительный, хотя и деревенский, поспешно отскочил на безопасное расстояние, прикрыл лицо грязной, пухлой, как у ребёнка ладошкой. Чердынцев ухватил в щепоть несколько спичек, черкнул о коробку и кинул щепоть в бензиновую лужицу.
Раздался хлопок. Из-под броневика выбилась горячая оранжевая простынь, оттолкнула Чердынцева от машины, он невольно попятился. Огонь, лопоча что-то невнятно, сопя и повизгивая лихо – всё совмещалось в нём, – пополз по боку броневика вверх, к пулемёту, к свободной железной турельке, кастрюлей нахлобученной на макушке машины, в следующее мгновение завыл басисто, и лейтенант снова отступил от машины.
– Уходим, Иван, – скомандовал он, назвав Ломоносова по имени, – сейчас рванёт…
– Патроны? – деловито поинтересовался маленький боец.
– Для начала – бензин.
– Так вы же его весь вылили…
– Вылил двадцать литров, а семьдесят осталось.
– А патроны рваться будут? – в голосе маленького бойца появилась ребячья заинтересованность.
– Во вторую очередь… Когда раскалятся.
– А-а-а…
Они подхватили винтовки, взятые у убитых бойцов, навесили на ремни по подсумку с патронами и побежали в заросли крушины. Дым, поднявшийся над броневиком, сделался густым, вонючим, серым. Чердынцев правильно предсказал: вначале рванул бензобак, выгнул одну сторону броневика горбатым пузырём, сорвал обе дверцы и вывернул вместе с потрохами прочное лобовое стекло, потом начали рваться патроны. Рвались они гулко, с резким звуком, будто и не патроны это были, а снаряды.
Кабина броневика окрашивалась при каждом взрыве в зеленоватый электрический цвет, языки пламени вылетали из кабины, раскалёнными полосами ввинчивались в клубы дыма, пластали его на охапки, затем расшвыривали эти охапки по сторонам. Ломоносов при виде всего этого даже вспотел. Похлопал ладонью по лбу, промокая пот, открыл рот, словно хотел что-то сказать, но смолчал, ничего не сказал. Только головой закрутил из стороны в сторону.
– Сейчас на дым с огнём кто-нибудь обязательно примчится, – жара допекала не только маленького бойца, но и лейтенанта, он привычным движением сунул под фуражку платок, отёр волосы. – Вот только кто примчится – наши или не наши? Ждать будем?
– Не-а, товарищ лейтенант!
– Почему? – лейтенант и сам не знал, почему не надо ждать, но тем не менее задал этот вопрос Ломоносову.
– Из наших тут вряд ли кто остался живой – все погибли. Если бы были живые, мы бы их увидели – люди держались бы заставы… Если кто и появится, то только немцы. А вот они нас точно прижопят, товарищ лейтенант.
– И всё равно кто-то из наших должен остаться в живых, Ломоносов. Вон немцы убитые… Не сами же они себя убили.
– Это сапёры их уложили, – убеждённо произнёс маленький боец.
– Какие сапёры? – не понял лейтенант.
– А здесь рядом сапёрная полуторка стояла, их палатки в километре от заставы находились… Сапёры фрицев и уложили. И ушли.
– М-да. Теперь всё понятно. Пограничники бы не ушли, держались бы заставы, а сапёрам здесь делать было нечего. Только почему они броневик целым оставили?
– Не знаю, товарищ лейтенант.
Дым, поднимавшийся над горящей машиной, был виден далеко, и дух его ощущался далеко – лейтенант с маленьким бойцом отошли от заставы на полкилометра, а сладковатый химический дух горелого эрзац-бензина не исчезал, висел в воздухе.
На привале в лесу Чердынцев проговорил, ни к кому не обращаясь – он обращался только к себе:
– Мы сюда ещё вернёмся… Мы обязательно вернёмся!
Он верил в то, что говорил. И маленький боец верил.
Немецкий «сидор», так удачно найденный Ломоносовым, был что надо – под завязку набит продуктами, и вообще он очень пригодился в пути, – если бы не консервные банки с аппетитными этикетками, пришлось бы пограничникам грызть на деревьях кору. А так и лейтенант, и маленький боец чувствовали себя очень сносно: Ломоносов достал из мешка одну банку, украшенную маленькими золотыми рыбками, ловко подбросил её вверх.
– Что это, товарищ лейтенант?
Чердынцев перехватил банку, прочитал, что там под рыбками, нарисовано.
– Сардины. Между прочим, испанские. А испанские сардины – лучшие в мире, Ломоносов.
– А это что будет? – маленький боец достал из ранца ещё одну банку с приклеенной к ней тусклой этикеткой, на которой был изображён бык со свирепой мордой и налитыми кровью глазами, подкинул банку.
Лейтенант перехватил её. Глянул на этикетку и также подкинул вверх, банка перевернулась в воздухе и устремилась вниз. Ломоносов поймал банку.
– Это тушёная говядина, – сказал лейтенант.
– Годится, – снисходительно произнёс Ломоносов, достал из ранца ещё одну банку, подкинул.
Лейтенант её даже ловить не стал, на лету определил, что за продукт в неё находится.
– Сосиски, – сказал он.
– Сосиски? Это что такое? Никогда не ел.
– Ну-у… такие маленькие колбаски. Их варить надо. Немцы любят есть сосиски с тушёной капустой и запивать пивом. Но ещё больше любят копчёные сардельки.
– А это что такое?
– Те же сосиски, только потолще.
– Что же в итоге выходит, товарищ лейтенант? Сосиски – на один зуб, а эти самые сарделки – на два зуба, да?
– Не сарделки, а сардельки.
– Один хрен, поскольку не наша это еда. И вряд ли когда будет нашей…
– Не знаю, Ломоносов. Вдруг и будет.
– Держите, это вам, – маленький боец отдал Чердынцеву банку с изображением свирепой бычьей морды, – себе я достану точно такую же, – он проворно зашуровал рукой в ранце.
– Спасибо, Ломоносов, – сказал лейтенант, – но продукты надо бы поберечь. Неведомо, когда мы их ещё достанем.
– Достанем, – уверенно проговорил маленький боец. – Меня ведь в деревне знаете, как называли?
– Как?
– Нюхачом.
– Нюхач, нюхач… – произнёс лейтенант дважды и засмеялся. – Как в лагере.
– По части шнобеля, – маленький боец ухватил себя за нос-кнопку, – и двух сопёлок, – он зажал одну ноздрю пальцем, сморкнулся, – мне не было равных.
– Ломоносов, – укоризненно произнёс лейтенант, – так и дерево свалить можно. Видать, в школе ты был плохим пионером. Зачем же наносить природе ущерб?
– Наоборот, я всегда был хорошим пионером – сажал деревья, пропалывал грядки и… – маленький боец замялся, помотал в воздухе ладонью – не мог найти нужное слово.
– Ну и что же, по-твоему, нюхач?
– Это талант, товарищ лейтенант.
– А именно?
– Ну вот, к примеру… Иду я по деревне… В каждом доме печка топится – еду готовят. Я, даже не заглядывая, знаю – вот в этом доме гусю голову отрубили, готовят на обед праздничное угощение, а вот в этом – шкару из сёмги с луком и морковкой, а в том вот доме – кулеш, дальше – борщ наваристый с говяжьими бульонками, ещё дальше – котлет налепили целый противень, в под сунули, две минуты назад бабка доставала противень из печи, котлеты перевернула, водичкой кипячёной обмахнула, чтобы продукт не подгорел, и снова сунула противень назад в печь, а в том вот дальнем доме пироги с рыбьей вязигой затеяли – хозяин в Архангельск ездил, вязиги привёз, в доме напротив суп из куриных потрошков варганят… И так далее, товарищ лейтенант.
– И всё это разнообразие определяют лишь две ноздри? И больше ничего?
– Больше ничего.
– Не могу скрыть удивления, Ломоносов.
– Точно так же, не заходя в магазин, я могу узнать, есть в нём колбаса или нет…






