Последнему – кость Чернобровкин Александр
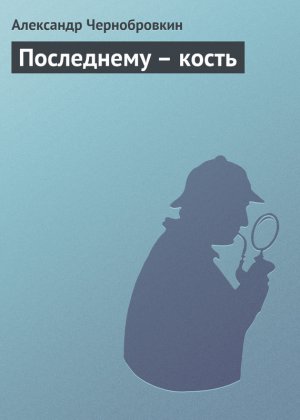
Глава последняя[1]
В окно билась, наполняя камеру тоскливым жужжанием, тяжелая зеленая муха. Алексей Порфиров лежал на нарах и, неудобно вывернув голову, наблюдал, как она мечется по прямоугольнику мутного стекла, за которым темнели толстые прутья и наклоненные внешними краями книзу полоски металлического жалюзи. Иногда муха ненадолго затихала, точно переводила дыхание, и вновь отчаянно впиливалась в окно. Бейся не бейся, а здесь и подохнешь.
Заболела шея, и Алексей отвернулся к стене. Над изголовьем – рукой дотянуться можно – вышкрябана на побеленной штукатурке голая баба с расставленными ногами. Промежность была раздолбана – указательный палец с ногтем заныривал. Ни– же красовались семерка в рамке из цепей, кличка художника «Кнур» и год «1985». Недавно здесь сидел, может, перед Алексеем. И получил мало, всего семь лет. Порфирову следователь обещал десять. Двенадцать – вряд ли: слишком молод Алексей, а червонец – кровь из носу сделает. Не надо было с ним заводиться. Крутой мужик – этот старший следователь по особо важным делам Камычев. Здоровый такой, откормленный – щеки об воротник трутся – и бить умеет: одним ударом под дыхало вырубил Алексея, когда тот попытался защищаться. Зря только получал, все равно те двое, предатели, раскололись и свалили на него. Теперь за всех отвечать придется. Ну и черт с ними.
Закололо в почке. Нет, это не следователь, это уже здесь, в камере, «попкари» подкинули за соседа. Псих какой-то, думает, если вдвое старше, значит, сильнее. Алексей и вправил ему мозги. Начал потихоньку, как у следователя научился, а потом разошелся, позабыв, что хоть и в глухом месте, да не в том.
А вообще-то, здесь хорошо. Тихо, лениво, особенно в последние дни, когда перестали водить на допросы. Поел – поспал, поел – валяйся на нарах. Жратвы бы еще подкинули – и совсем было бы хорошо. Ничего вроде не делает целыми днями и ест больше и чаще, чем дома, а все время голодный.
В лесу сейчас пошла малина. Присядешь у куста, приподнимешь загнутые книзу стебли, а под ними сырая тень и запах гниющего дерева. И козявки ползают: черные, темно-коричневые, бледно-зеленые. Влажные фиолетовые ягоды почти не видны, осторожно дотронешься до них – падают в ладонь, пятная красным соком. Бережно соберешь их с шершавой ладони губами, вдыхая дурманящий аромат. Наевшись, начинаешь собирать в лукошко. На день рождения Алексея мать всегда пекла пирог с малиной. Он получался толщиной в три-четыре пальца, темно-коричневый сверху и подгоревший снизу и с боков, внутри желтоватое тесто и темная прослойка ягод. Можно обрезать низ и боковины, а можно и прямо так есть – все больше.
Хорошо, если мать испечет пирог и привезет в суд. Сосед говорит, что разрешат свидание во время перерыва или когда приговор зачитают. Разрешат, чего там, у него же сегодня день рождения. Алексей попытался вспомнить, когда последний раз получал подарок. Так и не вспомнил. А в этом году получил бы паспорт, но на кой теперь нужна эта бумажка? Лучше бы мать пирог привезла. А что, если вообще не приедет? С нее станется.
Параша воняет. Выносили и мыли недавно, а все равно воняет. И муха жужжит. Настырная, сволочь.
Порфиров рывком поднялся и, вскрикнув, схватился за поясницу. Сосед вроде бы улыбнулся ехидно или показалось? Отворотил морду битую – его счастье. Зато мухе теперь хана.
Алексей подождал, пока она опустится ниже, подпрыгнул и хлопнул ладонью по стеклу. Ближе к большому пальцу хрустнуло и брызнуло липким. Алексей брезгливо потер ладонь о стену.
Опять нары – комковатая маленькая подушка, тощий матрац, вытертое одеяло – и все это пропахло казенным, хлорным запахом. Ничего, зато никто не трогает. Порфиров достал из кармана мятую пачку «Примы», высыпал из нее окурки, выбрал самый длинный, закурил, придерживая двумя спичками, чтобы не обожгло пальцы. Четыре затяжки – и припекло губы, кинул зажатый между спичками бычок в сторону параши.
Десять лет – это, наверное, много. Но когда выйдет, все будут бояться. Сильнее, чем боялись Вовку Жука, ведь тот всего два года отсидел. И будут поить самогоном, а пацаны еще и заглядывать в рот, слушая байки о зоне. То-то позавидуют.
Заскрипел, будто зубами грызли стекло, ключ в замке. Алексей расслабился, наслаждаясь последними мгновениями покоя. Если плотнее сжать веки, то и «попкаря» – дежурного надзирателя – вроде и не существует, и никто не заставит подниматься с уютных, пригретых нар.
– Порфиров, на выход.
Глава первая
Лешка Порфиров закрыл за собой дверь, постоял на крыльце, привыкая к утренней свежести. Их дом был последним в проулке, за огородом начинался лес, где между деревьями и в кустах застряли клочья тумана, оттеняя густую зелень хвои и красно-желтое пламя листьев. Первый день осени. Алексей недовольно сплюнул тягучую слюну, отсчитал подошвами три ступеньки, уклонился от скулящей Маньки, повисшей свечкой на цепи, вышел в проулок. В животе делился теплом горячий чай, во рту кислило от ржаного хлеба, и хотелось и не хотелось идти в школу.
У соседнего двора он громко с переливом свистнул. Не успел затихнуть свист, как из дома, получив от матери толчок в спину и угрозу быть выпоротым, вылетел Гришка Тюхнин, Тюха-толстый, средний из братьев и третий из семерых детей Ильи Тюхнина. Жуя на ходу яблоко, Гришка подошел к дружку, поздоровался.
– Чего она? – спросил Лешка.
– А-а, ну ее… – привычно отмахнулся Тюха. запихал в рот огрызок и, чавкая громко, так, что заглушал топанье обуви о деревянный тротуар, доел яблоко, выплюнув косточки.
Гришка Тюхнин был толстым и неповоротливым, с шишковатой головой, словно обрубленной сзади и без шеи вросшей в сутулую спину, поэтому казалось, что ходит он, чуть подавшись вперед грудью и приподняв плечи. Смотрел всегда исподлобья и никогда не оглядывался, поворачивался всем телом, а при ходьбе махал обеими руками вперед-назад, как при езде на лыжах, что бесило недавно отслуживших в армии парней и вызывало ухмылку у женщин.
В Гришкиных руках появились еще два яблока. Щедростью он не отличался, поэтому Алексей отвернулся и сглотнул слюну, а выйдя на улицу, ведущую на главную, ускорил шаг.
– Пойдем быстрее, а то опоздаем.
– Ну и что.
Яблоки по очереди побывали у мясистого носа, где их тщательно обнюхали и осмотрели, одно, большее, было втиснуто между пухлыми губами и с хрустом надкушено кривыми желтыми зубами, а другое, с червоточиной, предложено Порфирову.
Алексей как бы нехотя взял, потер о штанину. Терпкая антоновка отбила чувство голода, возникающее всегда, когда видел жующего человека. Выплюнув косточки, с надеждой произнес:
– Закурить бы.
– Нету. – Гришка дважды цыкнул, втягивая меж зубов воздух, поковырялся в них ногтем. – Батя вчера пьяный был, стянул у него пачку, а мамка нашла. Ох и всыпали! – закончил он хвастливо.
Они повернули на главную улицу. Дощатый тротуар сменился асфальтом. Мимо, обдав копотью, проехал груженный бревнами КамАЗ.
– Вовка Жук, – сказал Тюха. – Вчера пьяный поломал забор бабке Алке: видел, передок пошкрябанный?
– Знаю, – нехотя ответил Алексей.
Так же нехотя буцнул зазевавшуюся курицу. Она закудахтала, нарезала полукруг, шустро перебирая ногами. Лешка плюнула ее сторону.
Двухэтажная средняя школа высилась в центре поселка, напротив конторы леспромхоза. Построенная из красного кирпича и с серой шиферной крышей, она имела небольшой двор, на котором была оборудована спортплощадка: вырыты ямы для прыжков, установлен турник, гимнастическое бревно и два столба с баскетбольными щитами. Двор был огорожен низким забором, увенчанным широкой планкой, чтобы не отламывали верхушки штакетин. Вдоль забора росли два ряда деревьев и кустарник. У входа в школу построились буквой «П» школьники и родители, а на широком крыльце табунились учителя во главе с директором. Андрей Петрович, по прозвищу Гусак, подергивая сухой головой на длинной шее, толкал речь, как обычно рваную и малоприятную.
Порфиров и Тюхнин, стараясь не привлекать внимания, подошли к своему классу, прислушались.
– …Вот!.. Гибнет картошка! Есть будет нечего! Тяжелые погодные условия. Да!.. Мы все должны… каждый школьник… директор колхоза со своей стороны… кхе-кхе…
– Смотри, – Гришка толкнул локтем, – новенькая, английскому будет учить.
Новая учительница стояла чуть в стороне от преподавателей, удивленно прислушивалась к директорской речи. Ничего не поняв, испуганно посмотрела на коллег, на школьников. Покорное внимание слушателей сбило ее с толку, на лице учительницы появилось замешательство, но вскоре сменилось иронией, а потом жалостью.
– Красивая… – подумал вслух Лешка.
– Городская, – уточнил Тюха.
– …Но, понимаете, самое… но не мы. Вот!.. Я со своей стороны…
Тюхнин воспользовался паузой – гоготнул по-гусиному. По рядам школьников пробежал смешок. Людка Краснокутская, староста класса, зубрилка и ябеда, обернулась и укоризненно посмотрела на Гришку. Тот потянул ее за дальнюю косичку, чтобы отвернулась.
– Но я… – продолжал директор.
– Дурак! – взвизгнула Людка.
Громкое ржание семиклассника Мишки Дудина заставило зауча Лидию Ивановну выйти вперед и прикрикнуть:
– Дудин! Краснокутская! – Дождавшись тишины, она закончила за мужа: – С пятого до десятый класс завтра в восемь собираются здесь с ведрами и едут на картошку. У остальных занятия по расписанию. А сейчас всем зайти в школу.
Порфиров, соскучившись за лето по школе, с радостью толкался среди учеников. Знакомый коридор с запахом свежей краски, лестница на второй этаж, коричневая дверь с синей табличкой «8-й класс». За этой дверью Лешка проведет последний год в школе. Самая дальняя от учителя парта в ряду, что вдоль стены с окнами, радиатор, на котором зимой будет отогревать задубевшие без варежек руки.
– Ну?! – послышалось рядом.
Это Тюха вытягивает из-за последней парты в соседнем ряду Вовку Гилевича, а тот пытается удержать место, ссылаясь, что занял первым. Но у Гришки разговор короткий – удар в грудь.
– Моя парта, – заявил он, с сопением устроившись за ней.
– Я чего сел? – заюлил Гилевич, морщась от боли. – Хотел предложить тебе что-то…
– Садись, – разрешил Тюха, показав на место рядом с собой. – Ну?
– Отец с дедом позавчера уехали к родне в Белоруссию. А я знаю, где спрятан ключ от шкафа, в котором ружье и патроны лежат.
– Ну?
– Можно на охоту сходить.
– А патронов много? – вмешался Лешка.
– На троих хватит.
В класс вошла новая учительница. Она подождала, пока все усядутся и успокоятся. Какое-то время смотрела на школьников пытливо, будто выискивала знакомых. Они отвечали кто радостным взглядом, кто настороженным, кто просто любопытным.
– Меня зовут Юлия Сергеевна. Я буду вашим классным руководителем, а также преподавать английский язык. Сейчас я сделаю перекличку, познакомимся с вами. – Она опустилась на стул, раскрыла журнал. – Артюхова.
Алексей, выглядывая из-за плеча рослой Краснокутской, любовался учительницей. У нее была короткая прическа со спадающей до бровей челкой, если бы так постриглась поселковая женщина, над ней бы смеялись, а Юлии Сергеевне – ничего, красиво, и придает характерную городским заносчивость и самоуверенную элегантность, в сравнении с которыми напыщенность заучихи казалась индюпшной. И если Лидия Ивановна иногда появлялась в простеньких и не очень чистых Лешкиных мечтах, то такая, как Юлия Сергеевна, не поместилась бы там, таких он только по телевизору видел. Поэтому глядел на нее со стыдливым любопытством, воровато пряча глаза, когда она поворачивала голову в его сторону, будто подсматривал, как она обнажается. Увлеченный, не видел и не слышал, как вставали и садились одноклассники, не услышал и своей фамилии.
– Порфир! – окликнул Гришка.
Алексей вздрогнул и неуклюже поднялся. Голову склонил, чтобы не видно было лицо, красное, точно застукали на горячем. Руки заелозили по парте, спрятались в карманы пиджака, но мешали и там, и успокоились за спиной, на жестких рубцах откинутого сиденья парты. Стоять пришлось дольше, чем другим: наговорили уже ей, а тут еще он – растяпа! Долгожданное «садись» ударило по плечам, загнало в угол, за широкую мосластую спину Краснокутской. Теперь Лешка не видел и учительницы. Не заметил, что Тюхнин стоял так же долго, решил, что его одного мучила, что теперь не докажешь учительнице, что он, Лешка, хороший, вот только…
Ученики загомонили, потянулись к выходу.
– Пошли, Леха, – позвал Тюхнин. – Ты чего?
– Ничего. – Он вяло выбрался из-за парты.
– На охоту идешь?
– Да.
Ружье было двуствольным, двенадцатого калибра, черные поблескивающие стволы пахли маслом. Алексей держал их в руках, ждал, когда Гилевич вытянет из мешка приклад и цевье. Собирать ружье решили здесь, перед выходом на Пашкино болото – огромный луг среди густого леса километрах в пяти от поселка. Вовка Гилевич умело сочленил стволы с прикладом, щелчок – цевье надежно скрепило их. Патронов было семь штук, остальные, как сказал Гилевич, на волка, с картечью, брать не имело смысла. Зарядив ружье, он вышел первым из леса и, стараясь ступать бесшумно, направился к небольшому глубокому озерцу. Таких озер на лугу было десятка два, но начать решили с этого, расположенного в узкой части, чтобы поднятые выстрелом утки сели в дальнем широком конце.
Гилевич крался с ружьем наперевес, изображая индейца на тропе войны, и не разбирал дороги, позабыв, что одет во все новенькое. Чистый и наглаженный, но в мешковатом, на вырост костюме, с прилизанным на ровный пробор чубом, но конопатый и курносый, постоянно хвастающий носовым платком, но вытирающий сопли рукой, был Вовка будто слеплен из двух человек: чистюли-горожанина и деревенского разгильдяя, и сейчас, в роли отважного охотника, вздрагивал от каждого шороха и как всегда выглядел до смешного глупо. Он не дошел до озерка и половину пути, когда из-под ног взметнулся бекас и, крутясь по спирали, устремился по наклонной вверх. Вовка чуть не выронил от испуга ружье. Он долго соображал, что это такое, а затем пальнул из обоих стволов. Бекас продолжал крутить спираль в сторону дальнего конца луга, презрительно посвистывая крыльями.
– Мазила! – обругал Гришка и потянул ружье к себе.
Оглохший от выстрелов Гилевич не отпускал и громко оправдывался: – Ты видел, как он?! Из-под ног, гад! Я не понял сразу!
– Ружье давай, моя очередь.
– Подожди, у меня еще патрон!
– После Лехи стрельнешь, – Тюхнин заломил стволы, перезарядил, шумно дунув навстречу сизому дымку.
Опять Алексею тащиться сзади и наблюдать с завистью.
Гришка оторвался метров на тридцать. Нес ружье как дубинку и напоминал первобытного человека, особенно когда замирал полусогнутый и руками почти касался земли, точно поднимался с четверенек, или когда по-звериному, всем телом, поворачивался на подозрительный звук. Лешка загадал, что если не будет следить за Тюхой, тому не повезет, поэтому переключился на клюкву. Красные сверху и белые снизу ягоды густо усыпали кочки, можно было набрать полную горсть, не сходя с места. Жаль, много не съешь: кислые, оскомину набивают.
Бах! Тюхнин шлепнулся на задницу, быстро вскочил и выстрелил во второй раз куда-то в камыши, а не в тройку уток, взмывшую над озером.
– Есть! А-а-а!.. – кричал Тюха и размахивал свободной рукой, подзывая друзей.
Алексей смотрел на темную поверхность воды, в которой отражались облака, и не мог понять, чему радуется Гришка.
– Вон она – видишь? – показал Гришка. – Я ее хлоп, а она крыльями как забьет – и в камыши. А я еще – готова!.. Держи ружье. – Он начал раздеваться.
Порфиров вытянул из стволов стреляные гильзы, вдохнул пороховую гарь и не спеша вогнал патроны. Ничего, он сейчас двух уток срежет.
– Кто это тебя? – спросил Гилевич Тюхнина.
Белая рыхлая спина Гришки была покрыта темно-синими полосами, двойными, как отрезки железной дороги, и припухшими, видать, недавно заработал.
Батя, – буднично произнес Гришка и швырнул на землю штаны, – пьяный, скакалкой.
Он опустил босую ногу в воду, побултыхал. Вода была холодная, и Тюха посмотрел на Бовку: не послать ли вместо себя? Пожалел. Наверное, за ружье. Поежившись, Гришка упал грудью в воду, по-поросячьи взвизгнув, и обрызгав дружков.
– Кабан! – прошипел Лешка.
Так и хотелось повести стволы чуть вправо и нажать холодные рубцы курков.
Тюхнин, придерживаясь за камышину, бултыхал ногами, боясь дотронуться ими до топкого, илистого дна, и вытаскивал забившуюся между стеблей утку. Плыть с ней было неудобно, поэтому схватил зубами за крыло и волок за собой, загребая по-собачьи руками и пузыря большими черными трусами. Псина толстомордая!
Лешка отвернулся, чтобы избавиться от искушения выстрелить, посмотрел на дальний конец Пашкиного болота. Туда надо. И без этих двоих.
– Ну, я пойду, а вы здесь подождите.
Тюхнин выпустил из зубов серую, с потускневшим оперением птицу, смахнул прилипшую к губам пушинку.
– Мы там будем, – показал Гришка в сторону опушки, откуда начали охоту, – утку жарить.
– Хорошо. – Лешка старался не смотреть на него и на птицу с раздробленным, темно-коричневым клювом.
Стволы холодят пальцы, приклад присосался к вспотевшей ладони, ноги легко несут тело по кочковатой земле, покрытой желтой травой. На этом озере ничего не будет: близко, а на следующем… Алексей пригнулся, сдвинул большим пальцем предохранитель. Пока в руках не было ружья, хотелось лишь доказать дружкам, что стреляет лучше их, а теперь появилось еще и азартное желание подержать руками убитую тобой добычу. Он представил, как срежет обеих уток на взлете, как, брызнув перьями, они кувыркнутся в воздухе и шлепнутся на землю, и он подойдет к ним, еще живым, бьющим крыльями, и каблуком сломает шеи. А сейчас надо ступать очень тихо: утки сидят именно на этом озерце. Стволы плавно поднялись, мушка заскользила по рябоватой от мелких волн воде. Отклонившись корпусом, Лешка выглянул из-за камыша. Пусто. Он сплюнул от обиды и выпрямился.
Распугали уток. Вечно ему не везет. Если бы взял ружье вторым, так нет – всегда этот… у, морда! Хотелось бросить ружье и пойти к опушке, где появился дымок костра. Но ружье не отпускало, манило желанием убить кого-нибудь. Надо только подальше уйти, за островок деревьев, что как бы отделяет часть луга. Там уж точно будет в кого выстрелить.
Но и в дальнем конце Пашкиного болота уток не нашел. Устав, присел отдохнуть на кочку. Несколько ягод клюквы приглушили злость и обиду. Он пошкреб ногтем желтоватые, подсохшие комочки грязи на брюках и подумал, что хорошо, что завтра не надо на занятия, а то бы досталось от матери, ведь больше не в чем идти.
Шорох рядом заставил подхватить ружье с земли. Метрах в пятнадцати по мелководью чапала крыса: высоко поднимая лапы, шлепала ими по воде, неторопливо перебираясь к холмику сухого камыша. Усы, с капельками на концах, свисали книзу, мокрая шерсть прилипла к телу, отчего крыса казалась облезлой. Порфиров со злобным торжеством поймал ее на мушку. Палец лег на курок, преодолел упругость свободного хода. Крыса почуяла опасность, обернулась. На Алексея уставились темные провалы глазенок, между которыми шевелился темный комок носика. Прямо в него прицелился Лешка. Взгляды человека и крысы встретились, злость столкнулась с яростью – и громко рвануло. Удар в плечо чуть не свалил Алексея. В том месте, где стояла крыса, на взбаламученную воду опускались белые пушинки качалочек и, сталкиваясь, звенели. Нет, звенит в ушах от выстрела. Вода побурлила немного и вытолкнула на поверхность черно-красное месиво. Чудилось, будто и оно звенит, но тише.
И тут Порфиров услышал жалобное, с присвистом, шиканье крыльев – пара чирков снялась с соседнего озерка и потянула низом навстречу солнцу. Птицы растворились в лучах, казались светящимися пятнами, и Лешка выстрелил почти наугад. Когда проморгался, смахивая выступившие от напряжения слезы, чирков уже не было.
Чертова крыса! Был бы еще патрон, всадил бы в облезлую гадину, чтобы размазалась по дну. Но стрелять больше нечем, поэтому закинул ружье на плечо и пошел напрямую, по топким местам, на дым костра.
Тюхнин и Гилевич пыхтели «Беломором» и поплевывали в огонь. Гришка снисходительной улыбкой отпраздновал промахи дружка, принялся подгребать жар толстой веткой. Костер постреливал, отбрасывая красные искры. В центре его лежал большой ком глины, которой была обмазана утка. Лешка прислонил ружье к дереву, опустился на траву. Прямо перед глазами, колеблясь в струях нагретого воздуха, оказались мокрые между ног и на заду штаны Гришки, сидевшего на корточках. Угостившись у Гилевича папиросой, прикурил от вынутой из костра веточки и нерешительно, с заискиванием попросил:
– Вовчик, дай патрон.
– Не-а.
– Не даст, просил уже, – подтвердил Тюхнин.
Алексей раздраженно сплюнул и уставился на огонь. От костра шелдразнящий аромат мяса. Чтобы перебить его, заглушить голод, курили почти без перерыва, до тошноты. Где-то на лугу призывно крякнуло, но никто даже не посмотрел в ту сторону. Они таращились на комок глины, нехотя перекидывались ничего не значащими фразами и часто сплевывали кислую от курева слюну. Это напомнило Лешке виденную ранней весной кошачью свадьбу: молодая кошечка, забравшись на дерево, жалобно мяукала, а пятеро матерых котов окружили его и смотрели на нее с вроде бы безразличными мордами. Страстное их желаие выдавала потеря осторожности: подпустили человека на удар.
– Ну, чего – может, хватит? – не выдержал Лешка.
– Рано. – Тюхнин потыкал комок палкой. Обугленный конец ее крошился, упираясь в затвердевшую, потресканную, похожую на скорлупу грецкого ореха глину. – А может, и готова… А-а, спеклась уже! – не утерпел и Гришка.
Палка смела угольки с глины, вытолкала комок из костра. Глиняный панцирь отдирали с перьями и шкурой, обнажая влажное серо-красное мясо.
– Мне две ножки: я убил. – Гришка отрезал перочинным ножом с разболтанным лезвием нижнюю часть утки, разделил пополам верхнюю.
Порфиров и Гилевич, выхватывая пальцами горячее мясо из похожих на корытца обломков панциря, быстро справились со своими долями и смотрели, как ест Тюхнин. Тот жевал медленно, хрустел косточками, громко чавкал и размазывал рукой стекший на подбородок жир и слизывал его с грязных пальцев. Лешка отвернулся, потому что голод мучил сильнее, чем когда ждал. Он попросил у Вовки папиросу. Закурили. Гилевич пыхнул пару раз и, загнав папиросу в угол приоткрытого рта, прислушался.
– Чего там?
– Дятел, – ответил Гилевич, выплюнув папиросу, и проверил пробор на голове, будто от этого зависела меткость.
Птица сидела на высокой сущине, темное с белыми полосками и красной головкой тельце выделялось на бледно-желтом стволе. Длинный клюв очередями сообщал о занятости дятла. Заряд дроби размазал красную головку по стволу, сорвал клочки сухой коры и желтое облачко трухи.
– Все, теперь можно идти домой, – произнес Тюхнин, поднимая безголовую тушку. Показал ее стрелку, сыто отрыгнул и добавил: – Поохотились на славу, гы-гы!..
Порфиров отвернулся, чтобы не видеть тщедушное тельце в жирной, грязной пятерне.
Глава вторая
Картошка гулко рассыпалась по брезенту. Сегодня крупной привез: работали на хорошем поле. Не забыть бы перенести ее, когда подсохнет, в погреб. В загончике хрюкнула свинья, в щель протиснулся пятачок, с шумом втягивающий воздух. Тоже жрать хочет – наверное, мать не покормила. Лешка кинул свинье несколько картофелин, вышел из сарая.
Мать с Андреем на руках стояла на крыльце. Младший брат кривил беззубый рот в плаче.
– Где ты шляешься, скотина?! Сколько тебя можно ждать?!
Лешка молча зашел в дом.
– Я жду его, жду, тут еще этот – когда ты заткнешься, скотина?! – Она затрясла ребенка на руках. – Аа-а-аа-а…
Алексей зашел в кухню, сказал:
– Есть хочу.
– Картошка на печке. Сала отрежь… Аа-а-аа-а… Картошки привез?
– Да, – ответил он, нарезая желтое, с запахом истлевших тряпок сало.
– Отца нигде не видел?
Лешка видел его часа два назад, тот выходил с мужиками из магазина, несли водку и вино.
– Нет.
– Пьет, скотина; получка сегодня, – догадалась мать. – Ешь быстрей и иди ищи его, деньги забери, а то обворуют пьяного. – Аа-а-аа-а… – Она пошла в спальню, слышно было, как положила Андрея в люльку.
Люлька была старой, ее сварили из железных прутьев еще для Алексея. Давно отслужив свой срок, она жалобно скулила, просясь на покой. Это повизгивали ушки, надетые на стертые наполовину крюки стоек. Стойки – дюймовые трубы, загнутые вверху вопросительным знаком, а снизу приваренные к погнутым от времени полоскам – постукивали по полу при качании. Люлька скулила и стучала, брат захлебывался в реве, сестры смеялись и кричали, но все это не мешало Лешке. Почти не пережевывая, он глотал горячие картофелины и заедал тонко нарезанным салом. Откусывал его маленькими кусочками, чтобы хватило на всю картошку. Зато хлеба можно есть от пуза. Запил полулитровой кружкой чая, заваренного в большом чайнике. Размоченные чаинки неприятно липли к зубам и небу, приходилось отковыривать ногтем. Отрезав горбушку хлеба на дорогу, с трудом выбрался из-за стола: наломленная на поле спина болела, так бы и сидеть, наклонившись вперед, или ходить полусогнутым и не спеша.
– Ты еще здесь? – заглянула на кухню мать.
– Иду! – Алексей хлопнул входной дверью так, что Манька заскочила в будку и не полезла, как обычно, ласкаться.
Он знал, где искать отца – скорее всего, неподалеку от магазина, на одной из полянок поросшего деревьями холма, увенчанного памятником погибшим на войне. И не ошибся. Отец и еще трое из его бригады, развалившись на фуфайках и подставив бурые от загара лица заходящему солнцу, дружно гудели ноздрями, а рядом валялись пустые бутылки, пара банок рыбных консервов и ломти обклеванного воробьями хлеба. Интересно, деньги в брюках или в фуфайке? Из фуфайки труднее будет достать. Алексей наклонился, всунул пальцы в прорезь кармана брюк. Сквозь тонкую материю ощущалось тепло ноги. Только бы не проснулся, только бы…
От харчания рядом Лешка вздрогнул и выдернул руку. Один из мужиков перевалился на бок, завозил ногой по земле. Вроде бы спит… Теперь второй карман. Брюки с этой стороны обтянулись, и ладонь пришлось просовывать снизу. Запутавшись в складках, Алексей психанул и полез не церемонясь. Пальцы уткнулись в плотный комок. Стараясь забрать все сразу, вытянул деньги. Десятки и двадцатипятки и много, значит, все. Позабыв об осторожности, Лешка шагнул к кустам. Взгляд его зацепился за лежащего на боку мужика: у того из кармана торчал уголок помятой десятки. Тихо наклониться, сжать уголок кончиками пальцев, легкий рывок – и деньги твои. А если проснется, убьет. На пару с отцом убивать будут. Вспотевшие ладони проехали вверх-вниз по собственным брюкам, правая оторвалась от них и повисла над чужими…
Оп! Спит? Спит – порядок. Три шага к кустам на затаенном дыхании и – похлестывание веток по щекам – бегом. Победный смех рвался наружу. Закричать бы, чтобы все узнали, подивились его смелости!
Мать пересчитала деньги.
– Все? – покосилась она на сына.
– Могу карманы вывернуть. – Лешка опустил в них руки, демонстрируя готовность. Две десятки – стянутая у мужика и бессрочно одолженная у отца – лежали в сарае, в укромном сухом местечке.
– Не надо. – Мать отложила из пачки двадцатипятирублевку, остальные понесла прятать. Через минуту вернулась с платком и сумкой в руках. – За Андрюшкой присмотри, пока в магазин сбегаю, – она виновато отвела глаза, – хлеба купить. Я мигом.
В люльке среди груды пеленок плакал и сучил кривыми ножками младший браг. Одной ручонкой он держался за вогнутый, захватанный до черноты прут и пытался то ли встать, то ли перевернуться на бок. Тельце ворочалось, а непропорционально большая голова будто вмерзла в подушку. Почти год ему, а не только ходить и говорить, даже голову держать не умеет. Увидев у носа погремушку, Андрюшка отпустил прут, жадно вцепился в нее, сразу же засунул в рот. Губы пиявками присосались к кольцу, морщинистое личико разгладилось. Правда, ненадолго. Обслю нявленная игрушка скатилась на грудь – несъедобная – и опять визгливый крик, иногда перебиваемым хрипением.
– И-а-а!..
Лешка качал, качал, пока не понял, что сам заснет быстрее. Резко толкнув люльку, так, что чуть не соскочила с крючков, пошел во двор. Сестры играли возле сарая в куклы: рассаживали на поленья перевязанные веревками кульки из тряпок.
– Верка, иди Андрюшку качай!
– Сам качай! – огрызнулась сестра.
– Я кому сказал?! Или получить хочешь?!
– Мама тебе велела, – она нехотя и постоянно оборачиваясь шла к крыльцу, – а я не должна. – Заметив, что младшая сестра берет ее куклу, закричала с Лешкиной интонацией: – Валька, не трогай, а то получишь!
– Я свое откачал, – Алексей подтолкнул сестру в спину.
Вера была на четыре года моложе его, родилась после возвращения отца из армии. Алексей нянчился с ней и со второй сестрой Валей, начиная с Ани разделил обязанности со старшей, а с четвертой, Оли, и вовсе отказался – хватит с него!
Андрюшка не давал заснуть, орал почти не замолкая до прихода матери. Она торопливо выложила из сумки на кухонный стол хлеб и бутылки вина, приговаривая:
– Сейчас, мой маленький, сейчас.
Пластмассовая пробка с хлопком осунулась с горлышка, вино забулькало в стакан.
– Принеси тряпочку, – приказала мать Лешке.
Когда он вернулся, стакан был пуст, а мать быстро пережевывала хлеб. Взяв у сына лоскут пожелтевшей марли, выплюнула в нее хлеб, завязала узлом так, что образовался катышек с мякишем внутри, который облила вином.
– Сейчас, мой маленький, – приговаривала она, поновой наполняя стакан.
Пропитанный вином катышек заполнил Андрюшкин рот, щеки округлились, задвигались.
– Ну, вот, мой хорошенький, теперь не будем плакать и заснем… Ух ты, мой крикунишка!.. Ну, вот и спим, вот и умничка! – Мать вернулась на кухню, вынула из-под хлеба кулек с дешевой карамелью. – Это Леше. На, – швырнула она на кушетку две конфеты, отложила и себе пару, а остальные отдала дочери. – А это вам, поделите поровну.
Верка схватила кулек и побежала во двор, пряча в карман штуки три конфеты, а мать опустилась на табурет у стола.
– Лешенька, иди посиди с мамой, – Она разлила остатки вина из бутылки в два стакана, попробовала карамель, – У-у, вкусная!.. Садись, сыночек, выпей с мамой, сегодня получка – можно капельку.
Алексей смотрел, как стакан в руке матери наклонялся все больше и больше и лил бурую жидкость в приоткрытый рот как верхний край стакана, коричневый и надбитый, закрыл темный провал на месте четырех верхних зубов, а потом красный кривой шрам, соединяющий губу с ноздрей. Пустой стакан оторвался ото рта, нижняя губа поползла вверх, придавая лицу надменность.
– Ух! Бр-р!.. А ты чего не пьешь?! Пей, сыночек, оно хоть и горькое, а все легче, – приговаривала мать и хрустела карамелью.
Алексей привычно, не морщась, опорожнил стакан. Закусывать не стал, решил припрятать конфеты на худшие времена. Спать ему перехотелось, поэтому посидел немного с матерью, а затем сказал:
– Ну, я пойду.
– Иди, сыночек, гуляй, пока молодой. – Мать, подперев щеку кулаком и медленно раскачиваясь, глядела на стену перед собой. Глаза ее увлажнились, заблестели, оживляя некрасивое одутловатое лицо. Прядь наполовину седых волос выбилась из-под платка, прилипла к вспотевшему лбу. – Иди, мой родненький, иди…
Смотреть фильм Лешка не собирался. Они сходили с Тюхой за сигаретами, на обратном пути заглянули в клуб, поиграли в бильярд, пока их не прогнали старшие, и собрались уже идти домой, когда увидели Юлию Сергеевну. Она нерешительно постояла в дверях, подошла к сидевшему за столиком киномеханику.
Звякнули деньги, Коська оторвал билет.
– Без мест, – ответил он на тихий вопрос учительницы.
– Пойдем в кино, – предложил Лешка Тюхнину.
– Не хочу.
– Я куплю билеты.
– Тогда пойдем, – сразу согласился Гришка.
Учительница стояла в проходе с завклубом, они о чем-то говорили. Завклубом засмеялась и ушла, а Юлия Сергеевна осмотрела зал, решая, где сесть. Задние ряды занимали взрослые парни и девушки, в следующем – Порфиров и Тюхнин, еще ближе к экрану – две молодые супружеские пары. Учительница села неподалеку от них.
С заднего ряда кто-то свистнул и истошно заорал:
– Коська, кинуху давай!
Вопль повторялся раза три, и, наконец, в зале потух свет. Вверху за стеной застрекотал аппарат, на белом полотнище засветились черно-белые кадры кинохроники. В последних рядах зачиркали спички, заалели огоньки сигарет. Порфиров и Тюхнин тоже закурили. Сизый дым заклубился в луче кинопроектора.
Тот же голос, что орал, теперь комментировал происходящее на экране:
– О-о! Гы-гы!.. Гля, как он целуется с тем! Гы-гы!..
Ближе к Лешке послышался убеждающий шепот:
– Ну, чего ты?! Иди, не бойся!.. Я тебе говорю: сразу согласится, она же городская, они все шлюхи!
– А если нет? – сомневался Ленчик, поселковый придурок, великовозрастный детина с вечно открытым слюнявым ртом на прыщавой морде.
– Согласится-не боись! Ты только смелее-за пазуху сразу… Ну, пойдешь или нет? А то я попробую.
– Ладно, схожу.
Ленчик под неодобрительное шиканье выбрался в проход, прошелся к экрану, вернулся к ряду, в котором сидела учительница.
– Смелее, Ленчик!
Придурок сел рядом с Юлией Сергеевной. Алексей видел, как он наклонился к ней, что-то сказал. Учительница брезгливо отшатнулась, пересела подальше. Ленчик тоже пересел, попытался обнять. Звонкая оплеуха развеселила задние ряды.
– Чего бьешься, дура! – возмутился Ленчик.
– Это она ломается! Смелей давай!
Лешка опустил голову, обхватил ладонями подлокотники, до боли сжал, сминая сигарету и обжигая пальцы. Сзади опять заржали. Он еще больше ссутулился, будто хотел показаться самому себе моложе и меньше, чем был. Левая щека задергалась в тике.
– Так ее, Ленчик!
Раздался звук еще одной оплеухи, мимо Лешки простучали каблучки, тяжело охнула дверь. Затем прошаркали неторопливые шаги, сзади тихо пороптали, кто-то стукнул Ленчика по спине и буркнул:
– Под ноги смотри, бык!
Щека все дергалась. Алексей сдавливал ее пальцами и боялся поднять голову, иначе бешенство плеснет наружу, и он ударит придурка, не подумав о последствиях. И не справится с ним. Да и дружки Ленчику помогут: по кулаку скинутся – домой не доползешь.
Когда пришел домой, там не спали. На кухне отец сидел перед пустой бутылкой, а мать дерганой походкой сновала около стола, держа на руках спящего Андрюшку. Значит, батя дерется.
Лешка вдоль стены прокрался к хлебнице.
– …Я тебе сколько раз говорил, сука, чтоб не лазила по карманам?! Ну, отвечай! – допрашивал отец.
– А ты хотел пропить все, а мы – голодные сиди?!
– Мои деньги, что хочу, то и делаю! – Широкая ладонь хлопнула по столу так, что бутылка зашаталась. Одуревшие от выпитого глаза уставились на щербинку на горлышке и, казалось, не замечали сына, резавшего хлеб.
– Накось выкуси – его деньги! – Мать сунула под нос отцу кукиш. – А дети чьи? Не твои?.. Наплодил, так корми! Или, думаешь, твое дело только кобелиное?! А вот тебе! – Кукиш встрял в нос.
Медленно, как будто толстую свеклу тянули его из земли, высунулся Порфиров-старший из-за стола. Табуретка, поддетая ногой, отлетела к печке. Одним шагом отец оказался у выхода из кухни, перекрыв дорогу к бегству.
Лешка глянул на окно. Закрыто. Под стол? Достанет. Значит, под кушетку. Сунул отрезанный кусок хлеба в рот, чтобы освободить руки, и прилип к стене, ожидая.
Мать пятилась к печке, прикрывая голову Андрюшкой. Удар пришелся между плоских, обвисших грудей. Они вскинулись и опали, согнутые ноги поджались к животу, задирая халат, платок съехал на глаза – мать будто собиралась крутануть сальто назад, но, начав, передумала и врезалась головой в угол, образованный стеной и полом. Андрюшка вылетел из пеленки и бултыхнулся в ведро с помоями. Грязная мыльная вода и картофельные очистки плеснулись через край. Кривые ножки судорожно постучали по дужке ведра и затихли.
Лешка, с хлебом во рту, подскочил к ведру, выхватил за ноги брата. К синюшного цвета спине прилипла желто-красная обертка от конфеты, вода обтекала бумажку, устремлялась в ложбинку над позвоночником, капала с безжизненно покачивающихся головы и рук.
– И-и-и!.. – взвизгнула мать, поднимаясь с пола, и вцепилась ногтями в щеки мужа, бурые и запавшие, словно неумело натянутые на широкие скулы.
Он очумело мотал головой и отступал боком, пока не осел на кушетку. Маленькие кулаки падали на курчавую голову, мстя за побои, сегодняшние, прошлые и будущие.






