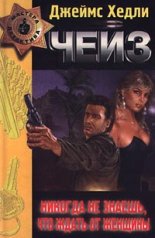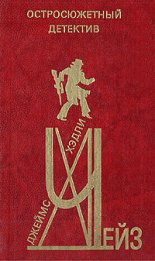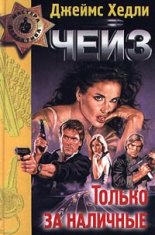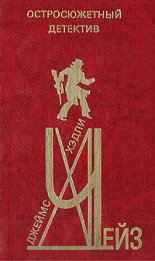Крючок для пираньи Бушков Александр

— Музей сгорел… — заикнулся было Мазур.
— Знаю.
— А поскольку твой человек не пришел… Твоя работа?
— Хорошенького ты обо мне мнения, — грустно сказал Кацуба. — Спалить единственный здесь, не считая пивной, очаг культуры? Фи, мон колонель…
— Как же тогда понимать…
Кацуба аккуратно притер машину к бровке, вытащил сигареты и откинулся на спинку:
— Понимать следует примитивно. Ты успел ей споить таблеточку?
— Нет.
— Совсем хорошо, — осклабился Кацуба. — Вышло для вас обоих сплошное удовольствие, а не ночка… У тебя засос на шее. Застегнись…
Мазур сердито застегнул воротник рубашки и спросил:
— Провокация?
— Ага, — безмятежно сказал Кацуба. — На хрен мне нужен был этот музей. Нет, не произойди пожара, человечек к тебе все равно пришел бы за ключами в строгом соответствии с диспозицией. Однако вышло жестче… Старый способ. Еще большевики применяли. Скажут одному, что нелегальщина — у Иванова в поленнице, второму — что листовки у Петрова в печке, третьему — что бомба у Сидорова в чулане, а потом смотрят, кого из троицы трясли мундиры голубые и куда первым делом сунулись… Только не лезь с вопросами. Еще и оттого, что до конца ничего не ясно. Ловушка была поставлена не на одного — на нескольких, и нужно еще поработать… Лучше кратенько изложи свои впечатления от светской беседы с этими милыми ребятами.
— Это не хулиганье, вообще народ определенно не случайный, — сказал Мазур. — Сколько ни вспоминай, возвращаешься к одному выводу: они меня не собирались ни убивать, ни даже серьезно калечить. Все удары шли так, чтобы как следует распахать конечности, морду, бока… Чтобы получилась неглубокая, но обширная рана, с которой под воду ни один врач не выпустит… Даже ваш.
— Хорошо подумал?
— Хорошо, — сказал Мазур. — Я, позволь тебе напомнить, в таких делах кое-что понимаю.
— Да верю я тебе, — сказал Кацуба. — Как не верить, если все это прекрасно в картинку укладывается… Начали нас трясти, друг Володенька. Но пока что обращались, как с теми, за кого мы себя и выдаем… а если и пронюхали что-то о нашем двойном донышке, то все равно особой агрессии не проявили. Начали трясти, начали, вообще-то, радоваться надо… Будет Шишкодремову работенка, хватит ему водку жрать… Да и тебе пора в строй. Если сегодня отоспишься до полудня, под воду идти сможешь?
— Смогу, — сказал Мазур.
— Без бравады, по-серьезному?
— Смогу.
— Вот и отлично. — Кацуба включил мотор и поехал не спеша. — Все готово, труба зовет…
— Ты где машину спер?
— Обижаешь. Честно купил. Так задешево, что в Шантарске ни одна собака не поверит. Месячишко еще пробегает — да мы здесь столько и не задержимся при удаче…
— Слушай, — сказал Мазур. — Если музей спалили по одному только подозрению, если пошли такие игры, то Катя…
— Присушила? — фыркнул Кацуба.
— Пошел ты, — сказал Мазур. — Не хочу, чтобы с ней что-то скверное случилось, вот и все. Понятно?
— Ультиматум?
— А если? Совершенно посторонний человек в наших играх…
— Сентиментальный вы народ, флотские, — сказал Кацуба. — Да не зыркай ты на меня зверем, я ж тоже человек и душа у меня чувствительная… временами. Постараюсь убрать твою Катеньку в безопасное место, — глянул он косо, жестко на Мазура. — Еще и оттого, что это открывает простор для очередных комбинаций. Вот такая я сволочь, когда на рабочем месте… А морда лица у тебя определенно мечтательная…
— Ты знаешь, я уже столько народу переправил в нижний мир… — глухо сказал Мазур. — Столько, что ненужных трупов стараюсь категорически избегать.
— Да все я понимаю, — сказал Кацуба. — Сказал — сделаю. Пока мне не приказывают быть сволочью, я, скажу по секрету, ею и не бываю…
Глава девятая
Где человек охотится за тенью…
Нельзя сказать, что Мазур лучился блаженством, но все же настроение у него было превосходное.
Кончилось сидение на суше, раздражавшее его и сплетением совершенно ненужных загадок, и унизительными поручениями Кацубы. Все кончилось. Капитан первого ранга Мазур стоял у фальшборта корабля под названием «Морская звезда», браво рассекавшего волны под блекловато-лазурным небосводом, почти не запачканным облаками. Погода стояла прекрасная, идеально подходившая для спусков, полный штиль. Корабль ему нравился — небольшое, но прекрасно оснащенное суденышко, набитое хитрой электроникой, с новенькой декомпрессионной камерой на палубе, с отличным (и большей частью ненашенским) легководолазным снаряжением. С благословения Кацубы и молчаливого согласия капитана Мазур облазил тут все и убедился, что определить принадлежность этого кораблика к глаголевскому ведомству не сможет и профессионал. По крайней мере, визуально. Самый обычный, ничем не примечательный обеспечивающий корабль.
Команду Мазур давно уже оценил по достоинству. Все они здесь, от капитана до последнего матроса, напоминали матрешек — очень своеобразных матрешек, надо уточнить. Только при вдумчивом исследовании можно определить, что под выполненной яркими веселыми красками кукольной улыбкой таится сталь, из которой матрешки и сделаны. И неизвестно, что там внутри. Ровная вежливость, даже некоторая предупредительность, корректные ответы на любые, связанные с делом вопросы. Но настает момент, когда вдруг понимаешь, что все они так и остались для тебя совершенно закрытыми, словно они и не люди вовсе — машины, андроиды…
Он не без зависти покосился на Кацубу — майор на пару с рыжеволосой красоткой Дашей Шевчук дымили у борта, как парочка старомодных паровозов. Сам Мазур от лишней порции табачного дыма воздерживался — на глубине случайный кашель может стать источником массы неприятностей…
Он отвернулся и стал смотреть, как двое матросов проверяют предназначавшийся ему гидрокостюм. Быстро убедился, что посторонних советов тут не требуется, ребята работали четко, со знанием дела — в хорошем темпе разобрали-собрали предохранительные клапаны и принялись за сам костюм: подсоединили шланги, зажгутовали манжеты, обильно смочили мыльной пеной…
Заметил краем глаза, что Кацуба за спиной навязавшейся рыжей попутчицы сделал ему знак подойти. Неохотно поплелся в ту сторону, остановился рядом.
— Отчаянная вы женщина, Дарья Андреевна, — говорил тем временем Кацуба, опершись на фальшборт, словно старорежимный франт на бульварную скамейку. — Не побоялись отдаться в полную власть заклятым конкурентам. А что нам, извергам, стоит беззастенчиво хлобыстнуть вас по затылку да к рыбкам и отправить? Доказать все равно ничего не удастся — как говорят специалисты, от неизбежных на море случайностей…
— Простите, никак не могу припомнить вашу последнюю фамилию, — сказала Даша.
— Проценко, Михаил Иваныч.
— Смотрю я на вас, Михаил Иваныч, и все время, что мы с вами знакомы, не перестаю удивляться — как вы ухитряетесь в обыденной жизни выглядеть законченным придурком?
— Профессия такая, — сказал Кацуба весело. — На людях мы все придурковаты да косноязычны. Зато внутренний мир у нас богатый. Хотите, Дарья Андреевна, послушать Бодлера?
- В один ненастный день, в тоске нечеловечьей,
- Не вынеся тягот, под скрежет якорей,
- Мы всходим на корабль, и происходит встреча
- Безмерности мечты с предельностью морей.
- О, странная игра с подвижною мишенью!
- Не будучи нигде, цель может быть — везде.
- Игра, где человек охотится за тенью,
- За призраком ладьи на призрачной воде…
— Убили, — сказала Даша. — Сразили наповал. Тут мне с вами не стоит состязаться, в поэзии не сильна…
— Значит, я не так уж и похож на придурка в обыденной-то жизни?
— Временами, — сказала она. — А временами как раз смахиваете.
— Обиделись?
— Да что вы. Просто шуточки плоские.
— У вас, пардон, тоже, милая барышня, — сказал Кацуба вкрадчиво.
— В смысле?
— Посмотрите, — сказал Кацуба, кивнув в сторону Мазура. — Вот стоит человек мужественной профессии Володя Микушевич, но знаете ли вы, отчего у него физиономия покарябана самым паскудным образом? Нет, не вел он себя хамски с несговорчивыми гордыми красотками и не ловил спьяну черную кошку в темной комнате. А ворвались к нему, Дарья Андреевна, лихие люди, инсценировавши покушение на изнасилование малолетней, притащили в качестве живой декорации саму малолетнюю и для полного правдоподобия изукрасила эта стервочка нашего Володю, как бог черепаху… Ну, и после всего этого бездарного спектакля, принесшего Володе нешуточные моральные терзания, выбили у него согласие стать информатором, а выражаясь по-простонародному — стукачом…
— При чем здесь я?
— Так я ж и говорю, Дарья Андреевна, — с самой простецкой физиономией ухмыльнулся Кацуба. — Предъявили ему эти лихие люди удостоверение уголовного розыска… Слово офицера. Нехорошо, Дарья Андреевна. Мы к вам со всей душой, а вы отвечаете таким хамством. Я, конечно, человек не обидчивый, просто неприятно как-то…
Она обернулась и какое-то время пытливо разглядывала Мазура — царапины уже подернулись корочкой, но оттого стали еще более заметными. Спокойно спросила:
— А почему же вы не пугали агрессоров своими грозными мандатами?
— Скромные мы люди, Дарья Андреевна, никого пугать не привыкли, но и сами пугаться не любим…
— Конкретнее.
— Если конкретнее, вопрос будет прежним — чем мы такое хамство заслужили?
— Я здесь ни при чем, — сказала она решительно.
— Дашенька, ну не дети же мы с вами… Как только вы сюда прибыли, начались… сюрпризы.
— Фамилии, — обернулась она к Мазуру.
Мазур не успел ответить — Кацуба моментально ловко наступил ему на ногу, поневоле вынудив вздрогнуть и закрыть рот. Потом майор медоточивым голоском сказал:
— Будут фамилии, Дарья Андреевна. После нехитрой процедуры, именуемой в народе «баш на баш». Я от вас не стану требовать выдачи служебных секретов, помилуйте… Ответьте мне только на один-единственный вопрос: где капитан Толстолобов? Сами по себе эти сведения тайны не должны составлять… У вас он или у кого-то другого?
— Приятно видеть, что и вы чего-то можете не знать… — усмехнулась она, заправляя под вязаную шапочку длинные пряди — с левого борта налетел прохладный ветерок.
— Так мы договорились?
— Слово против слова?
— Ага, — сказал Кацуба серьезно. — Володя…
— Старший лейтенант Никитин, Юрий Петрович, — сказал Мазур. — Местный уголовный розыск. Остальные никаких документов так и не предъявили.
— Понятно… — протянула Даша. — Так вот, Михаил Иваныч, я вашему слову верю, но прекрасно понимаю, что вы ловконько свалили на меня часть своих проблем… а?
— Такова се ля ви, — осклабился Кацуба. — Так где Толстолобов?
— В морге, — сказала Даша. — Аккурат за день до вашего сюда исторического визита Толстолобова нашли на улице. По исполнению — нападение пьяной шпаны. Голова пробита бутылкой, чьи осколки тут же наличествовали, и в ране они же, дело незамысловатое. Правда, отпечатки на горлышке какие-то неправильные, смазанные, а там, где непременно должны быть, отсутствуют. Нехорошая бутылка, неправильная… Подставная…
— Ну, спасибо, — повертел головой Кацуба. — Если совсем честно, Дашенька, выходит, что мы взаимно свалили друг на друга часть своих проблем…
Он резко развернулся и направился к рубке. Мазур остался наедине с загадочной Дашей, поглядывавшей на него не без интереса. Правда, интерес, насколько он мог судить, был чисто профессиональным. «Морская звезда» вдруг ощутимо застопорила ход, пошла короткими гласами. Матрос по правому борту оживился, прильнул к черному ящику на треноге.
— Что это он? — спросила Даша.
— Это лазерный дальномер, — ответил Мазур незамедлительно. — Привязывается к берегу. Значит, мы где-то над местом…
Он вдруг вспомнил, где всплывала эта фамилия — Толстолобов. Несколько раз попадалась в документах, которые пришлось здесь просматривать. Капитан водолазного бота, с которого опускали водолаза к «Комсомольцу Кузбасса».
Даша вздрогнула от неожиданности — на баке длинно заскрежетало железом по железу, скрежет перешел в протяжный, непрерывный лязг. «Морская звезда» отдавала якоря.
— Прибыли, — сказал Мазур. И, странное дело, почувствовал нешуточное облегчение.
— А это зачем?
На единственной мачте рывками поднимались три знака — ромб меж двумя шарами, снизу и сверху.
— «Ведутся водолазные работы», — сказал Мазур. — Международный сигнал. Вам еще что-нибудь объяснить? Здесь, на корабле, все называется совершенно иначе, чем на твердой земле. Вон там — не нос, а бак, это не тумба, а кнехт, любая веревка на корабле — конец…
— А где брамселя? Во всех романах постоянно посылают матросов на эти самые брамселя…
— Брамселя — это названия некоторых типов парусов, — сказал Мазур, ощущая знакомое состояние, нечто среднее меж возбуждением и тревогой. — Здесь им взяться неоткуда.
— Надо же, жалость какая…
Два матроса бегом пронесли балластину — чугунную пирамидку с ушками для ношения. За ней тянулся пеньковый конец, разматываясь с барабана. Понатужились, перевалили через борт, машинально уставились на воду. Барабан зажужжал, затрещал, ошалело вертясь.
— Спусковой конец, — сказал Мазур. — Чтобы облегчить мне работу.
— А вы Бодлера декламировать можете? — неожиданно спросила она.
— Не сподобился, — сказал он, пожав плечами. — Я человек простой.
Врал, конечно. В училище одно время Бодлер был в большой моде — правда, не полюбившееся отчего-то Кацубе «Плаванье», а «Человек и море»:
- Как зеркало своей заповедной тоски,
- Свободный Человек, любить ты будешь Море,
- Своей безбрежностью хмелеть в родном просторе,
- Чьи бездны, как твой дух безудержный, — горьки.
Но не читать же Бодлера майору милиции, пусть даже и женского пола, стоя на палубе шпионского корабля за пять минут до погружения? Сюрреализм…
Матросы готовили шлюпку, как и полагается — если борт корабля выше трех метров, аквалангисту полагается нырять только со шлюпки… Появился доктор, с деловым видом прошелся от борта к борту, хотя делать ему пока что было совершенно нечего, — и Мазур искренне надеялся, что доктор останется безработным до самого конца.
— Врач — тоже согласно правилам? — спросила Даша.
Мазур кивнул:
— И врач, и шлюпка, будет еще и инструктаж, как меня обрадовали.
— Вам это не нравится?
— Нужно же, чтобы все было по правилам, — сказал Мазур. — Чтобы потом точно знали, с кого снять голову…
— А как вы думаете, почему те два спуска были проведены со столь многочисленными и вопиющими нарушениями?
— Разбираетесь?
— Совсем слабо, — сказала она. — Просто у нас тоже есть эксперты… Меня заверили, что там нарушение на нарушении ехало и нарушением погоняло…
— Правильно заверили, — осторожно сказал Мазур.
— Так почему, как вы думаете?
— Не знаю, — сказал Мазур. — Видимо, оттого, что мужик не перекрестится, пока гром не грянет…
— Похоже, — вздохнула она. — Интересно, в воде сейчас очень холодно?
— В костюме плавать можно…
Ее слегка передернуло — похоже, тут не было ни малейшей игры:
— Не представляю, как вы туда полезете…
— Мне легче, — сказал Мазур. — Это вам, наверху, тяжелее. Внизу, по крайней мере, ни штормов, ни шквалов. А корабли, бывает, тонут совершенно внезапно.
— Шутите?
— Как вам сказать… — усмехнулся он. — В восемьсот пятьдесят четвертом, к примеру, без вести пропал «Город Глазго». Там было четыреста восемьдесят пассажиров, не считая экипажа. Я вам столько могу порассказать… Перефразируя Булгакова — не то плохо, что корабль подвержен крушению, а то, что он внезапно подвержен…
— Это вам милейший Михаил Иваныч поручил меня пугать?
— Помилуйте, просто поддерживаю светскую беседу, — усмехнулся он.
— Хорошая беседа… Это не вам машут?
Действительно, Кацуба нетерпеливо жестикулировал с мостика.
…Обычно на столь невеликих корабликах помощников у капитана не бывает, поскольку в них нет никакой нужды. Однако этот кораблик был чуточку необычным, и помощник здесь имелся — точно такой же типичный, как группа Кацубы, где каждый носил умело подобранную и мастерски подогнанную личину. Очень классический был помощник — морской волк с красивой проседью на висках, умевший крайне многозначительно и умно молчать. Именовался он без затей — Степан Ильич.
— Кто-нибудь разбирается в батометрических работах? — спросил он.
Все промолчали — и Мазуру пришлось признаться, что кое-что он в этом понимает.
— Вот результаты суточной работы, — помощник положил перед Мазуром чертеж, для непосвященных выглядевший изложенной на китайском языке теорией относительности, и, очевидно, для усугубления своего типичного образа закурил прямую темную трубку. — Проработали сорок точек. Батометр у нас немного превосходит обычные океанологические — тридцать шесть образцов за погружение, емкость — тысяча двести кубиков. Выводы отрицательные. Никаких следов отравляющих веществ. Воздух в прокуренной комнате и то вреднее для организма. При обычных условиях этих данных хватило бы, чтобы убедить кого угодно.
Мазур сомневался, что есть вещи, способные убедить в чем-то иных его здешних знакомцев. Пожалуй, и свидетельство самого Нептуна, всплывшего на рейде Тиксона, проигнорировали бы…
— Теперь о корабле, — сказал старпом, приглашая Мазура с Васей, как тех, кого это непосредственно касалось, подсесть поближе. — Со стопроцентной точностью восстановить картину по показаниям приборов нельзя, но «Комсомолец», несомненно, переломился пополам. Дно скальное, в обломках породы — картина для здешних морей классическая. Видимо, угодил на приличную глыбину. Нос лежит примерно так. А корма примерно вот так… — он быстро набросал на большом листе схематичные очертания двух половинок: — Чертежи корабля в архивах раздобыть удалось. Переломился, надо полагать, где-то здесь…
— Весьма любезно с его стороны, — проворчал Мазур. — Трюмы практически открыты, вспороты, как консервная банка, заходи парадным шагом… Так, надстройки и помещения… люки, палубные устройства… Груза что, не было?
— Он разгрузился в Тиксоне. Ну вот, вроде бы все… — Он вдруг поднял взгляд на Дашу и словно бы вовремя прикусил язык. — Да, все. Пойдемте?
Когда все направились к выходу, он придержал Мазура за локоть и тихонько сказал:
— У нас хорошие сонары, и приближение… гм, посторонних крупных объектов оператор не пропустит. Если по какой-то причине телефонная связь не будет работать, воспользуемся простейшим способом — гаечным ключом по ведерку, опущенному в воду. Серия частых ударов будет означать, что плывут… посторонние.
Мазур кивнул — примитивные способы бывают и самыми лучшими, стук железом по железу в воде слышен на полторы сотни метров — и сказал:
— Но ежели в этом аспекте… Мне, кроме ножа, ничего такого не полагается?
— Без приказа, извините, не могу разодолжить… — развел руками картинно-типичный старпом. — Мы с вами чисто теоретически обсуждаем разные варианты. Не обижайтесь, право…
— Да что вы, — сказал Мазур рассеянно. — Приказы не обсуждаются…
…Шерстяное водолазное белье. Брюки, куртка со вклеенным шлемом. Комбинезон, сапожки, пятипалые перчатки. Под шлемом к тому же — шлемофон, микрофонная коробка подсоединяется к трубке выдоха. Мазур понемногу обрастал снаряжением, как рыцарь — доспехами или новогодняя елка — игрушками. Ласты. Пояс с грузами и ножом, помочи, поясная манжета, верхняя манжета, нижняя манжета, жгут, герметизирующее кольцо, травящий клапан, фиксатор загубника… Глубиномер, компас, часы. Баллоны. Все. Аквалангист полностью изолирован от родной и близкой воздушной среды, он уже полностью автономен, как космонавт на Луне. Матрос подал ему бухточку тонкого пенькового канатика, Мазур присобачил ее к поясу. Повесил рядом фонарь.
Шлюпку слегка покачивало. Это был еще не конец — предстояли последние формальности. Мазур стравил лишний воздух из костюма, перевалился через борт, удерживаясь одной рукой за трап, вытянулся горизонтально, оценил свою плавучесть. Так и есть, один грузик явно лишний, но это много времени не отнимет, пряжка пояса так и сконструирована, чтобы расстегиваться моментально…
Рядом проделывал те же манипуляции Вася. Все, исторический миг грянул… Мазур сделал знак напарнику, оттолкнулся от борта, переворачиваясь вниз головой, пошел на погружение, держась возле спускового конца, уверенными гребками выдерживая направление. Мгновенно включились все наработанные рефлексы, он действовал, как безотказный автомат.
На первых десяти метрах, как обычно и бывает со всеми, заложило уши, и Мазур привычно продул нос, стравил воздух. Гидрокостюм плотно облегал тело, казалось, весь мир состоит лишь из гибкой резиновой скорлупы с живой плотью внутри, а все, что за ее пределами, и не реальность вовсе — туман, сон, морок… В общем, многие это испытывают.
Брызнули врассыпную какие-то мелкие рыбешки, плоские, сероватые. На пятнадцати метрах подступила со всех сторон, сомкнулась зеленоватая мгла. В такой новички и теряют ориентировку, но мы-то люди битые, нас на такой примитив не поймать… Вася идет хорошо, грамотно идет…
На двадцати восьми метрах стало гораздо светлее — такие штучки как раз и имеют место в северных морях, с их мутными слоями. Дно светлое, отражает солнечные лучи, а солнце стоит высоко и волнение минимальное…
Тридцать пять. Глубиномер работает исправно, поскольку — импортный. Отечественные до сих пор имеют скверную привычку работать точно только до тридцати, а глубже принимаются чудить.
Вася шел левее, чтобы не шибала Мазуру в физиономию струя его пузырей. Справа замаячила темная полоса — надо же, молодцы, спусковой конец они опустили чуть ли не рядом с бортом бедняги «Комсомольца».
Вот и все, они достигли дна, замерли в зеленоватом сумраке. Видимость была обычная для такой глубины — метров пять-шесть, дальше все расплывалось, тонуло в тумане. Нужно было все время делать поправку «на зрение» — под водой предметы кажутся больше, чем они на самом деле, да к тому же словно бы чуточку смещенными.
Совсем рядом, на границе видимости, сиротливо произрастал высоченный куст ламинарии, этакий первопроходец, собравшийся исследовать глубины — широкая буроватая лента, совершенно неподвижно вытянувшаяся меж двумя угловатыми глыбами породы. Глыб тут было множество, любых размеров, рыбешки вились вокруг, как комарье.
— Мы на грунте, — сказал Мазур, машинально поправив на груди разъем телефонного провода. — Спускайте буи, только осторожнее там, чтобы по темечку не шибануло…
Они ждали несколько минут — и наконец вверху показалось смутно различимое пятно, неспешно опустилось, превратившись в большой решетчатый поддон, на котором покоились свернутые бухточками буйрепы [8].
Еще наверху решили не извращаться и не соблюдать инструкции буква в букву — буйков установили всего четыре, по два на каждую половинку. По команде Мазура поддон ушел вверх, и они вновь остались одни. Переглянулись, медленно поплыли вдоль высокого темного борта.
Мазур прекрасно представлял, как должен выглядеть протокол обследования, и потому мысленно уже сочинял насыщенную казенными оборотами и техническими терминами бумагу. Крен и дифферент судна (для данного случая следует употреблять оборот «части корпуса»), границы площади касания, наличие якорей в клюзах, положение и состояние руля, состояние винтов, наличие и характер повреждений корпуса, наличие и состояние грунта в трюмах, состояние надстроек, рубок, люков…
С последним пунктом было предельно просто — кормовая часть перевернулась вверх дном, и все до единой надстройки попросту сокрушило многотонной массой железа, смяв в лепешку о скальное дно. «Вообще, работать в холодных водах одно удовольствие, — подумал Мазур мимолетно, — ни ила, ни водорослей, ни акул. С незабвенным фрегатом в теплых морях было не в пример труднее…»
Они проплыли мимо борта, остановились перед черным провалом, словно две мухи у распахнутого холодильника. В мощном луче подводного фонаря дико и нелепо лохматилось толстое железо, выгнутое мощным ударом, черными дырками зияли какие-то оборванные трубы. Мазур достал нож и осторожно постучал рукоятью по торцу ближайшей. Взвилось тяжелое облачко, крошки ржавчины опали, исчезли во мгле. Мазур подумал, что так и не уточнил, сколько человек погибло с «Комсомольцем». Впрочем, сейчас это неважно. Да и скелетов не найти — морская вода за десятилетия растворила кости без следа. А вот аквалангист…
После короткого обмена жестами Мазур прицепил к поясу напарника страховочный конец, и Вася, подсвечивая себе фонарем, ушел в глубину трюма. Белый луч фонаря постепенно тускнел, удаляясь.
Мазур остался ждать, обеспечив себе максимальный комфорт, какой только можно устроить в такой ситуации — лег на стальной настил трюма, оперся локтем, сжимая пальцами канат не сильно и не слабо, так, чтобы почувствовать малейший рывок. Струйки воздушных пузырьков понемногу образовали под нижней кромкой палубного бимса приличных размеров плоский пузырь, туманно пульсирующий на пределе видимости. Именно с помощью подобных пузырей лихие водолазы прежних времен ухитрялись насосаться спиртного под водой. Технология для понимающего человека проста: водолаз, зайдя в небольшое помещение затонувшего корабля, где только что отыскал бутылочку, начинает стравливать воздух из шлема, пока под потолком не образуется пространство, где можно дышать. Выныриваешь туда, отвинчиваешь шлем и хлебаешь из горлышка, сколько душе угодно. Нырнул трезвым — вынырнул пьянехонек, этот трюк еще в царские времена освоили…
Переменил позу — лежать так на твердой пайоле [9] было все же неудобно. Присел на корточки. Как ни присматривался, не смог разглядеть в глубинах трюма свет фонаря. На всякий случай дважды дернул трос, и тут же получил в ответ тройное подергивание, означавшее, что у напарника все в порядке.
Мгла сгустилась неподалеку от глыбы, к которой глаза уже привыкли? Нет, показалось…
Он поневоле вспомнил капитан-лейтенанта Сарвина. Не было ничего удивительного в том, что у того после всего испытанного малость поехала крыша, — но симптомчики были уникальные. Всякий раз, едва Сарвин оказывался под водой, ему начинало казаться, что из глубины вот-вот появятся длиннющие щупальца Великого Кракена, опутают, уволокут в бездну… И все это моментально проходило, едва глубина становилась меньше девяти метров — словно в мозгу включался безошибочный глубиномер. Лымарь вился вокруг него коршуном, почуяв отличный материал для своей засекреченной кандидатской, но так и не смог оснастить этот бзик медицинской терминологией…
Зеленоватая мгла и полное безмолвие. В трюм заглянул пучеглазый морской окунь, с таким видом, словно бывал здесь не единожды, но Мазур махнул ластом, и визитер мгновенно исчез за пределом видимости.
Вдалеке показалось белое пятнышко, и Мазур принялся не спеша сматывать трос. Пятнышко обернулось колышущимся лучом, подплыл напарник. Покачал головой. Достал нож и нацарапал на темном стальном листе хорошо различимые буквы:
ВООБЩЕ НИ ХРЕНА.
Мазур вынул свой нож, нацарапал: НОС.
…Они повторили ту же операцию в носовой части — на сей раз потратив вполовину меньше времени, потому что меньше был и объем трюма. Ничего. Пусто. Мазур связал за горлышки большие пластиковые бутылки с пробами воды, прицепил это ожерелье к поясу, подал сигнал.
Всплывали со всеми предосторожностями, как полагалось — не обгоняя пузырьки выдыхаемого воздуха, время от времени глядя на секундные стрелки часов.
Неуловимый миг, когда перед глазами словно распахивается неощутимый занавес, отделяющий воду от воздуха, — и Мазур вынырнул метрах в трех от шлюпки. Перевалился через борт, стащил баллоны, отвязал бутылки. Задрал голову.
Над бортом свесились встречающие. Света, как и полагалось дельной журналистке, нацелилась на него видеокамерой. Мазур стянул шлем, похлопал по плечу Васю, избавлявшегося от своих баллонов и груза, кивнул матросу. Тот в три гребка подогнал шлюпку к борту. Мазур полез вверх по штормтрапу, не испытывая никаких особенных чувств, поскольку совершенно не представлял, что нужно ему испытывать — разочарование или облегчение. Полагается вроде бы облегчение — нет там никаких контейнеров, никакой отравы… Но ведь все сложнее?
— Ну? — спросил Кацуба.
— Пустышка, — сказал Мазур. — Заброшенная консервная банка. Нет там никаких контейнеров, вообще ничего нет. А это полностью подтверждает первоначальную версию, согласно которой «Комсомолец» разгрузился в Тиксоне перед тем, как нагрянул «Шеер»…
— Ну и лады, — сказал Кацуба. — Чайку попей и будем отписываться.
— А труп вы не искали? — спросила Даша.
— Осматривали дно вокруг обеих половинок, — сказал Мазур. — Там ничего подобного нет.
— Вы хорошо искали?
— Послушайте… — сказал Мазур. — Там, внизу, видно не дальше, чем на пять метров. Искать пришлось бы практически вслепую, а территория поиска — огромная. Можно, конечно, разбить дно на квадраты, опустить туда фонари и с недельку обшаривать дно. Но и тогда не ручаюсь за результат. Хотя бы потому, что его могло вынести на поверхность, и труп уплыл неизвестно куда по воле волн… Искать в море одиночного покойника — предприятие безнадежное. С удовольствием бы помог, но вот помочь-то и нечем…
И вообще непонятно, почему этим делом занимаетесь вы, очаровательная, — добавил он мысленно. — Гибелью военнослужащего при подобных условиях должна заниматься военная прокуратура, ее дознаватели либо те же пограничники… На кой черт этот аквалангист уголовному-то розыску сдался?
Он принялся стаскивать комбинезон, слегка постукивая зубами — холод давал о себе знать. Старпом, вряд ли случайно оказавшийся рядом, когда все остальные отошли, тихонько сообщил:
— На локаторе имели место странные отметки.
— Какого плана? — не глядя на него, спросил Мазур.
— Полное впечатление, что на приличном отдалении сшивалось некое быстроходное суденышко. Точно определить не удалось, но чересчур уж проворное для сейнера. Минут десять назад ушло.
— Не люблю неопределенности… — проворчал Мазур.
Глава десятая
Провинциальные посиделки
Завтракали в ресторане — Кацуба настоял, заявив, что у них, если как следует подумать, маленький праздник. Во-первых, состоялось первое погружение, во-вторых, неведомый противник начал предпринимать активные мероприятия — а потому, согласно профессиональному цинизму, подобные события следует безусловно относить к праздникам. Дискутировать с ним не стали — частью из субординации, частью из того самого профессионального цинизма.
Кормили, в общем, лучше, чем можно было ожидать — явно сказывалось наличие некоторого числа иностранцев, перед коими на Руси принято пресмыкаться с тех пор, как на Руси завелась интеллигенция и втолковала народу сей нехитрый тезис, заразив собственным комплексом неполноценности.
Иностранцев, правда, оказалось не так уж много — зато Мазур сразу узрел ту американскую парочку, с которой произошло не так давно маленькое недоразумение. Оба старательно притворились, что знать не знают вошедших, и начали хлебать пивко не хуже исконно русских индивидуумов.
Неподалеку за столиком обнаружился и почтенный седовласый дедушка, побывавший понятым, когда Мазура столь шумно и старательно уличали в неприкрытой педофилии, сопряженной к тому же с насилием. Поначалу он сделал круглые глаза, а потом старательно избегал встречаться взглядом, недоумевая от всей души, почему столь растленный тип, украшенный выразительными царапинами, обретается на свободе.
— Этот, что ли, мухомор? — спросил Кацуба.
— Ага, — кивнул Мазур.
— Ишь, скукожился… Да, знаешь, я тут перекинулся парой слов с очаровательной Фаиной. Выразил искреннее недоумение столь циничной провокацией против мирных ученых. Так вот, Фая тебе выражает искреннее сочувствие, грозила самолично разобраться со стервой Лизкой. Очень она за тебя переживает, Фаина-то, глянулся ей подводный богатырь… Трахнул бы ты ее, что ли? В часы, отведенные на личное время…
— Опять приказ? — сухо спросил Мазур.
— Да нет, на сей раз исключительно мужской циничный совет. Уберечь тебя хочу от спермотоксикоза.
— Иди ты, — без особой злобы отмахнулся Мазур.
— Ладно… Но ты с Фаей все же почирикай, она деталями интересуется, очень ей хочется Лизку уесть, там какие-то мне пока неизвестные, но безусловно имеющие место контры…
— Опаньки, — сказала Света, беззаботная и свеженькая поутру, словно и не болталась с варягом неизвестно где всю ноченьку напролет. — Вон знаменитость сидит. Я к роли старательно и долго готовилась, всю шантарскую желтую прессу назубок выучила…
— Где?
— А во-он… Который мордастенький. С косоглазой.
Они с сомнением обозрели маленького пожилого мужичка с обширной лысиной и грустной поросячьей мордочкой состарившегося сатира. На знаменитость он походил не более, чем Мазур на плясунью из парижского кабаре «Крейзи хорс».
— Этот-то?
— Газеты читать надо, сиволапые… — фыркнула Света.
И в ожидании горячего поведала всю историю. Лысый оказался гнуснопрославленным шантарским поэтом Никифором Яремко, искавшим здесь убежища от житейских бурь.
В безвозвратно ушедшие времена советской власти Никиша Яремко служил заведующим отделением в шантарской психушке — и страстно лелеял мечту стать поэтом, но по причине клинической бездарности получалось плохо. Точнее говоря, не получалось никак. Даже партийная пресса отказывалась брать его уродливо зарифмованные опусы о победной поступи развитого социализма и единодушном отпоре заокеанским проискам — а это о многом говорит…
К счастью для Яремко, в Шантарске жило много настоящих поэтов. К несчастью для поэтов, они, маясь угнетенными коммунизмом душами, лакали водочку в ужасающем количестве, после чего, уставши гонять маленьких зелененьких цензоров, приземлялись в психушке, где их ласково убеждали, что цензоры, честное слово, привиделись, как и черти.
Вот тут Никиша Яремко развернулся во всю ширь. Точные детали его соглашений с белогорячечными поэтами покрыты мраком неизвестности, но суть широкой публике стала известна с началом перестройки. Жук Никишка попросту мягонько вымогал у вверенных его попечению витий по паре-тройке стишков, которые потом и публиковал под своим именем. В обмен поэты получали смягчение режима, освобождение от особенно болючих процедур, а также выписку раньше срока. Оказавшись на свободе, они старательно помалкивали, прекрасно понимая, что им предстоит еще не одна ходка в психушку, а потому лучше поддерживать с Яремкой добрые отношения — хрен с ним, пусть подавится… В конце концов, рифмованную дань они отбирали по известному принципу: на тебе, боже, что нам негоже, резонно полагая, что для Никишки сгодится и осетрина второй свежести.
Литературные критики, малость поудивлявшись, отдались привычной схеме и написали стандартно — мол, начинающий поэт учел советы и пожелания, после чего улучшил свое мастерство… Кое-кто пронюхал правду, но не хотел связываться — Никиша Яремко, трудолюбиво разнося по редакциям и издательствам хапаное, как-то незаметно заматерел, попал в струю, издал парочку сборников под романтическими названиями и проскочил в Союз писателей (половина коего тоже ходила в Яремкиных клиентах, а потому, стиснув зубы, проголосовала «за»), а кроме того, проторил ходы и в столицу — обворованные поэты-алкоголики как-никак были талантливыми, даже их третьесортные стишки, пожертвованные забросившему медицину рэкетиру, могли создать тому, кто их публиковал под своим именем, добрую репутацию.
Яремко пополнел, заматерел, пролез даже в руководители городского объединения молодых поэтесс «Чудное мгновенье». И там-то развернулся по-крупному — как широко стало известно в узких кругах, опубликовать свои вирши сможет любая, даже самая бездарная стихослагательница, если только она достаточно смазлива и готова обсудить свое творчество с Никишей, пребывая в горизонтальном положении. Иногда, поскольку женский язык без костей, подробности проникали к кавалерам смазливых поэтессочек, и пару раз Яремко был серьезно бит, но как-то научился уворачиваться от этаких неприятностей. Понемногу он и сам начал рифмовать чуточку получше, чем прежде, так что и его собственные стишата проскакивали в печать. Правда, контраст меж ними и уворованными у запойных талантов был столь разительным, что критики частенько отделывались дежурной фразой — мол, творчество Яремко весьма неровно. Впрочем, иные лишний раз видели в этом признак гениальности.
Погубила Никифора перестройка, к которой он поначалу попытался добросовестно примазаться, наляпав кучу басен, где в облике благородного льва представал Ельцин, а в виде всевозможного гнусного зверья — его политические противники. Басни даже увидели свет на страницах газеты «Глас демократии», возглавляемой еще одной пациенткой Яремко, Машей Душкиной.
Но вскоре грянули черные времена. Психиатрия как-то враз растеряла карательный престиж и была отдана на поношение горластой толпе демократических интеллигентов вместе с дюжиной других государственных институций, признанных тяжким наследием советской империи, от которого следует срочно избавиться.
Вот тут злопамятные поэты развернулись во всю свою русскую широкую душеньку, наперебой перетряхивая грязное бельишко на страницах газет и с экрана. Поэтесса Травиата Федяшкина (ради справедливости стоит добавить — единственная среди пациентов Никиши настоящая шизофреничка, смертельно обиженная к тому же тем, что Никиша отказался с ней переспать, ибо страшна была, как смертный грех) пошла дальше — публично обозвала Яремку майором КГБ, лично пытавшим ее в психиатрических застенках за неприятие советской власти (что было брехней, поскольку до того, как окончательно подвинуться умишком, Травиата тиснула полдюжины поэм о боевых и трудовых свершениях комсомола, за что получила от ЦК ВЛКСМ какую-то медальку).
Яремко пытался оправдываться. Не получилось. Во-первых, в те угарные времена никому ничего невозможно было доказать, а во-вторых, Никифора тут же поразил в самое сердце пьющий талантище Пятериков, заявивший в печати, что в свое время коварно подсунул вору Яремке целых три акростиха, что, ежели прочесть такие-то и такие-то стихотворения, опубликованные экс-психиатром под своим именем, первые буквы строчек составят незатейливые изречения:
«Ярема — вор»
«Ярема — козел»