Святая Жанна Шоу Бернард
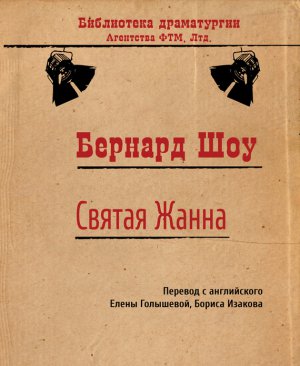
Инквизитор кивает головой. Стоя, они торжественно один за другим произносят слова отлучения.
Кошон. Объявляем тебя закоренелой еретичкой.
Инквизитор. Отверженной от единой церкви.
Кошон. Отсеченной от ее тела.
Инквизитор. Зараженной проказой ереси.
Кошон. Орудием дьявола.
Инквизитор. Объявляем тебя отлученной.
Кошон. Ныне мы изгоняем тебя, предаем светской власти.
Инквизитор. И призываем светскую власть проявить умеренность и обойтись без отсечения членов. (Садится.)
Кошон. Но если ты подашь знак истинного раскаяния, мы разрешим брату Мартину дать тебе святое причастие.
Капеллан. На костер ведьму! (Бросается к ней и помогает солдатам вывести ее из зала.)
Жанну уводят во двор. Заседатели поднимаются в беспорядке и следуют за солдатами – все, кроме Ладвеню, который сидит, закрыв лицо руками.
Кошон (собиравшийся сесть, снова приподнимается). Нет, это не по правилам. Светские власти должны прийти сюда и принять ее от вас здесь.
Инквизитор (тоже встал). Этот человек неисправимый дурень.
Кошон. Брат Мартин, проследите, чтобы все было сделано по правилам.
Ладвеню. Мое место возле нее. (Поспешно уходит.)
Кошон. Англичане просто невозможны: они сейчас бросят ее в огонь без всяких околичностей. Смотрите! (Он указывает на двор, где теперь можно разглядеть мерцающее зарево, которое румянит майский день. В зале остались только Кошон и Инквизитор.) Надо их остановить.
Инквизитор (спокойно). Да, но не будем торопиться.
Кошон (не двигаясь с места). Нельзя терять ни минуты.
Инквизитор. Мы действовали по правилам. Если англичанам хочется их попирать, не наша вина. Как знать – маленькое нарушение процедуры может нам очень пригодиться в будущем. А сейчас – чем скорее все кончится, тем лучше для нас всех. И для этой несчастной тоже.
Кошон (с облегчением). Вы правы. Увы! – придется взглянуть на это тягостное зрелище.
Инквизитор. Ко всему привыкаешь. Привычка – великое дело. Я привык к кострам: они быстро догорают. Однако горестно видеть невинное существо, раздавленное двумя жерновами: церковью и государством.
Кошон. Невинное?!
Инквизитор. Конечно, она совершенно невинна. Она ни слова не поняла из всего, о чем мы здесь говорили. Страдают всегда невинные. Пойдем, не то мы опоздаем к концу.
Кошон (идет вместе с ним к выходу). Не огорчусь. Я не так привычен к этим зрелищам, как вы.
Навстречу им входит Уорик.
Уорик. Я помешал? Мне казалось, что все уже кончено. (Делает движение к двери.)
Кошон. Не уходите, милорд. Все и в самом деле кончено.
Инквизитор. Казнью распоряжаемся не мы, но желательно, чтобы мы присутствовали при кончине. Так что, с вашего позволения… (Кланяется и уходит через двор.)
Кошон. У нас есть сомнения, граф Уорик, соблюдены ли англичанами все формальности казни.
Уорик. А у нас были сомнения, епископ из Бовэ, имеете ли вы право судить. Ведь этот город не в вашей епархии. Но если вы готовы нести за это ответственность, я согласен ответить за все остальное.
Кошон. Мы оба ответим перед Богом. До свиданья.
Уорик. До свиданья.
С минуту они смотрят друг на друга с нескрываемой враждой. Потом Кошон уходит вслед за Инквизитором. Уорик оглядывается и, заметив, что он один, зовет слуг.
Уорик. Эй, слуги! (Тишина.) Эй, вы там! (Тишина.) Эй! Брайан, маленький мошенник, где ты? (Тишина.) Стража! (Тишина.) Все пошли любоваться, как она горит, даже мальчишка.
Тишина нарушается чьим-то плачем и воплями.
Уорик. Какого черта?..
Со двора, весь в слезах, шатаясь, словно умалишенный, появляется Капеллан; это он издает жалобные звуки, поразившие Уорика.
Капеллан спотыкается о табурет, на котором сидела, подсудимая, и падает на него с душераздирающим рыданием.
Уорик (подойдя к нему и похлопывая его по плечу). Что случилось, мессир Джон? В чем дело?
Капеллан (хватая его за руки). Христа ради, помолитесь за мою грешную душу.
Уорик (успокоительно). Ладно, ладно, помолюсь. Успокойтесь. Тише…
Капеллан (рыдая). Я ведь не злой человек.
Уорик. Никто этого и не говорит.
Капеллан. Я не знал, что это такое.
Уорик (холоднее). Вот оно что! Значит, вы были там?
Капеллан. Я не понимал, что делаю. Распалился как дурак. И теперь буду проклят на веки вечные.
Уорик. Чепуха. Конечно, это угнетает, но ведь не вы ее приговорили.
Капеллан (жалобно). Я это допустил. Если бы я знал, я вырвал бы ее у них из рук. Вы ничего не знаете, вы не видели. Легко болтать, когда сам не видишь, легко взвинчивать себя словами – так приятно подливать масла в огонь. А когда ты наконец увидел своими глазами, когда это зрелище обожгло твою душу, перехватило дыхание, разорвало сердце, тогда… тогда… (Падает на колени.) Господи, дай мне забыть! Помнишь, как она взывала к тебе из пламени?
Уорик (решительно поднимая его на ноги). Послушай, ты! Возьми себя в руки. Не то об этом будет болтать весь город. (Грубо швыряет его на стул.) Если у тебя не хватает духу глядеть на такие вещи, почему ты не поступаешь, как я, и не держишься в тени?
Капеллан (потрясенный и покорный). Она попросила дать ей крест. Какой-то солдат протянул ей связанные крест-накрест палочки. Слава Богу, он хоть был англичанин. И я бы мог это сделать, но я трус, дурак, остервенелый пес… Но он… он был англичанин…
Уорик. Глупец! И его сожгут, если попы его схватят.
Капеллан (его сотрясают рыдания). Над ней смеялись. Их было немного. Но это были французы. Я знаю, это были французы.
Уорик. Молчи! Сюда идут. Возьми себя в руки.
Ладвеню возвращается со двора; он несет золотой крест, взятый им из церкви. Лицо его словно застыло.
Уорик. Говорят, все кончено, брат Мартин?
Ладвеню (загадочно). Нам не дано знать. Может быть, это только начало.
Уорик. Что вы хотите сказать?
Ладвеню. Я взял крест из церкви, чтобы она смотрела на него до самого конца; у нее ведь были только палочки, которые она положила себе на грудь. Когда огонь подобрался к ней совсем близко, она увидела, что и я могу сгореть; тогда она сказала мне, чтобы я поберег себя и сошел с костра. Думать в последнюю минуту об опасности, грозящей другому… Когда мне пришлось отойти с крестом, она подняла глаза к небу. И не верю, что там было пусто. Я твердо верю, что Спаситель явился ей во всей своей милосердной славе. Она воззвала к Нему и умерла. Нет, она не может быть во власти дьявола! Вы увидите: это не конец, а начало. (Уходит вслед за рыдающим капелланом.)
Уорик. Боюсь, на людей это скверно подействовало.
Ладвеню. Да, на некоторых. Я слышал смех. Простите меня за такие слова, но подозреваю, что смеялись англичане.
Капеллан (вскочив). Нет! Здесь лишь один англичанин опозорил свою страну – бешеный пес де Стогамбер. (С криком бросается к выходу.) Пусть его пытают! Пусть его сожгут! Пойду молиться над ее прахом. Я Иуда! Удавлюсь!
Уорик. Брат Мартин, скорее за ним. Он что-нибудь с собой сотворит, Скорее.
Ладвеню, подгоняемый Уориком, устремляется вон.
В дверь позади судейских кресел входит палач. Повернувшись, Уорик сталкивается с ним лицом к лицу.
Уорик. Кто ты такой?
Палач (с достоинством). Вы меня, милорд, не тыкайте. Я – главный палач Руана, а быть палачом – большое искусство. Я пришел доложить, что ваши приказания выполнены.
Уорик. Простите, господин палач. Постараюсь, чтобы вы не остались в накладе, лишившись, так сказать, сувениров. Вы ведь дали слово, что от нее ничего не останется: ни волоска, ни ноготка, ни косточки?
Палач. Да, но сердце ее не хотело гореть в огне. Все, что от нее осталось, брошено в реку. Вы больше о ней не услышите.
Уорик (вспомнив слова Ладвеню, с кривой усмешкой). Ничего о ней не услышу? Гм… Кто знает!
Эпилог
Тревожная ветреная ночь в июне 1456 года. После долгой жары в небе полыхают зарницы. В одном из своих замков в постели лежит король Франции Карл VII, – прежде – дофин, а ныне – Карл Победоносный, 51 года от роду. Кровать, к которой ведут две ступеньки, стоит на возвышении и не заслоняет высокого стрельчатого окна посредине комнаты. На балдахине вышит королевский герб. Если бы не балдахин и не огромные пуховые подушки, кровать ничем бы не отличалась от застеленной на ночь широкой тахты с валиком у изголовья. Таким образом, лежащий в постели отлично виден с ее подножья.
Карл не спит, он читает, а вернее, разглядывает картинки в Боккаччио, переведенном Фуке, подтянув колени повыше и положив на них книгу. Возле кровати слева – столик с изображением Мадонны, освещенным свечами из цветного воска. Стены от потолка до пола завешены разрисованными панно, которые время от времени колышутся от сквозняка. Красные и желтые тона этих панно кажутся отсветами пожара, когда складки оживают под порывами ветра.
Дверь в спальню находится слева от Карла, в самом дальнем от него углу. Под рукой у короля красиво сделанная и ярко раскрашенная колотушка.
Карл переворачивает страницу. Дальние куранты негромко отбивают полчаса. Карл захлопывает книгу, отбрасывает ее, хватает колотушку и с силой ее вертит, поднимая оглушительный треск. Входит постаревший на 25 лет Ладвеню; вид у него странный и словно застывший; в руках по-прежнему все тот же золотой крест.
Карл явно его не ждал: он выскакивает с той стороны кровати, что подальше от двери.
Карл. Кто вы? Где мой постельничий? Что вам надо?
Ладвеню (торжественно). Я принес тебе счастливую весть. Возрадуйся, король, ибо корона твоя теперь не запятнана. Справедливость наконец восторжествовала.
Карл. О чем вы говорите? Кто вы?
Ладвеню. Я – брат Мартин.
Карл. А кто такой, да простит мне ваше преподобие, этот брат Мартин?
Ладвеню. Я держал этот крест, когда Дева гибла в огне. С тех пор прошло двадцать пять лет – почти десять тысяч дней. И каждый из этих десяти тысяч дней я молил Бога воздать должное дочери Своей на земле, как Он воздал ей на небе.
Карл (успокоившись, садится на край постели). А-а, теперь припоминаю. Я о вас слышал. У вас, говорят, пунктик насчет Девы. Вы были на следствии?
Ладвеню. Я дал свидетельские показания.
Карл. Все кончено?
Ладвеню. Кончено.
Карл. Благополучно?
Ладвеню. Пути Господни неисповедимы.
Карл. Поясните.
Ладвеню. На том суде, где святую отправили на костер, как еретичку и колдунью, говорили правду, закон соблюли, милосердие проявили небывалое, и не было допущено никаких несправедливостей – кроме одной, последней и страшной. Лживого приговора и безжалостного пламени. На том слушании, с которого я сейчас пришел, были бесстыдные лжесвидетельства, бесчестные судьи, клевета на умерших, которые выполняли свой долг, как им велела совесть, трусливые увертки, показания, основанные на пустопорожних сплетнях, которым не поверил бы и подпасок. И вот из этого судебного фарса, позорящего церковь, из этой оргии лжи и глупости, как солнце изза горы, выплыла истина: белые ризы невинности очищены от копоти костра, безгрешная объявлена святой, сердце, уцелевшее в пламени, названо святыней, великая ложь похоронена, несправедливость исправлена перед всеми людьми.
Карл. Друг мой, важно одно: теперь они больше не смогут твердить, что меня короновала ведьма и еретичка. Все хорошо кончилось, чего же еще? Ее полностью реабилитировали? Я им ясно сказал: чтобы без дураков.
Ладвеню. Было торжественно объявлено, что судили ее злобные и продажные судьи нечестиво и пристрастно. Но ведь это неправда!
Карл. Какая разница? Ведь судьи мертвы.
Ладвеню. Приговор, вынесенный ей, отменен, аннулирован и опровергнут, признан никогда не существовавшим, не имевшим ни цели, ни смысла.
Карл. Отлично. Никто теперь не сможет опорочить мое помазание. Подумай только, что это для меня значит.
Ладвеню. Я думаю о том, что это значило бы для нее.
Карл. Вот и зря. Никто не знал, что для нее имеет значение. Она ведь была так не похожа на других. Но вот что я тебе скажу. Если бы ты мог вернуть ее к жизни, не прошло бы и полугода, как ее сожгли бы снова, хоть ее сейчас и обожают. И ты бы снова протягивал ей крест… Поэтому… (Крестится.) Упокой Господи ее душу! А мы с тобой давай-ка лучше займемся своими делами.
Ладвеню. Отныне путь мой будет лежать вдали от дворцов, и я не стану больше беседовать с королями. (Поворачивается и решительно выходит из комнаты так же, как он в нее вошел.)
Карл (провожая его до дверей, кричит ему вслед). Тем хуже для тебя, святоша! (Возвращается на середину комнаты и говорит с иронией.) Забавный тип! Как он сюда попал? Где мои слуги? (В нетерпении подходит к постели и вертит трещотку. Порыв ветра, ворвавшийся в окно, беспокойно шевелит занавеси. Свечи гаснут. Он кричит в темноту.) Эй, вы! Ступайте сюда и затворите окна. (Вспышка зарницы освещает стрельчатое окно. В нем виден чей-то силуэт.) Кто здесь? Кто это? На помощь! (Гром. Карл вскакивает в постель и прячется под одеялом.)
Голос Жанны. Спокойно, Карлуша, не бойся! Чего это ты расшумелся? Все равно тебя не услышат. Ты ведь спишь. (Она неясно видна в зеленоватом сиянии возле кровати.)
Карл (выглядывая из-под одеяла). Жанна! Ты – привидение, а, Жанна?
Жанна. Едва ли даже и привидение, Карлуша. Разве бедная сожженная девушка может кому-нибудь привидеться? Я только сон, который тебе снится. (Свет становится ярче, теперь они оба явственно видны. Карл садится.) Э, да ты постарел, милый.
Карл. Я стал старше. Я и в самом деле сплю?
Жанна. Ты заснул над этой глупой книжкой.
Карл. Вот смешно!
Жанна. А то, что я умерла, разве не смешно?
Карл. А ты и правда умерла?
Жанна. Мертвее не бывают, парень.
Карл. Подумайте! А тебе было больно?
Жанна. Что именно?
Карл. Когда тебя жгли.
Жанна. Ах, это! Хорошенько не помню. Сначала, кажется, было больно, а потом все спуталось, я была уже не в себе… Но ты-то не вздумай играть с огнем, не воображай, будто не обожжешься! Как ты тут жил?
Карл. Да не так уж плохо. Можешь себе представить – ведь я теперь хожу в походы, выигрываю сраженья… Лезу в ров, по пояс в грязи и крови, а потом по крепостной лестнице, под градом камней и потоками горячей смолы. Совсем как ты.
Жанна. Не может быть! Неужто я и вправду сделала из тебя мужчину?
Карл. Теперь я – Карл Победоносный. Пришлось стать храбрым. Изза тебя. Да и Агнесса тоже вселила в меня немножко мужества.
Жанна. Агнесса? Какая такая Агнесса?
Карл. Агнесса Сорель. Женщина, в которую я влюбился. Она мне снится часто. А вот ты мне раньше ни разу не снилась.
Жанна. И она умерла, как я?
Карл. Да. Но она была не такая, как ты. Она была красивая.
Жанна (смеясь от всего сердца). Ха-ха! Да, меня никто не мог назвать красоткой. Я была грубая, ничего не попишешь: такое уж наше солдатское дело. Лучше мне было бы сразу родиться мужчиной. Вам бы со мной было меньше хлопот. Но я парила в облаках, и будь я даже мужчиной, все равно не дала б вам покоя, покуда вы копошились в пыли. Ты мне расскажи, что тут у вас случилось после того, как вы, умники, не придумав ничего лучшего, превратили меня в кучку пепла?
Карл. Судебная палата объявила, будто твои судьи были злобны, продажны, нечестивы, пристрастны.
Жанна. Они-то? Ничего подобного. Такие же честные, но жалкие идиоты, как и все, кто сжигает людей только за то, что они лучше их самих.
Карл. Приговор твой отменен, уничтожен, аннулирован и опровергнут, признан никогда не существовавшим, не имевшим ни цели, ни смысла.
Жанна. Да, но меня-то сожгли! Разве они могут меня оживить?
Карл. Вряд ли они поторопились бы тебя оживлять. Но они постановили воздвигнуть на том месте, где был твой костер, красивый крест, в знак вечной памяти и спасения твоей души.
Жанна. Память и душа делают крест святым, а не крест освящает память и душу. (Отворачивается, словно забыв о его присутствии.) Я переживу этот крест – меня будут помнить и тогда, когда люди забудут, где стоял город Руан.
Карл. Опять ты со своим самомнением! Ничуть не переменилась. Могла бы сказать мне спасибо за то, что я восстановил наконец справедливость.
Кошон (появляясь в окне). Лжец!
Карл. Вот благодарю вас!
Жанна. Уж не Пьер ли это Кошон? Как ты поживаешь? Здорово тебе везло с тех пор, как ты меня сжег?
Кошон. Нет справедливости на земле.
Жанна. Все еще мечтаешь о справедливости? Погляди, что твоя справедливость сделала со мной. Но ты-то жив или помер?
Кошон. Умер. Обесчещен. Меня преследовали и в могиле. Посмертно отлучили от церкви, выкопали мой труп и бросили в яму.
Жанна. Твой труп не страдал от лопаты так, как страдало мое живое тело от огня.
Кошон. Но то, что они сделали со мной, наносит удар авторитету правосудия разрушает веру, подрывает устои церкви. Когда невинных убивают именем закона и причиненное им зло пытаются исправить клеветой на прямодушных, тогда земная твердь под ногами у людей и духов превращается в трясину…
Жанна. Ладно, Пьер, надеюсь, что люди станут лучше, вспоминая обо мне. А они, может, и не запомнили бы меня, если бы ты меня не сжег.
Кошон. Но они будут помнить не только о тбе, но и обо мне. Во мне они будут видеть, как зло торжествует над добром, ложь над правдой, жестокость над милосердием. Мужество будет пробуждаться при мысли о тебе и никнуть при мысли обо мне. Но, видит Бог, я делал то, что считал нужным, и не мог поступить иначе.
Карл (вылезая из-под одеяла и горделиво усаживаясь на краю кровати). Ну да, это вы, высоконравственные люди, всегда причиняете больше всего неприятностей. Возьмите меня. Я не Карл Добрый, не Карл Мудрый и не Карл Храбрый. Почитатели Жанны могут назвать меня даже Карлом Трусливым за то, что я не вытащил ее из огня. Но я причинил вреда куда меньше вас. Вы выдумываете, как бы вам весь мир поставить дыбом, а я принимаю его таким, как есть, и крепко стою на земле обеими ногами. Скажите, был ли когда-нибудь во Франции лучший король? В своем, конечно, роде.
Жанна. Ты, Карлуша, и в самом деле король? Разве англичане ушли?
Дюнуа (выходя изза панно слева от Жанны. В этот миг свечи загораются снова и бросают веселые блики на латы и камзол Дюнуа.) Я сдержал свое слово. Англичане ушли.
Жанна. Благодарение Богу! Теперь моя прекрасная Франция стала райской землей. Расскажи мне, как ты сражался, Жак. Ты вел в бой войска? До последнего вздоха?
Дюнуа. Я не умер. Тело мое почивает мирным сном в моей постели, но дух мой с тобой.
Жанна. Но ты дрался по-моему, Жак? Рискуя жизнью и смертью, с сердцем, полным душевного подъема, хоть и смиренным, и лишенным всякой злобы, с одною мыслью о Франции свободной и французах счастливых… Ты воевал по-моему, Жак?
Дюнуа. Я воевал как мог, чтобы победить. Но победа приходила, когда я воевал по-твоему, Жанна. Ты была права, девочка. Может, я не должен был позволять попам тебя сжечь, но я был так занят войной и не хотел лезть в церковные свары. Да и кому было бы легче, если бы нас сожгли обоих?
Кошон. Ну да, вините во всем священников. Меня уже не тронут ваши похвалы и порицания, и потому говорю вам, что мир спасут не священники и не солдаты, а Господь и Его святые. Воинствующая церковь послала эту женщину на костер, но пламя ее костра обратилось в сияние церкви торжествующей.
Часы бьют три четверти. Грубый мужской голос поет солдатскую песню.
- Трам пам пам пополам
- Солонину я вам дам.
- Не тяни кота за хвост,
- Поспешай за ней на мост.
Отодвинув занавес, входит довольно разбойничьего вида английский солдат.
Дюнуа. Какой бездарный трубадур научил тебя этой дурацкой песне?
Солдат. И вовсе не трубадур. Мы сами сочинили ее на ходу. Мы не благородные господа и не трубадуры. Наша песня, можно сказать, народная, она от сердца. Смысла чуть, а шагать помогает. Слуга покорный, господа и дамы. Кто тут поминал святого?
Жанна. А ты разве святой?
Солдат. Да, госпожа, прямехонько из ада.
Дюнуа. Святой в аду?
Солдат. Да, ваше превосходительство. Меня отпускают на день в отпуск. Каждый год. Награда за доброе дело, которое я совершил.
Кошон. Негодяй! Неужели за всю свою жизнь ты совершил только одно-единственное доброе дело?
Солдат. Право, не знаю, не считал. Но это дело мне зачли.
Карл. Какое же именно?
Солдат. Да ерунда, сущая ерунда, вы даже не поверите…
Жанна (прерывает его, подходя к кровати, на которую она усаживается рядом с Карлом). Он связал две палочки и дал их одной бедной девушке, которую собирались сжечь.
Солдат. Верно. Кто тебе это сказал?
Жанна. Неважно. А ты бы ее узнал, если бы встретил снова?
Солдат. Вот уж нет. На свете столько девчонок! И все они хотят, чтобы их помнили. Но эта была, наверно, очень славная девушка, не зря ведь меня пускают за нее каждый год в отпуск. И вот ровно до двенадцати часов ночи я – святой, к вашим услугам, благородные дамы и господа.
Карл. А после двенадцати?
Солдат. После двенадцати мне надо назад, туда, где держат таких, как я.
Жанна (поднимаясь). Назад! Тебе, тому, кто дал девушке крест?
Солдат (извиняясь за слабость, недостойную солдата). Она меня попросила. А они собирались ее сжечь. Что ж, разве у нее было меньше прав на крест, чем у них? Ведь похороны-то были ее, а не их. Что ж я сделал плохого?
Жанна. Я тебя не упрекаю. Мне просто невтерпеж думать о том, как тебя мучают.
Солдат (весело). Да разве это муки, барышня? Нам бывало и хуже.
Карл. Как? Хуже, чем в аду?
Солдат. Пятнадцать лет войны с французами. Это вам похуже, чем ад. (Жанна, воздев руки у изображения Божьей Матери, прячется от зрелища человеческого горя.) Теперь мне ничего, подходяще. А раньше отпускной день тянулся как дождливое воскресенье. Потом вроде как привык.
Карл. А как там у вас в аду?
Солдат. Да ничего, вам даже понравится. Весело. Словно ты всегда пьян, а пить не надо и деньги целы. И компания высший сорт – разные там императоры, папы, короли… Дразнят меня – зачем я дал этой молоденькой бабочке крест, да мне что? Я за словом в карман не полезу: ежели бы она, – говорю я им, – не имела больше прав на этот самый крест, чем вы, быть бы ей с вами в аду! Что на это скажешь? Они только глазами хлопают да зубами скрипят от злости – мода у нас в аду такая… Эй, кто там у вас стучится?
Все прислушиваются. Слышен негромкий, но настойчивый стук.
Карл. Войдите.
Дверь отворяется, и входит старенький священник, седой, сгорбленный, с глуповатой, беззлобной улыбкой. Шаркая, он мелкими шажками подходит к Жанне.
Пришелец. Простите меня, добрые господа и дамы. Не обращайте на меня внимания, прошу вас. Я всего-навсего бедный английский приходской священник. Прежде, правда, я был капелланом. У самого кардинала, лорда Винчестера. Разрешите представиться: Джон Стогамбер, к вашим услугам. (Оглядывает их всех вопросительно.) Вы что-то сказали? К несчастью, я туговат на ухо. И временами – как бы это выразиться? – немного не в своем уме. Но ведь деревня у нас маленькая, живет в ней немного народа, и всё люди простые.
Жанна. Бедный старый Джон! До чего ты дошел.
Капеллан. Я своим говорю: будьте осторожней. Говорю: когда увидите глазами то, о чем думаете, думать станете по-другому. Вас это потрясет. Сильно потрясет. А они отвечают: «Да, батюшка, мы знаем, что ты добрый человек, мухи не обидишь». Меня это очень утешает, ведь я по натуре совсем не жесток.
Солдат. А кто сказал, что ты жестокий?
Капеллан. Видите ли, когда-то я совершил очень жестокий поступок, ведь я не знал тогда, что такое жестокость. Не видел ее воочию, понимаете? Все дело в том, чтобы увидеть жестокость своими глазами.
Кошон. Разве страданий Господа нашего Иисуса Христа для вас было мало?
Капеллан. Что вы, что вы! Конечно, мало. Я их видел на картинке, читал о них в книжках, разве этого достаточно! Меня спас не Христос, а одна молодая женщина, которую на моих глазах сожгли дотла. Ах, как это было ужасно, просто ужасно. Но меня это спасло. С тех пор я стал другим человеком, хотя немножко и не в себе.
Кошон. Неужели же Христос должен в муках погибать каждые сто лет, чтобы спасать души тех, у кого нет воображения?
Жанна. Что ж, если я спасла не только его, но и всех тех, к кому он был бы жесток, если бы не был жесток ко мне, значит, меня сожгли не напрасно.
Капеллан. Причем тут вы? Глаза мои осабели, я не могу различить ваши черты, но вы совсем не та – ведь ее превратили в пепел. Она почила вечным сном, умерла, уснула, умерла…
Палач (выходя изза балдахина кровати). Она куда живее тебя, старик. Сердце ее не хотело гореть, и оно не хотело тонуть. Я был мастером своего дела, но я не мог убить Деву. Она и сейчас ходит по свету живее всех живых.
Уорик (выходя изза занавеса с другой стороны кровати и подходя к Жанне). Мадам, разрешите поздравить вас с реабилитацией. Боюсь, что должен перед вами извиниться.
Жанна. Какая чепуха! Не стоит извинений.
Граф Уорик (любезно). Костер был мерой чисто политической. К вам лично, поверьте, у нас не было никаких претензий.
Жанна. Я не питаю к вам злобы, милорд.
Уорик. Вот и отлично! Очень любезно с вашей стороны, сразу видно хорошее воспитание. Но я все же настаиваю на своем; я должен глубоко перед вами извиниться. Надо сказать, правду – политические мероприятия часто становятся политическими ошибками; в данном случае это был просто скандал! Ваш дух победил нас, мадам, несмотря на весь наш хворост. Изза вас и я попаду в историю, хотя обстоятельства, которые нас с вами связывают, нельзя назвать слишком для меня лестными.
Жанна. Да уж прямо сказать, не очень, смешной ты человек.
Уорик. А все же, когда вас произведут в святые, вашим нимбом вы будете обязаны мне, точно так же, как своей короной этот удачливый монарх обязан вам.
Жанна (отворачиваясь от него). Я никому ничем не обязана. Но подумать только: я – святая! Что скажут святые Катерина и Маргарита, если с ними рядышком взгромоздится какая-то деревенщина?
Перед ними, в углу, внезапно появляется господин духовного вида, в черном фраке и цилиндре по моде 1920 года. Все они смотрят на него с изумлением, а потом разражаются громким смехом.
Господин. Чему приписать, господа, ваше неуместное веселье?
Уорик. Поздравляю вас. Вы изобрели необыкновенно смешной наряд.
Господин. Не понимаю. Вот вы действительно вырядились словно на маскарад. Я же – одет как подобает.
Дюнуа. Всякая одежда – это маска, кроме собственной шкуры.
Господин. Простите, я пришел по серьезному делу, и мне недосуг вести фривольные разговоры. (Вынимает бумагу и принимает сухой официальный тон.) Меня послали объявить вам, что дело о Жанне д'Арк, известной под именем Девы, будучи подвергнуто специальному рассмотрению под эгидой епископа Орлеанского…
Жанна (прерывая). А! Меня еще помнят в Орлеане.






