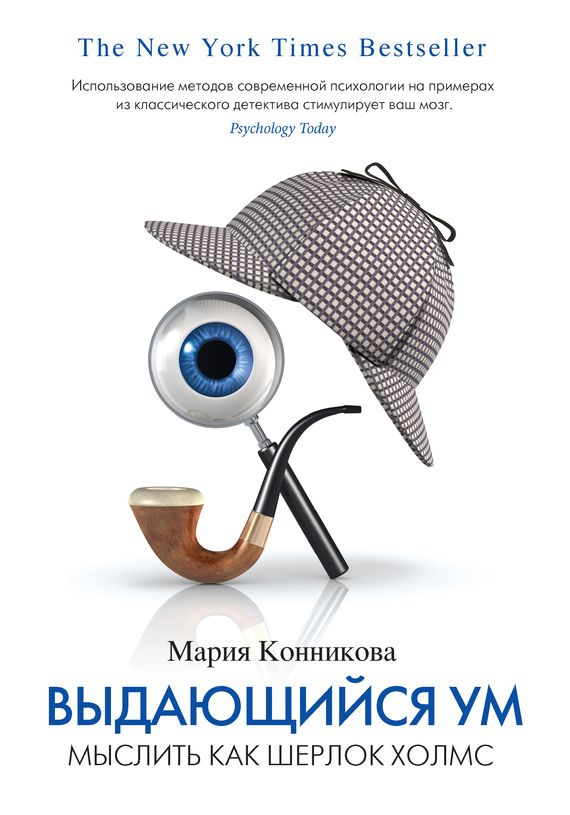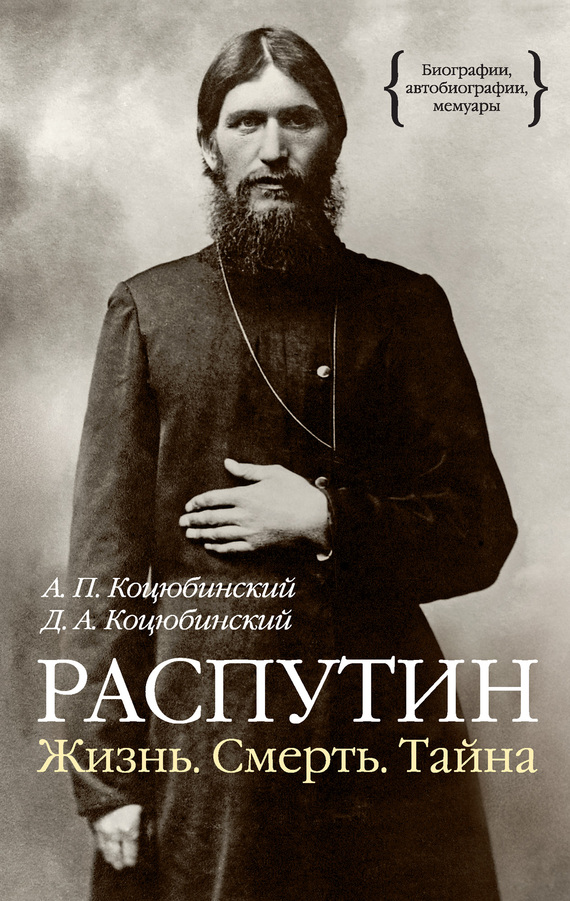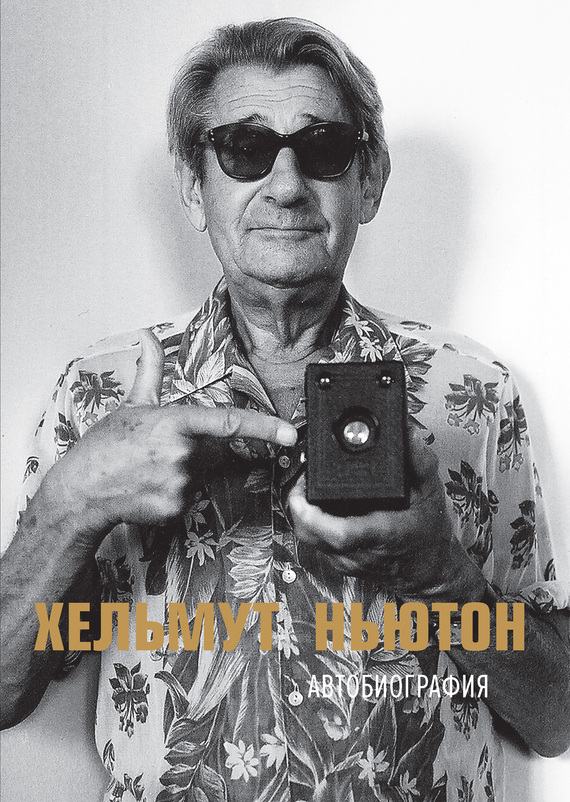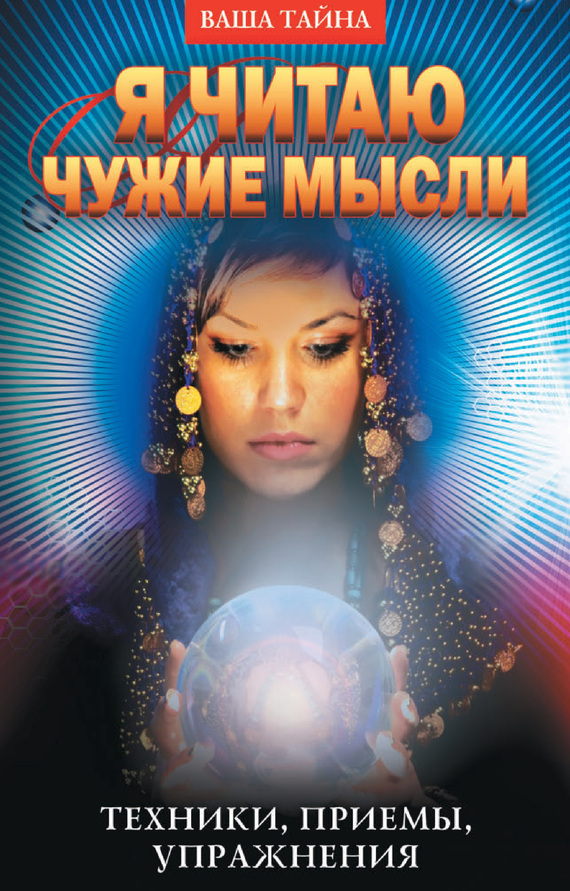Сто лет пути Устинова Татьяна

…И тут у него зазвонил телефон, как всегда, в самый неподходящий момент.
Совещание заканчивалось, сейчас начнут «подытоживать», он должен будет сказать что-то связное, неплохо, чтоб и умное тоже, но как только телефон грянул, все мысли до одной вылетели из головы профессора Шаховского.
Телефон был новейшей, последней модели, а потому чрезвычайно, необыкновенно сложен в употреблении. Телефон умел все – входить в Интернет и даже время от времени выходить из него, показывать курс акций на разных мировых биржах, прокладывать маршруты от Северного полюса к Джибути, светить фонарем, погружать владельца в Инстаграм, Твиттер и Фейсбук, давать прогноз погоды в Липецке и на западном склоне Фудзиямы на три недели вперед, фотографировать с приближением и удалением, снимать кино, монтировать видеоклипы, а его процессор превосходил по мощности все компьютеры НАСА в тот исторический день, когда Нил Армстронг высадился на Луну.
Шаховской телефон ненавидел и как выключить звук, не знал. Марш гремел.
– Господи помилуй, – пробормотал рядом председательствующий Ворошилов и уронил наконец очки, которые примеривался уронить с самого начала совещания, а историк, занудно читавший по бумажке занудный текст, посмотрел на Шаховского негодующе. Все собрание, обрадовавшись развлечению, задвигалось и зашумело.
– Прошу прощения, – пробормотал несчастный профессор и выскочил в коридор, изо всех сил прижимая ладонью мобильный, чтобы немного унять марш.
– Дмитрий Иванович, это полковник Никоненко из Следственного комитета. Мы с вами как-то по одному антикварному делу работали. Вы по исторической части, а я, так сказать, по современной линии шел. Помните?..
Шаховской, который в этот момент люто ненавидел телефон, ничего не понял.
– Я не могу сейчас разговаривать, я на совещании. Перезвоните мне…
– Стоп-стоп-стоп, – непочтительно перебил его полковник Никоненко из Следственного комитета, – это все я понимаю, но у меня свежий труп, а при нем какие-то бумаги, по всему видать, старинные. Я сейчас за вами машинку пришлю, а вы подъедете, да? Адресок диктуйте, я запишу.
Шаховской – должно быть, из-за сегодняшнего нескладного дня и ненависти к телефону – опять ничего не понял. И не хотел понимать.
– Я в Думе, у меня работа, – сказал он неприязненно. – Перезвоните мне, скажем, через…
– На Охотном Ряду? Мы тут рядышком, на Воздвиженке, время проводим. Выходите прямо сейчас, машинку не перепутаете, она синими буквами подписана.
– Что? – переспросил Шаховской, помедлив.
– Следственный комитет, говорю, на машинке написано! Не ошибетесь. Ну, добро.
И экран, похожий по размеру на экран телевизора «КВН-49», смотреть который полагалось через глицериновую лупу, погас.
«Никуда я не поеду, что за номера?! У меня свои дела, и их много! Мне еще «подытоживать», а потом статью править, и…»
Тут он вдруг вспомнил этого Никоненко и «антикварное дело» вспомнил! Тогда, сто лет назад, полковник размотал совершенно не поддающийся никакому разматыванию клубок из нескольких убийств. Убивали антикваров – без всякой связи, без логики, жестоко, – и Шаховского позвали как раз затем, чтобы он нашел логику. Понятно было, что убийства связаны с антиквариатом, но как?! Дмитрий Иванович долго эту логику искал – антиквары торговали предметами случайными и на первый взгляд никак между собой не связанными, – и нашел! А Никоненко додумал все остальное. И «громкое дело, находящееся на особом контроле в прокуратуре Российской Федерации, было раскрыто», как сообщили потом в новостях.
Воспоминание было… острым. Шаховской усмехнулся, стоя в одиночестве посреди пустого и широкого думского коридора. Он никогда не занимался никакими расследованиями, кроме исторических, а тогда вдруг почувствовал себя сыщиком, который осторожно и внимательно идет по пятам злодея, охотником, выслеживающим взбесившегося зверя, готового на все ради своих бешеных целей. А Никоненко, – как же его зовут, Владимир Петрович, что ли? – все прикидывался простаком и «деревенским детективом», а оказался умным, расчетливым, хладнокровным профессионалом.
Шаховской очень уважал профессионализм.
«Поеду, – вдруг решил профессор, приходя в хорошее настроение. – Заодно не придется ничего подытоживать, вы уж там без меня справляйтесь, уважаемые…»
Машина свернула с Воздвиженки, въехала в невысокие кованые воротца, озаряя мощеный двор всполохами мигалки, и остановилась у бокового крыльца, всего в три ступеньки.
– Вам туда, – сказал Шаховскому очень серьезный и очень молодой человек в форме и показал поверх руля, куда именно, – там встретят.
Дмитрий Иванович выбрался из машины и огляделся. Он, как и большинство москвичей, видел этот дом, особняк Арсения Морозова, только снаружи, внутри никогда не бывал и во двор не захаживал, воротца всегда были закрыты, и что там за ними – не разглядеть. В разное время здесь было разное: посольства Японии и еще, кажется, Индии, редакция какой-то британской газеты, это во время войны, потом еще его владельцем стал «Союз советских обществ дружбы и культурных связей с народами зарубежных стран», тогда особняк называли Дом дружбы народов, а во времена того самого Арсения именовали его москвичи «домом дурака»! Дурак, стало быть, Арсений, построивший когда-то особняк в самом что ни на есть странном и немосковском вкусе!
Ворота сами по себе закрылись – Шаховской оглянулся, когда створки тронулись и стали сходиться, – и дворик сразу оказался отрезанным от Москвы, многолюдья, автомобильного смрадного чудища, упиравшегося хвостом в Моховую, а головой во МКАД – ежевечерний исход из столицы был в разгаре. Стало почему-то тихо, на той стороне дворика обозначился огонек, горящий в одном из окошек, брусчатка, слабо освещенная фонарем, блестела, как лакированная.
Все это Дмитрию Ивановичу вдруг очень понравилось.
Он поднялся на крыльцо, – высокие двустворчатые двери казались закрытыми навсегда, – и чуть не упал, когда створка приоткрылась ему навстречу.
– Проходите.
Шаховской «прошел». Еще один очень молодой человек в форме аккуратно притворил за ним дверь и спросил паспорт. Дмитрий Иванович извлек паспорт и огляделся. Прихожая оказалась огромная и полутемная, электрического света не хватало на все дубовые панели, которыми были обшиты стены, свет тонул в них и ничего не освещал. Широкая мраморная лестница поднималась в просторный вестибюль или какой-то зал. Шаховской вытянул шею, чтобы рассмотреть зал получше, но не успел.
Высокий человек стремительно пересек помещение и оттуда, сверху, констатировал негромко:
– Дмитрий Иванович. Пропусти его, Слава.
Поднимаясь по ступеням, Шаховской все пытался припомнить, как зовут полковника Никоненко, но так и не вспомнил. Владимир Петрович, что ли?..
– Что-то вы долго. – Полковник сказал это таким тоном, как будто Шаховской обещался быть к нему на обед, но опоздал. – Или чего там? Стояк, как обычно? Давайте за мной.
В большом ампирном зале неожиданно оказалось очень светло и много народу. Шаховской на секунду зажмурился и остановился. Двое в перчатках обметали кисточками каминную полку, над которой висело большое зеркало с потемневшей амальгамой. Еще двое ползали по полу и что-то мерили линейками. Парень в джинсах и синем свитере бродил в отдалении, прицеливался, фотографировал со вспышкой и имел вид туриста, запечатлевающего детали интерьера, и это почему-то поразило профессора. Молодая женщина стояла на коленях возле лежащего на полу человека. Рядом с ней помещался распахнутый чемоданчик, из которого она время от времени что-то доставала, и вид у нее был самый что ни на есть обыкновенный.
– Ну, так, – Никоненко обошел женщину, почти перешагнул через нее как ни в чем не бывало. – Прибыла помощь в лице науки. Леш, где у нас?..
– Все на столе, товарищ полковник. Во-он, видите?
– Подходите поближе, товарищ профессор! На труп не смотрите лучше, если вам… неприятно.
Почему только в эту секунду профессор Шаховской сообразил, что лежащий на полу – уже не человек, а то, чтобыло человеком, покуда не случилось что-то странное, непоправимое, и человека не стало. Осталось тело, из-под которого на светлый паркет натекла довольно большая лужа темной крови, и молодая женщина старалась не угодить коленками в эту лужу, это профессор тоже заметил.
Ему вдруг стало жарко так, что моментально взмокла спина, он потянул с шеи шарф, уронил и нагнулся поднять.
– Не смотрите вы туда, ей-богу!..
Начальственный, приказной, нетерпеливый тон, каким с Шаховским никто и никогда не разговаривал, немного отрезвил профессора, как будто холодной воды дали умыться.
– Вот сюда смотрите, здесь для вас привычней!
– Все в порядке, – проскрипел нервный профессор и пристроил на раззолоченный стул портфель и шарф.
– Может, присядете?..
– Спасибо, – уже твердо и несколько даже обозленно сказал «ученый человек», – со мной все в порядке. Не беспокойтесь.
Полковник пробормотал себе под нос, что он не особенно и беспокоится, и взял со стола две какие-то бумажки, желтые и тонкие от времени. Еще там стояла чашка с витой ручкой, расписанная голубыми узорами, и ничего более неуместного, чем эта чашка, нельзя было себе представить в помещении, где на полу лежит мертвое тело, вспыхивает фотокамера, бродят люди, переговариваются самыми обыкновенными голосами.
– Ну, так. Собственно, вот из-за этих штуковин мы вас и вызвали. Бумаги были обнаружены рядом с трупом, с правой стороны, а чашка здесь и стояла. Вы только голыми руками не хватайте. Варвара Дмитриевна! Подкинь перчатки, а?
Молодая женщина вытащила из своего чемоданчика пару медицинских и кинула резиновый комок в сторону полковника. Он ловко поймал, зачем-то подул на них и протянул Шаховскому.
Профессор взял перчатки так, как будто не знал, что с ними делать. Никоненко покосился и мотнул головой. По «прошлому делу» он помнил, что профессор оказался не так хлипок и ненадежен, как вроде бы полагается ученому. Он хорошо соображал, – это Никоненко особенно оценил! – нервическими припадками не страдал, на вопросы, помнится, отвечал понятно, без излишней «научности». Вот чего полковник особенно не любил, так это когда «образованные» говорят непонятное и смотрят жалостливо и малость свысока, как на дурачка деревенского!
Впрочем, он понимал, что для неподготовленного человека труп на полу в луже крови – зрелище, надо признать, удручающее. Да еще выдернули его из Думы!.. Там небось чинность, красота и благолепие, а трупов никаких не бывает.
Тут Никоненко решил, что нужно профессору помочь немного.
– А в Думе-то вы чем занимаетесь? Депутатствуете?
– Я?.. А, нет, ну что вы. Там помимо депутатской работы полно.
– Какой такой работы? – перепугался Никоненко, и Шаховской вдруг вспомнил его манеру играть в участкового уполномоченного Анискина из глухой сибирской деревни. Московский полковник время от времени начинал пугаться, напевно говорить, округлять глаза, цокать языком и подпирать рукой щеку – в соответствии с образом. Выходило очень достоверно и, видимо, помогало ему в его деле. – Какой же такой работы полно в Думе, если с утра до ночи по телевизору показывают, как люди в зале сидят и все поголовно сами с собой в крестики-нолики шпарят, а потом, стало быть, кнопочку жмут, за или против, а на табло циферки загораются, принято, мол, или, обратно, не принято!.. А потом по домам, чай кушать. Вот и вся работа!
– Ну, это на самом деле не совсем так, Владимир…
– Игорь Владимирович я! Запамятовали?
– Вернее, совсем не так. Работа любого парламента в принципе организована очень сложно, а в нашей стране еще сложнее, потому что со времен Первой Думы, то есть с девятьсот шестого года, так повелось, что всегда и во всем виновата именно Государственная дума! Она всем мешает, с ней очень неудобно, так или иначе приходится считаться, а не хочется считаться, да и опыта парламентаризма в России маловато, честно сказать…
Слава богу, заговорил, подумал Никоненко, и похвалил участкового уполномоченного Анискина, который всегда его выручал. Спасибо тебе, Федор Иванович, дорогой ты мой!
– А я готовлю разные материалы, например, для заседания комитета по культуре. Вот комитет должен решить, имеет смысл за государственные деньги открывать музей… не знаю, допустим, Муромцева, и я готовлю документы…
– Кто такой Муромцев?
– Председатель Первой Думы, очень интересный персонаж.
Шаховской сосредоточенно натягивал резиновые перчатки. С непривычки натянуть их было трудно.
– Муромцев – часть истории, и важная! Как и первый русский парламент. Но почему-то история отечества никого не интересует всерьез, особенно в этой части. Про дворцовые перевороты всем интересно, а про парламент никто ничего толком не знает. Когда был создан, для чего. Почему просуществовал так недолго. А не знать это – стыд и дикость. Да и опасно не знать…
– Ладно вам, профессор, что за пессимизм-то!
– «Кто в сорок лет не пессимист, – сказал Шаховской и пошевелил резиновыми пальцами, – а в пятьдесят не мизантроп, тот, может быть, и сердцем чист, но идиотом ляжет в гроб».
Никоненко крякнул:
– Это кто сочинил? Вы?
– Все тот же Сергей Андреевич Муромцев.
– Эк его разобрало, вашего Муромцева! Людей не любил?..
Тут профессор спросил неожиданно:
– А вы любите? Людей? Всех до одного?
И аккуратно вытащил у полковника из руки тонкий бумажный листок. Никоненко так, с ходу не придумал, что бы такого сказать по поводу любви к людям, вызывать Анискина по такому пустячному поводу не стал и уставился Шаховскому в лицо.
…Сразу было понятно, что желтые и тонкие листы – подлинный раритет, никаких сомнений. На первый взгляд, судя по манере написания, расположению текста на странице, бумагам лет сто, не меньше. На одном листе было письмо с обращением и подписью, на втором – какая-то записка, по всей видимости составленная наспех. Записку Шаховской отложил, а письмо поднес к глазам, зачем-то понюхал, перевернул и посмотрел с другой стороны.
– Ну? – нетерпеливо спросил полковник Никоненко. – Чего там написано? Я ни слова не разобрал.
Профессор начал быстро читать вслух:
– «Милостивый государь Дмитрий Федорович, спешу сообщить вам, что дело, так беспокоившее нас в последнее время, завершилось вполне благополучно. Заговор ликвидирован полностью, опасность, угрожавшая известной вам особе, миновала. Со слов Петра Аркадьевича, с которым я имел удовольствие беседовать сегодня днем на Аптекарском, столь благополучным исходом, в каковой я, признаться, не верил до последнего часа, мы все обязаны князю Шаховскому, доказавшему, что и в Думе есть люди благородные, проявляющие большую волю в достижении того, что есть нужно и полезно для государства. Петр Аркадьевич уверил меня, что государь, также обеспокоенный, завтра же узнает обо всем. С нетерпением жду личной встречи, чтобы поведать вам все подробности этого удивительного дела, совершенно во вкусе г-на Конан Дойла и его сенсационных рассказов, которыми нынче зачитываются обе столицы. Сейчас могу лишь заинтриговать вас известием, что чашка с бриллиантами, фигурировавшая в деле, исчезла бесследно. Примите мои уверения и проч.». Подпись и число, двадцать седьмое мая тысяча девятьсот шестого года.
Профессор перевел дух. Глаза у него блестели. Никоненко пожал плечами и покосился на письмо – он профессорских эмоций не разделял.
– Как вы не понимаете?.. Судя по подписи, это письмо Щегловитова, в девятьсот шестом году он как раз был министром юстиции! Петр Аркадьевич, который упоминается, это, скорее всего, Столыпин, министр внутренних дел, и на Аптекарском у него была дача, это известный факт.
– А Шаховской – это вы, что ли? – неприязненно уточнил Никоненко, который не любил, когда при нем умничали. Ну, не знает он никаких Щегловитовых, а про Столыпина слышал когда-то в школе, да и то краем уха, и что теперь?
– В Первой Думе на самом деле был такой депутат от кадетской партии – князь Шаховской, – ответил профессор почему-то с неохотой. – Да, а Дмитрий Федорович, которому адресовано письмо, скорее всего, Трепов, комендант Зимнего дворца, фигура, очень близкая к Николаю Второму, некоторым образом личный телохранитель, если можно так выразиться.
– Товарищ полковник, мы закончили вроде.
– Закончили, так и дуйте в Управление. Дуйте, дуйте!.. Чем быстрее обработаете, тем лучше.
Шаховской оглянулся на людей, никого не увидел, ничего не понял и опять уставился в письмо.
– Заговор, – пробормотал он, – какой тогда мог быть заговор?.. В мае?! В апреле, да, в апреле был убит адъютант Дубасова, московского генерал-губернатора. В июне те же эсеры убили адмирала Чухнина. А в мае?! Об этом никто не упоминает! Кто это – «известная вам особа»? Да еще такая, о которой беспокоится государь и министры! Нет никаких свидетельств… При чем тут Дума? Благородные люди, проявляющие волю в достижении того, что полезно и нужно для государства! И это Щегловитов писал?! Правительство ненавидело Думу, а депутаты ненавидели правительство!
Он залпом перечитал ровные строчки, написанные сто лет назад, и наткнулся на «чашку с бриллиантами, исчезнувшую бесследно».
– Во вкусе господина Конан Дойла и его сенсационных рассказов!.. Значит, нашлась чашка.
– Какая? А, чашка!
Молодая женщина подошла к ним, стягивая перчатки, и тоже заглянула в письмо.
– Надо же, – сказала она с удивлением, – и как это вы разобрали? Ничего же не поймешь.
– Это просто привычка. – Шаховской отложил письмо и взял записку. При этом видно было, что с письмом ему расставаться не хочется. – Я прочитал очень много рукописных текстов, написанных именно так. С «ятями», «фитами» и твердыми знаками в конце существительных.
– Всего сто лет, – и она засмеялась, – а такие перемены, что и не прочтешь!
– В восемнадцатом году Ленин декретом Совнаркома упростил правописание. С тех пор оно все упрощается и упрощается. На днях отменили букву «ё», и Ленин тут ни при чем. – Шаховской рассматривал записку. – Зайца тоже хотели упростить, но, по-моему, пока не решились.
– Как упростить? – не поняла молодая дама.
– На одну букву, – задумчиво сказал Шаховской, – чтоб он окончательно стал «заец» не только в Интернете и любовных эсэмэсках.
– Вам студентки такие пишут?
Тут он в первый раз взглянул на нее. Почему-то его поразило, как кому-то могло прийти в голову, что студентки пишут ему эсэмэски и называют «заец».
– Варвара, – моментально представилась она довольно насмешливо. – Я эксперт, так же как и вы, но… в другой области.
– Дмитрий Иванович, – по профессорской привычке сказал он, хотя вполне можно было обойтись и без отчества, к чему тут это отчество, если можно и без него, он ведь еще не так стар, то есть и не молод, конечно, с какой стороны смотреть. В девятьсот шестом году сорок лет считались самым что ни на есть зрелым возрастом, а нынче сорокалетние – все начинающие, молодые, и держат себя так, как раньше подростки, носят кудри, ходят на танцы или… куда там они еще ходят…
Тут Дмитрий Иванович вдруг сообразил, что смотрит Варваре в лицо пристально, не отрываясь, и она смотрит ему в лицо все с той же насмешкой, и Никоненко рядом сделал брови домиком и тоже уставился на него. Профессор мигом отвел глаза, она улыбнулась, а Никоненко фыркнул отчетливо.
– Простите, я задумался.
– Оно и видно, – ввернул Никоненко. – Во втором письме чего пишут?
– Это просто записка! «Все готово, будьте сегодня в одиннадцать часов вечера в известном вам доме на углу Малоохтинского. Если придете не один, сделка не состоится. Полагаюсь на ваше благоразумие». Подписи нет, только дата. Двадцать шестое мая того же года, то есть за день до того, как было написано письмо.
– Если придете один? Или не один? – уточнил Никоненко, как будто это могло иметь значение.
– Написано – не один. То есть кто-то кого-то должен был привести в дом на углу Малоохтинского проспекта. Между прочим, это известное место.
– Кому известное-то?
– Там была подпольная мастерская по изготовлению винтовочных патронов. Был такой Сергеев, кличка Саша Охтинский, а у него приятель, кажется, Сулимов. Они как-то ухитрились вынести с патронного завода детали станка для набивки патронов и регулярно воровали оттуда же гильзы, пули и порох. Знаменитая мастерская была! По сотне патронов в день изготавливали. Это… очень много.
– Тело забирать, товарищ полковник?
– Ну, можем здесь оставить! А раньше всегда забирали!
Шаховской поморщился. Эти люди и их разговоры мешали ему думать.
Ах, да. Здесь же… убийство. Его и позвали только потому, что тут убийство. Какой-то человек совсем недавно именно в этом месте лишил жизни другого человека – и на полу сейчас лежит то, что от того осталось. Это было… сегодня. Не в мае девятьсот шестого года. И сегодня не имеет никакого смысла рассказывать про мастерскую на Малоохтинском, которая набивала до сотни патронов в день. Те патроны уже давно расстреляли, и они наверняка тоже кого-то убили, но это было давно и сейчас уже неважно.
Разве насильственно отнятая жизнь перестает быть важной? Ее же нельзя отнимать, это… запрещено.
– Как его убили? – вдруг спросил Шаховской.
– Скверно, – отозвалась Варвара, тоже эксперт, но… в другой области. – Сначала ударили по голове, сильно, из-за спины. Он упал. Добивали ножом. Пять ранений. Два с жизнью не совместимы. На первый взгляд два, товарищ полковник.
– А вы говорите – государь обеспокоен! – сказал Никоненко и почесал за ухом. – Забеспокоишься тут.
В приемной за высокими распахнутыми дверями громко заговорили и засмеялись, и вошли санитары. В два счета они разложили носилки, равнодушно, как вещь, которая всем мешает и нужно поскорее от нее избавиться, перевернули тело и взгромоздили его на черную клеенку.
Шаховской посмотрел. Ему же неудобно так, подумал он. Вон как лежит неловко. Надо бы переложить. Он все забывал, что это уже не человек, а нечто другое, непонятное.
Смерти все равно, как именно лежит труп.
Санитары подняли носилки, живые посторонились перед мертвым, и тут в этом теле, которое так неловко приткнули на черные носилки, Шаховской вдруг узнал человека, которым оно было до сегодняшнего дня. До тех пор, пока их не разделили пять ножевых ранений, два из коих были не совместимы с жизнью – человека и его тело.
– Подождите, – сказал Шаховской. – Одну секунду.
1906 год, май.
Варвара Дмитриевна Звонкова приближалась к цели своего путешествия.
Целью был Таврический дворец, возведенный когда-то матушкой Екатериной для своего возлюбленного и вернейшего помощника в делах войны и державства князя Потемкина. Там, в полуциркульном зале, вот-вот должно было открыться очередное заседание Государственной думы.
В первый раз «народные представители» собрались в белой просторной прекрасной зале всего месяц назад, двадцать седьмого апреля, и с тех пор каждое заседание становилось событием, о котором писали газеты, толковали и перетолковывали в кулуарах, обсуждали по всей России!
Варвара Дмитриевна, полноправный член одной из самых многочисленных партий – кадетской, состояла «думским журналистом».
Ах, какой это был май!.. В России за всю ее многовековую историю никогда не было такого мая – яростного, воистину революционного! Да что и говорить! Самодержавие, конечно, не пало, предстоит борьба, это Варвара Дмитриевна прекрасно понимает, но все же русская революция добилась огромного успеха, царю пришлось отступить. Манифест семнадцатого октября дал народу, за который радели все члены кадетской партии и Варвара Дмитриевна тоже, политические права!
Варвара Дмитриевна бежала – насколько позволяли приличия, разумеется, – и улыбалась сама себе и предстоящему дню, очередному дню работы первого русского парламента.
Какие прекрасные, звучные слова – русский парламент! Кто бы мог подумать еще пять лет назад… нет, нет, даже год назад, что в России будет свой парламент! Неужели сдвигается неповоротливая туша государственного бюрократизма, абсолютная власть отступает? Как будто сверкающий меч революции надвое рассек ее, и всему народу явился свет!
Тут Варвара Дмитриевна подумала, что хорошо бы этот пассаж запомнить и записать, пригодится для статьи.
Решетка сада Таврического дворца была уже совсем близко, и Варвара Дмитриевна пошла потише, посолиднее. Английский бульдог, которого она вела на поводке, оглянулся с неудовольствием. Он в парламентаризме ничего не смыслил, зато искренне полюбил сад вокруг дворца, с его дорожками, лужайками и скамейками, которые он поливал с истинно английской невозмутимостью.
Бульдога Варваре Дмитриевне из туманного Альбиона доставил один британский журналист в качестве презента. Журналист ей нравился, он был настоящий англичанин – сдержан, с превосходными манерами, хорошо образован, толковал в основном о политике, но что-то подсказывало госпоже Звонковой, что бульдога он вез ей вовсе не как коллеге и товарищу по парламентской работе. Бульдога назвали Генри Кембелл-Баннерман. Немного сложно, конечно, зато получился полный тезка британского премьер-министра – и смешно, и с намеком. Что нам все на Запад оглядываться да горевать, что на Руси-матушке по сию пору лаптем щи хлебают? Вон у нас какие перемены – собственный парламент, где совершенно законно высказываются накопившиеся за столетия претензии к власти, и власть принуждена слушать и отвечать! Это вам не тихие разговоры на ухо, не пение запрещенных песен под сурдинку, не марксистский кружок!..
Кстати, Маркса бы надо почитать, вот что.
Варваре Дмитриевне про него толковали, выдающийся экономист, мол, целую теорию придумал, объясняющую весь мировой порядок. Она собиралась ознакомиться, да так и не собралась. Некогда, работы много. Был еще профессор Лист, печатавшийся, кажется, в Берлине, и его тоже читали и цитировали, и Варвара Дмитриевна знала, что мнение немецкого профессора Листа – последний аргумент во всяком споре о благе русского народа. Почему-то так выходило, что русские должны то и дело оглядываться на заморских ученых, приноравливать свою жизнь к их теориям, настолько непонятным, что у Варвары Дмитриевны от долгих рассуждений о Марксе и Листе начинал болеть висок.
Генри Кембелл-Баннерман потянул было в сторону, но хозяйка вернула его на тротуар. Вон уже дворец из-за деревьев выступил, сейчас прибудем.
Дорожки сада были запружены народом, дамы в нарядных платьях создавали ощущение праздничности. Вообще Варваре Дмитриевне казалось, что, несмотря на ежечасно разражавшиеся бури, на стычки с оппонентами, на противостояние с министрами, ощущение праздника не покидает Таврический дворец ни на минуту. Гармонический простор белых зал, переходов, заново отделанных покоев напоминал о пышной державности екатерининского века, а дух свободы и открытости, возможность на весь мир говорить о наступивших и грядущих переменах укрепляли веру в будущее, в Россию!
Это бы тоже хорошо записать, решила Варвара Дмитриевна, а Генри Кембелл-Баннерман весело потрусил к любимой скамье, которую он никогда не пропускал и всегда орошал в первую очередь.
Варвара Дмитриевна переждала момент орошения, независимо глядя в сторону. С ней здоровались, и она кивала в ответ, улыбалась приветливо, и всякому казалось, что милые ямочки на щеках госпожи Звонковой – последний, недостающий штрих к картине веселой деятельной озабоченности.
Кивая направо и налево, Варвара Дмитриевна прошла по галерее в кулуары, где собралось уже много народу – все ожидали заседания, как званого пира. Здесь до конца, до последнего слова обсуждалось то, что никак невозможно было договорить в зале заседаний, где присутствовали председатель, пресса, стенографисты с их отчетами! В кулуарах царила безбрежная, как море, свобода. Здесь депутаты встречались с народом, сюда приходили ходоки, вокруг которых собирались митинги. Тут все точно дрожало от нетерпения и нетерпимости, здесь неизменно звучал лозунг – требуйте, требуйте!.. Требуйте земли, воли, новых свобод. Здесь, в кулуарах, были свои герои, как Алябьев, депутат от «трудовой партии», носивший гвоздику в петлице. Он упивался похвалами журналистов и публики, говорил много и горячо.
Вот и сейчас, до заседания, Алябьев уже ораторствовал и собрал небольшую толпу. Варвара Дмитриевна хотела остановиться и тоже послушать, а потом вспомнила странную нелюбовь Генри Кембелл-Баннермана именно к этому социалисту, и передумала останавливаться.
Их с Генри путь лежал мимо залы заседаний в большую угловую комнату, где помещалась конституционно-демократическая партия и Варвара Дмитриевна обыкновенно работала.
Был Большой день – когда в министерской ложе появлялись министры со своими проектами законов, которые Дума должна была принять или отвергнуть. В такие дни заседания законодательного собрания обыкновенно превращались в «безудержный митинг», как писали газеты. Вся сила двух основных партий – кадетов и «трудовиков» – была направлена против правительства, и в Большие дни министрам приходилась несладко. Муромцев, думский председатель, обыкновенно устраивал после министерских речей небольшой перерыв, чтобы депутаты немного выпустили пар в кулуарах, но это не слишком помогало.
Министры виделись депутатам врагами народа, и они почитали своим долгом как можно скорее и как можно резче вывести этих «прислужников самодержавия на чистую воду», сказать им всю правду. Горение духа исключало всякую практическую догадку. Сотрудничество с правительством было непреложным условием законодательной работы любого народного представительства, меж тем «всякое соприкосновение с властью приводило депутатов в состояние сектантского негодования».
Варвара Дмитриевна вошла в комнату с большими французскими окнами, ответила на приветствия собравшихся товарищей по борьбе и парламентской работе, спросила чаю и вывела Кембелл-Баннермана на травку. Бульдог дал круг, огибая клумбу, попил из мраморной чаши, в которую налило вчерашним дождем, улыбнулся и улегся в тенек, а Варвара Дмитриевна приступила к своим обязанностям.
«Весь дворец кипит, дышит, двигается, полный надежд на новую, невиданную свободу и невиданную ранее русскую демократию, которая сию минуту нарождается здесь, в этих высоких белых залах, покоем расположенных в Таврическом дворце, окна которого выходят в прекрасный сад, насаженный еще при князе Потемкине, и этот весенний сад будто поддерживает своим буйным весенним цветением в наших чаяниях и надеждах».
Варвара Дмитриевна поставила точку и пристроила перо рядом с чернильницей понадежней, чтоб держалось. Дурацкое перо часто скатывалось и однажды оставило на белой, первый раз надетой блузке довольно большое пятно.
– Что вы там все пишете, Варвара Дмитриевна? Дневник ведете?
Это была шутка, и Варвара Дмитриевна улыбнулась.
– Вот уж нет. Боюсь, не успею всего. Такой день впереди! Сегодня министра финансов ждут с его идеей французского заема. Жарко будет.
Князь Дмитрий Иванович Шаховской, секретарь думского председателя и его главный помощник, улыбнулся в ответ:
– Ничего. Вы быстрая. Учитесь на ходу.
– Я и раньше писала в газеты!
– За что мы вас особенно ценим, Варвара Дмитриевна.
Ценили не только за это, но и за быстрый ум, жизнерадостность, готовность внимательно слушать, запоминать, четко передавать главное, не увлекаясь отсебятиной, которая так свойственна пишущим мужчинам!..
А еще Варвара Дмитриевна чудо какая хорошенькая. Это, конечно, не самое главное, но рядом с хорошенькими и в политике как-то веселее.
В большой угловой комнате, где помещалась фракция кадетов, окна стояли открытыми весь день, можно выйти прямо в сад к деревянной решетке, увитой шток-розой, возле которой в теньке полеживал сейчас полный тезка британского премьер-министра, и там, на свободе, продолжить заседание. Впрочем, заседанием и не назовешь то, что происходило в угловой комнате с открытыми в потемкинский сад французскими окнами! Некогда тут заседать да беседовать! Такие дела творятся! Нужно с лету, на ходу, в короткий перерыв между прениями и голосованиями составить язвительный, уничижительный ответ на министерскую речь, наметить ораторов, полных неизжитого гнева против неограниченного самодержавия. Перерыв, устраиваемый председателем Муромцевым, не охлаждал горячие головы, а еще больше распалял их!..
Из залы заседаний взбудораженные депутаты приносили с собой в кулуары «пульсацию прений». Здесь можно было не опасаться чужих ушей, не считаться с произведенным впечатлением, тут собирались «свои», понимающие, горящие общностью идей и настроений.
Вот и хорошенькая Варвара Дмитриевна горела. Князь Шаховской в свое время настоятельно рекомендовал товарищам по кадетской партии принять госпожу Звонкову в свои ряды, хотя заслуг у нее было маловато и политически она была не слишком подготовлена, впрочем идеи конституционных демократов разделяла всей душой. Но он настаивал и в конце концов убедил – партия только выиграет, если в мужском ареопаге будет женщина.
Начала Варвара Дмитриевна с того, что устроила бой с Милюковым по вопросам женского равноправия. Разумеется, в кадетской партии состояли люди все выдающиеся, просвещенные, передовые – юристы, правоведы, профессора – и вопрос о женском равноправии к тому времени был уже как будто разрешен. Однако Павел Николаевич почему-то упирался, указывая на то, что женское избирательное право, да и равноправие вообще, вызовет недовольство среди крестьян, не привыкших смотреть на женщину, как на равную. Он справедливо отмечал отсталость русских крестьянок, их малограмотность и неподготовленность к политической жизни.
Впрочем, многие подозревали Павла Николаевича в известном лукавстве. Он был большим любителем дамского общества и, возможно, побаивался, что политическая борьба несколько помрачит женское обаяние.
Варвара Дмитриевна до того памятного дня, когда состоялся ее бой с Милюковым, вовсе и не задумывалась над женским вопросом. Ни Бебеля, ни Брауна, самых яростных пропагандистов женских прав, не читывала. Но ей даже подумать было странно, что образованный человек, видный либерал мог отрицать ее с ним равность! Ведь до манифеста семнадцатого октября политических прав не имел никто, ни женщины, ни мужчины! Значит, и получить их должны все, все!
Дело происходило во время трехдневного съезда кадетской партии, в полукруглом амфитеатре Тенишевского училища, переполненном людьми. Съехались со всей России! Помнится, тогда кто-то и предложил название «партия народной свободы», но предложение отвергли, приняв трудную, из двух слов сложенную «этикетку» – конституционно-демократическая.
Программу «партии народной свободы» особенно и не обсуждали, она была давно обдумана и выработана, об этой программе по всей России толковали за самоваром, беседовали в гостях и на журфиксах. Неужели все правда, господи помилуй?.. После стольких лет темного, неограниченного самодержавия власть признала наконец, что народ «имеет право голоса»? Что «народное представительство» будет созвано и вот-вот проведут выборы в первый русский парламент? Поминались новгородское вече и боярская дума. Все чаще слышались слова «революция» и «оппозиция», производившие должное впечатление даже на смиренные умы. Профессора и правоведы разъясняли за чаем необходимость конституции самого последнего образца авантажным дамам, горевшим той же жаждой свободы, что и вся Россия.
Так вот, равноправие!..
Милюков равноправие отрицал за ненадобностью, и на помощь ему пришел кто-то из мусульманских кандидатов, кажется, из Казани, который объявил, что в случае внесения такого пункта в программу мусульманские голоса будут потеряны.
Варвара Дмитриевна, недавно только возвратившаяся из Парижа, вся кипела. Стремительно взлетела она на кафедру и заговорила горячо, громко. На нее посматривали с удивлением – многим она была незнакома, хотя ее статьи в «Освобождении» и «Вопросах жизни» считались занимательными, их читали. Но все же места в рядах она еще не заняла.
Варвара Дмитриевна начала с того, что сознание людей необходимо поднимать, а не тащить вниз. Русская женщина, уверяла собрание Звонкова, вполне доказала свою зрелость, участвуя в политическом движении. Борьбу вели вместе и женщины, и мужчины, вместе подвергались опасностям, гонениям, подчас вместе шли в тюрьму! Куда же это годится, если мужчины получат права, а женщины нет?
И все это было так мило, так горячо, так искренне, что жар пробежал по рядам, и даже Павел Николаевич умилился.
Избирательных прав наравне с мужчинами женщины так и не добились, но Варвара Дмитриевна свою лепту в борьбу внесла, и чопорный англичанин, кажется, оценил ее смелость.
Конечно, у них в Европе с женским вопросом дело плоховато поставлено. У нас в России гораздо лучше и разумней, что есть, то есть. Либералы от души признавали женское равноправие и с удовольствием наблюдали живейшее участие дам в политической жизни, ценили энергию, которую они развивали на ниве освобождения России. Другое дело, что Варваре Дмитриевне не приходило в голову, будто у нее должны быть равные права не только с мужчинами – либералами, профессорами и адвокатами, любовавшимися ее горячностью и ямочками на щеках, но и со Степаном-конюхом из ее волжского имения, которого она терпеть не могла за то, что, подвыпив, он всегда буянил и орал несусветное, а также с женой его Акулиной, неряшливой бабой, так плохо смотревшей за детьми, что приходилось то и дело возить к ним доктора из Нижнего.
Впрочем, это неважно. Тут что-то недодумано. А сомневаться в необходимости равноправия – стыдно просвещенным людям начала двадцатого века.
Возле овального стола ораторы, намеченные сегодня возражать министру финансов Коковцову, – в том, что ему придется возражать, не было никаких сомнений, и возражать колюче, задорно, не давая опомниться! – в последний раз проверяли доводы, согласовывали позиции, обсуждали слабые стороны противника. Варвара Дмитриевна на секунду присела к ним за стол, послушала немного, а потом вышла в сад к Генри Кембелл-Баннерману и не удержалась – расхохоталась.
Давешний оратор Алябьев с гвоздикой в петлице маялся в некотором отдалении, как видно, намеревался зайти в помещение, но опасался Генри, раскинувшегося под шток-розой.
– Алексей Федорович! – окликнула его госпожа Звонкова. – Вы к нам?
– Добрый день, Варвара Дмитриевна. Я не знал, что ваш верный страж… сегодня опять с вами.
– Генри без меня сильно скучает. Проходите, я его подержу.
– Благодарю, Варвара Дмитриевна.
Генри, радостно приветствовавший хозяйку верчением плотного обрубка хвоста, при приближении Алябьева скосил глаз и зарычал, негромко, но убедительно.
– Ах ты, господи!.. Идите, идите, не бойтесь.
– Да я и не боюсь, – пробормотал себе под нос Алексей Федорович, который боялся бульдога и терпеть его не мог.
Такая хорошенькая девушка, на что ей это чудище заморское?! Сопит, рычит, хрюкает неприлично при дамах, редкая гадость.
– Вы к Дмитрию Ивановичу?
Князь Шаховской, как секретарь председателя, вечно всем был нужен, все его разыскивали, о чем-то просили, что-то втолковывали, отводили в сторону, понижали голос и настаивали. Князь терпеть не мог интриговать и келейничать, и вообще в Думе его почитали несколько одержимым идеей демократии. Муромцев, к примеру, став председателем, от повседневной жизни отстранился совершенно, несколько даже занесся и все повторял, что «председатель Государственной думы второе после государя лицо в империи». Князь же, совершенно напротив, показал себя бесценным практическим работником.
Почему-то никому не приходило в голову, что вновь созданная Дума – не только трибуна для проявления ораторских способностей и всяческого обличения правительства, но… учреждение, которому прежде всего должно работать именно как учреждению. Князь Дмитрий Иванович взвалил на себя все: наладил думскую канцелярию, сношения с прессой, раздачу билетов для газетчиков и для публики. Кроме того, был налажен стенографический отдел. Состав стенографисток оказался подобран превосходно, отчеты раздавались иногда в тот же день, что особенно ценили журналисты.
Варвара Дмитриевна рядом с Шаховским чувствовала себя приятно и легко, и даже просто упомянуть его имя казалось ей весело.
– У меня короткое дело собственно к князю Шаховскому. – Алябьев продвигался мимо решетки к распахнутому французскому окну, за которым звучали громкие голоса, как видно, спор разгорался, а Генри Кембелл-Баннерман рычал все отчетливей. – За что же он меня невзлюбил, хотелось бы знать?
– За политические взгляды, Алексей Федорович! – объявила госпожа Звонкова и засмеялась. – Вы же социалист, а он социалистических идей не разделяет.
– Напрасно, Варвара Дмитриевна, напрасно. Вот увидите, именно идеи социал-демократов будут единодушно приняты и подхвачены русским народом! – И зачем только он пошел через сад, а не покоями! – Двадцатый век докажет… что социалисты вырвут Россию из многовековой… темноты… укажут совершенно иной, невиданный путь. Социализм перевернет и разрушит прежний строй, самодержавие падет под его ударами…
Генри Кембелл-Баннерман, полный тезка британского премьер-министра, вскочил на упористые, как будто вывернутые лапы, выдвинул и без того отвратительную нижнюю челюсть, гавкнул на весь сад и капнул слюной.
…Порвет брюки, с тоской подумал Алябьев. Как пить дать порвет. Репутации конец, и брюки жалко.
Следовало отступить красиво и с достоинством, но как это сделать на глазах у госпожи Звонковой, которая тонкими пальчиками держала бульдога за складчатый загривок и смотрела смеющимися глазами. Разве такие пальчики удержат эдакое… насекомое?..
Тут, слава богу, его окликнули из-за кустов:
– Алексей Федорович! Прошу прощения!
Алябьев оглянулся, Варвара Дмитриевна, присевшая было возле собаки, поднялась, а Генри потоптался, развернулся и зарычал уже в сторону кустов.
– Bad boy, – выговорила ему Варвара Дмитриевна с укоризной. – What’s the matter with you today?[1]
Считалось, что бульдог понимает исключительно по-английски.
– Алексей Федорович, – заговорили издалека, – вас во фракции ждут, просили сию минуту подойти! Вот-вот к заседанию позвонят.
Алябьев воспрял духом. Можно удалиться красиво и за брюки не опасаться!..
– Эдакая спешка каждый день! Ничего не поделаешь, придется явиться. Князю поклон, да мы еще увидимся…
И Алексей Федорович пропал из глаз.
– Stay here, Henry! Be nice dog[2].
Полный тезка британского премьера, только что изгнавший противника и отлично это сознающий, облизнулся плотоядно и ткнулся Варваре Дмитриевне в юбку.