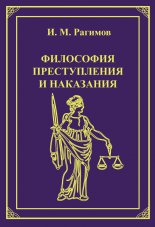Жизнь в Царицыне и сабельный удар Новак Владимир

– Это я сумею, – браво ответил Борис, и в тот же миг сник, сказав: – Только что-то тяжело на сердце. Убёг бы куда-нибудь в непроходимые леса аль в раздольные степи. Охоты нет служить царю…
– А ты ему не служи… – насупил мохнатые свои брови Степанов, – но обучиться военному делу – не плохо! Будут еще баррикады, как в девятьсот пятом году. Большевикам понадобятся свои ротные, взводные, ну, ещё как там? Пулемётные! Пиши из казарм, царя похваливая. Вот адреса, легальные. Пиши намёками. А мы тут, сам знаешь, не из дураков. Всё поймём. И в моих письмах тебе будет намёк, что делать!
Эх, паровозные гудки! Прощай, родной город. Прощай, Волга-матушка река!
Борис закрыл глаза. Опять открыл. Вправо-влево распростерлась неоглядная за окном Донская степь. Вон и казаки понукают быков, сидя на возах. Казаки возвращаются в свои станицы с базара, из Царицына, везут оглобли, кадки с селёдкой, рогожные кули с вяленой воблой.
Словно кто-то толкнул Бориса в грудь. Он отшатнулся от окна, замутненного его же собственным дыханием, и вспомнил про письмо Машеньки, с которой теперь бы хоть и не расставаться.
Читая письмо, Борис не верил своим глазам, всё вскидывая руку, чтобы откинуть волосы на голове, будто падающие на лоб. Но и тут то же самое – такое, чему не верилось: волосы-то остались у ног парикмахера, в комнатушке его, у воинского начальника.
Да, Машенька писала Борису о том, что она отныне уж не его невеста, а завтрашняя жена Петра Пуляева.
– Так, значит, скручивают голову деньги! Деньги! – хрипло проговорил себе Борис, слыша, как что-то сипит у него в горле, как там пересохло вдруг, и ткнулся головой в свои пожитки, комкая их в изголовье.
Одолевали тяжелые размышления и Марию. Случалось ей еще девчонкой видеть разные свадьбы, бедные и богатые. Видела женихов и невест, которые пешком от дома в церковь добирались, а другие в фаэтонах, чуть ли не в свадебном поезде, мчались по улицам, подымая пыль. Тогда и Маша, босоногая девчонка, бежала около дороги, а то и падала в пыль, собирая брошенные из какого-то фаэтона пригоршнями конфеты в завлекательных упаковках-обёртках.
У богатых на свадьбе и не сочтёшь гостей, а у бедных – и десятка не наберётся, но одинаковой была суетня.
Теперь вот Мария сама в подвенечном платье, уж усталая от всего шуму-гаму. Она и в церкви стояла под венцом сама не своя. Не занимали её ни блеск позолоченных икон, ни обручальное кольцо на пальце, ни собравшиеся в кучу бабы и девки с родной улицы, шепчущиеся между собой так, чтобы и Мария слышала, что раз, мол, Мария первой ступила, а не жених, на церковный коврик, то и властвовать в доме будет она, а не её муж. Мария об этом и прежде знала. Её теперь занимали хлопоты вчерашнего дня, когда отец въезжал хозяином в дом, купленный Петром. Нравилось Марии крылечко с парадной дверью в отведенное помещение для бакалейной лавки. Отец был уж при жилетке, при часах, очки его поблескивали золотой оправой, а белый фартук бакалейщика был новым-новым, но отец неуклюже поворачивался, отвешивая кому-то из покупателей кусковой сахар, ронял на пол гирьки с весов.
Всё перед Марией появлялось как из тумана и исчезало, закрываемое другими видениями. Так до того часа, когда Мария отчетливо услыхала голос Петра, что вот, Машенька, стала ты теперь моей женой, а завтра церковную выписку о браке я отнесу в полицию, чтобы тебя вписали в мой паспорт. Такой царский закон о подчинении жены мужу.
– А по церковному закону, – продолжал Петр, – сама-то слышала, как произнёс священник: «Жена да убоится своего мужа…»
Утром после брачной ночи Пётр показывал Марии свои сараи, своего белолобого коня, борова и уток, поучая, как всё хозяйство ей вести:
– Выездного экипажа и выездной лошадки я не держу, – продолжал Петр, – для этого нанимаю помесячно лучшего лихача, обязанного каждое утро навещать меня и спрашивать – не будет ли нужен на этот день. Вот он сейчас приедет… Поезжай, прокатись. А завтра я приведу в дом кухарку, у которой ты за месяц переймешь всякие меню к завтраку, обеду, ужину…
Среди дня, когда Пётр был на берегу Волги, за Марией приехал лихач и помчал её в фаэтоне в брошенный старый дом. Там Мария по ступенькам старенькой лестницы поднялась на чердак. Сквозь ветхую крышу Марии была видна улица, мальчишки и девчонки, толпившиеся у фаэтона, разглядывающие дорогую сбрую коня, его большеглазую мордашку. Вздохнула Мария и присела на корточки за трубой у кучи игрушек, сама удивляясь, что была ведь пора, когда на полутемном чердаке она с какой-то чарующей душу заботой принаряжала своих самодельных кукол, напевала им колыбельные песенки и каждой из них дарила найденные на улице, на базарной площади, на берегу ли Волги разноцветные стекляшки разбитых пузырьков и бутылок. Даже научилась вязать кружева для своих кукол, которые, казалось, благодарно глядели Машеньке в её добрые глаза.
– А ведь будто недавно всё это было… – шептала Мария, собирая все разноцветные стекляшки в ридикюль. Для кукол она сделала в опилках что-то похожее на могилу. Такой холмик, под которым навсегда расстались с ней куколки, а она распрощалась со своим детством.
Торопливо Мария спустилась с чердака, глянула под крышу и повторила:
– Была пора! Теперь иная жизнь началась…
Усаживаясь в фаэтон, Мария расстегнула ридикюль и, вынимая из него вместе с мелкими серебряными монетами разноцветные стекляшки, бросала их в толпу девчонок и мальчишек. Бросала с горькой усмешкой на своем задумчивом личике, будто посылая горсть усмешки в свое прошлое.
И тут бабы со своими приметами. Рассматривая на ладони разноцветные стекляшки, бабы разом решили, что Мария не в своем уме.
– Недолгой жизни она… – махнула одна из них рукой вслед удалявшемуся фаэтону.
* * *
Казармы кавалерийского полка, в котором предстояло служить Борису, уж сто лет были казармами. Стены из серого камня, прозеленелые, воздух затхлый. Сподручно лишь начальству бросать солдат против рабочих: переулки от казарм расположены прямо к заводским воротам.
Да, Санкт-Петербург. Столица. Борис читал, как жилось тут бедноте и богатым. Книги Достоевского прочёл. Знал, что такое трущобы бедноты и что такое роскошные дворцы.
Груня, бывало, просвещала Бориса. Книгу за книгой читал он из её домашней библиотеки.
Груня будто знала, что Борису доведётся всё, описанное Достоевским, видеть воочию: мрачные серые особняки привлекали более всего внимание Бориса. Огромные дубовые двери были заметно тяжёлыми, с бронзовыми, ярко поблескивающими кольцами-обручиками вместо дверных ручек, да с пугающими львиными пастями или оскаленными мордами шимпанзе. Всё это: бронзовое литьё, медные дощечки, привинченные к дверям, – блестело. И когда только слуги занимались этим?
Бывая в частых разъездах, патрулируя ближайшие к заводам улицы и переулки, Борис с тоской на сердце поглядывал на волны холодной Невы и вспоминал Волгу. Полноводную, в разливе. Нева взята в гранит, а Волга заманивает к себе песочком берегов, островками, и Заволжьем с его озерами, протоками, рощами. А писем из Царицына нет и нет. Это сильно тревожило.
И вдруг сразу два письма. Одно от матери, написанное под её диктовку кем-то из укладчиц досок, а другое – от Сергея Сергеевича. Мать писала, что, бывая каждый день на базаре, не найдёт вот подходящей шерсти, чтобы связать Борису носки, спасающие от мороза, от простуды, что, как только свяжет носки, заодно пришлет в посылке ещё и два десятка пирожков с изюмом.
Все солдаты получали письма от матерей, от друзей, но вот никто не получил такого, какое Борису прислал Степанов.
Он писал, что Борису выпала счастливая доля послужить царю, который будет вскорости праздновать трёхсотлетие царствования на Руси дома Романовых.
Далее писал такое, над чем Борис задумался. Степанов велел отнести карманные часы в починку по адресу, указанному в письме, и немедля.
«Часового мастера, – писал Степанов, – зовут Антоном Григорьевичем…»
Указывалось, что мастер когда-то жил в Царицыне, что он уже в годах, и в часовом деле весьма опытный.
– Всё понятно, – говорил себе Борис, – но ведь у меня нет карманных часов…
«В чём тут загвоздка? – спрашивал он себя. – И как вырваться за ворота казармы, чтобы попасть к Антону Григорьевичу Абашину?»
Решил упрашивать своего командира так: «Сестренка моя, двоюродная, тут, в Питере, в горничных… Пирогов бы откушать, ваше благородие?».
И в воскресный день с пяти утра так продолжал думать Борис. Но непразднично выглядела казарма: офицеры, которым бы дома быть, по квартирам, аль на прогулках с женами и детьми, собирались кучками и о чём-то перешёптывались. Вдруг они поспешно разошлись, каждый в свой эскадрон. Началась седловка лошадей.
Борис всё же подслушал разговор офицеров, возмущающихся тем, что рабочие Питера забастовали, требуя судить всех, кто повинен в расстрелах рабочих на золотых приисках Лены.
Минуты даны на седловку.
И вот Борис уж в седле на своем донском гнедом, тонконогом и быстром на поворотах: чуть повод тронь, а он уж угадывает желание всадника.
Полюбил Борис своего коня. Как только ни холил, как только гриву ни расчесывал, да всё шептал на ухо: «Коняшка, милый, ненаглядный! Разумный какой! Всё видишь – сказать только не можешь…».
Тревожное настроение Бориса, видимо, передалось лошади. Она что-то всё вздрагивала, как Борис ни гладил ей под гривой шею.
– Куда же нас гонят? – перешептывались кавалеристы.
Борис догадывался о том, куда спешит кавалерийский полк. Покачиваваясь в седле, поглядывая на спину своего командира, на боевые ремни, он шепнул соседу слева: «Стрелять, если прикажут… буду стрелять в небо. Поверх голов бастующих рабочих… Хватит и того, что расстреляли на сибирской реке, на золотых приисках. Слышал я разговор офицеров. Им только дозволь, так и нас расстреливать начнут…».
Кавалерийский полк разделился поэскадронно.
Офицер, недавно присланный в эскадрон, часто пощипывая свои туго отрастающие усы, скомандовал:
– Эскадрон! Рысью! За мной!
Зачастили удары копыт по булыжникам мостовой. В переулке узкой улицы мелькнуло красное знамя. А левее, где во всю длину переулка чернел заводской забор, взлетели, словно белые голуби, листовки.
Всю неделю гоняли эскадрон в патрулирование по улицам столицы. Так и не выпало дня, чтобы Борис получил увольнение из казармы. А ведь хотелось именно теперь повидаться с «часовщиком», понимая, что не зря Сергеевич намекал на «срочную починку часов».
Хоть эскадронный командир и косо поглядывал всегда на Бориса, но ведь не он один офицер в эскадроне. Куда деться от того, что на Бориса заглядывались все остальные офицеры. Хоть на вольтижировке, в манеже, хоть во время рубки лозы.
Крадётся дежурный офицер на конюшню. А куда ему деться от зоркого глаза Бориса, крикнувшего, чтобы все дневальные слышали:
– Смирно!
С ухмылкой, покручивая гусарский ус, дежурный офицер похлопал Бориса по погону и сказал:
– А мне твой эскадронный говорил, что ты раззява! – и дыхнул на Бориса перегаром водки.
Дежурного офицера кавалеристы прозвали причудником.
Оглядев лошадей и кормушки, Причудник поманил пальцем одного из дневальных и сказал ему:
– В Твери, помню, на маневрах ты троих уложил на лопатки. Можно сказать, технику французской борьбы знаешь, учился этому, а?
Кавалерист-дневальный ответил офицеру, что учился у чемпиона мира Ивана Заикина. У русского богатыря:
– Я тогда в цирке конюхом работал…
Причудник сузил глаза так, что в щелочках меж ресниц светились только лишь чёрные зрачки. Он повернулся на каблуках, пришлёпнул подошвами так, что зазвенели шпоры, и спросил Бориса:
– Ну а ты, могучий с виду, не борец? Схлестнёшься с ним?
Борису, когда он еще пареньком был, случалось крадучись взбираться на тесовую крышу цирка, просовывать под брезент голову и глядеть, как борцы выходили на арену в параде-алле! А потом видеть схватки борцов. Всё плотнее прижимаясь животом к доскам крыши, Борис видел на арене и Заикина, и Поддубного, и Святогора Длиннорукого, который без всяких усилий почти брал в обхват противника. Тогда арбитр выкрикивал:
– Двойной нельсон!
Борис догадался, что выгода будет, и, стукнув каблуками, звеня шпорами, вытянулся перед офицером в струнку:
– Схлестнусь! – сказал он, – а что за это? Увольнительную бы к сестренке на пироги…
– Дам увольнительную, – ответил Причудник, – тому, кто победит…
– Прикажете начать, ваше благородие? – спросил Борис.
– Снять мундиры! – крикнул офицер. – Борьбу начать!
В ту же минуту Борис притиснул противника на песок, которым были посыпаны и дорожки, и площадки в конюшне.
– А еще можно? Ваше благородие, можно? – спросил побежденный. Офицер кивнул.
Борис, поняв, что противнику незнакомо многое из правил, задумал удивить офицера техническим приёмом французской борьбы и кинул противника через себя, сперва подержав над своей головой, а затем, крутнув ещё несколько раз как нечто лёгонькое, притиснул почти намертво к песку.
– Вот гад, – зло произнёс побеждённый, вставая и покачиваясь на ногах. – Эх,– через минуту отдыха, – ещё бы, ваше благородие?
– Хватит! – кусая губы, сказал офицер. – Поживи еще. Не спеши в могилу! – и повернулся к Борису: – Фамилия? Имя? Откуда сам?
– Светлов, ваше благородие, Борис Петрович. Из Царицына на Волге. Тут у меня двоюродная сестрёнка… Дядя, дворник у фабриканта… – придумал Борис и получил увольнительную на весь воскресный день.
Адрес Антона Григорьевича не был замысловатым, да и Борис, бывая в патрульных разъездах, узнал улицы Петербурга, догадываясь теперь, куда ему путь держать, а вскоре остановился у дверей мастерской «Часовых и ювелирных дел».
Огляделся, прошёлся до угла. Посмотрел на полицейского у дверей фотомастера, направился туда, решив заказать четыре фотокарточки. На полдюжины у него не хватало денег, да и нужды в этом не было.
– Одну для матери, – думал Борис, – одну Марии. Пускай вспоминает солдата. Одну себе, одну Сергею Сергеевичу. А читая квитанцию, обрадовался, что получил право на отлучку из казармы к фотографу, а там и опять к Антону Григорьевичу.
И вот он опять у остеклённых дверей мастерской. Видит хозяина и заказчицу.
Решился войти, не дожидаясь, когда уйдет из мастерской заказчица. Открывая двери, Борис говорил себе: «Здравствуйте, Антон Григорьевич. Принёс я вам карманные часы в починку. Степанов советовал обратиться к вам. Служу в кавалерии, а сам из Царицына…»
Ещё шпоры на сапогах не звякнули на пороге мастерской, ещё никакого звона, а мысли у Бориса сменились: «Я к вам от Сергея Сергеевича».
Он не стал рассматривать перстни и серьги за стеклом наличника, не до любованья было ему и старинными часами, которые тикали вразлад, покачивая свои тяжёлые маятники. Борис пристально посмотрел на ювелира, в его выпуклые глаза, увеличенные стёклами пенсне и, казалось, очень уж холодные.
Седоусый ювелир держал на ладони серьги. Спиной к Борису стояла, видимо, хозяйка их. Ей ювелир и сказал:
– Не рекомендую, барышня, менять рубиновые камни на изумруды. Подумайте хорошенько… – обратился к Борису: – Какое у вас ко мне дело?
– Вы починяете часы? – спросил он.
– Нет! Я латаю галоши! Вы куда пришли? – ответил ювелир. – Вы из какого кавалерийского полка, а? Вы вывеску мою видели? Что тут делают? Сапоги починяют или часы?.. – Борис оторопел. Ювелир вдруг улыбнулся, удивив Бориса не по годам молодыми зубами. Любой орех, казалось, под силу таким зубам.
– Вот записка, – будто рапорт отдавая офицеру, произнёс Борис, – записка от Степанова из Царицына…
Ювелир снял пенсне, взглянув на девушку, а она заметила, как дрогнула рука ювелира, когда он брал записку, сказав:
– От какого такого Степанова?! Давайте… – но как только прочёл пароль «Подымайся! Делу сутки, а потехам празднички!», тут же воскликнул, весело взглянув на девушку: – Наташа! Земляк ваш прибыл в наш эскадрон!
– Да, да, да! Это он меня не арестовал…
– Ну?! Что я слышу?!
Наташа шагнула к Борису, сказав:
– Дорогой ты мой земляк… Зовут тебя как? На какой улице жил в Царицыне?
– Поубавь, Наташа, свою напористость… – строго произнёс ювелир. – Да, земляк он тебе, земляк. Борис Светлов…
– Борис? Прекрасное имя… – продолжала Наташа, но Антон Григорьевич несколько грубо прервал:
– Наташа! Ведь можно об этом потом? – и вышел из-за прилавка, оперся спиной на застеклённый наличник, протягивая руку: – Так какие же такие часы у тебя потребовали ремонта? Покажи…
– А их у меня и не было… – улыбнулся Борис. – Это просто намек!
– Угу! Счастливый, значит. Счастливые часов не наблюдают… Намёк? А мне будто невдомёк… – весело проговорил ювелир и обернулся к Наташе: – Отправляйся с Борисом к Тополю за листовками для солдат. С листовок пока и начнём. Идите, конечно же, не спеша. Будто прогуливаясь…
– Это верно, – сказал Борис, – постараемся не вызвать подозрений.
– Желаю удачи, – попрощался Антон Григорьевич.
– До свидания, – вежливо произнесла Наташа, и они пошли, но остановились у дверей.
– Я расскажу о книгах, которые я прочитал, а прочитал я их много.
– Вот и я ещё дам книги.
– Значит, их тоже прочту, – весело отвечал Борис.
– Ну, в путь-дорогу! – проговорил Антон Григорьевич, тронув Бориса за погон. – Кличку всё же вы мне свою назовите…
– Волгарь, – ответил Борис.
– Хорошая кличка. Широкая! Обещающая… – одобрительно сказал Антон. – Как поживает Степанов? Он не женился? В девятьсот шестом похоронили мы его жену…
– Не женился, – ответил Борис, решив, что было бы нетактичным спрашивать, а что поделывал в Царицыне Антон Григорьевич в году девятьсот шестом.
«Он, – подумал Борис, – и в Царицыне был опытным «часовых дел» мастером, как теперь вот стал опытным «ювелиром» в столице…»
За порогом ювелирной мастерской нахлынули на Бориса и Наташу шумы-гамы уличные: два громоздких автомобиля, обгоняя экипажи, неистово сигналили; извозчики, бранью перекликаясь, хлестали кнутами своих лошадей.
Читая вывески булочных с обязательными над дверьми золочеными кренделями, закрученными в восьмерку, читая вывески магазинов и трактиров с такими же названиями, как и в Царицыне: «Орел», «Синенький», «Приют домовых извозчиков», Борис почти не спускал глаз и со спины Наташи. Тоненькая в талии, она энергично шагала, твердо ступая, что свойственно людям, уверенным в том, что они знают, куда и зачем идут.
Хозяин конспиративной квартиры, человек уже лет семидесяти пяти, был сухощав. Живые и весёлые глаза его светились приветливостью и пытливо вглядывались; высокая фигура его, до удивительного стройная не по годам, отвечала партийной кличке – Тополь.
Листовок у него на квартире оказалось всего лишь несколько. Он радушно предложил чай с бубликами. Сбегал, как молодой, в соседнюю булочную.
Шумел на столе самовар. Хозяин квартиры интересовался делами большевиков в Царицыне, куда дважды за прошлое лето посылался Антоном Григорьевичем к Степанову с нелегальной литературой.
Интересовалась и Наташа, чтобы затем осведомить Антона Григорьевича. Вспоминала она и свое детство, рассказывая, как ей, когда-то одиннадцатилетней девчушке, довелось ужаснуться, увидав мать в гробу.
– А когда отец привел в дом мачеху, – продолжала Наташа, – за мной приехала и увезла в Питер сестра моей матери тётя Клава. У неё тогда, как и теперь, столовались студенты. Двое из них оказались из Царицына…
Борис узнал из рассказа Наташи и о том, что студенты, столующиеся у её тети Клавдии Петровны, подготовили Наташу во второй класс гимназии, что в те времена в казенных гимназиях преподавали только французский язык, и лишь в одной частной гимназии – английский. Тетя Клава понимала, что английский язык практически полезен: язык инженеров и международной торговли, и уступила рекомендациям студентов.
– Потом, когда я, – продолжала Наташа, – уже работала, студенты за обеденным столом разговорились о подъёме рабочего революционного движения в России.
– В воздухе, господа, пахнет и войной и революцией! – сказал тогда студент последнего курса Аркадий Чекишев.
– Может быть и так… – усмехнулся тогда же в ответ Чекишеву студент Иванов. – Но разговоры у нас абстрактные. Познакомиться бы с теорией революционного движения, а?
Чекишев энергично взялся тогда же за дело. Вступила и Наташа в подпольный студенческий кружок.
Время шло. За неделю перед получением дипломов Чекишев и Иванов, ссылаясь на свою занятость, попросили Наташу выбирать темы для бесед в кружке. А вскоре они прислали записку: «Программу большевиков мы не разделяем. Немыслимо идти на вооруженное восстание. Дипломы у нас в карманах, и мы должны о себе заботиться».
Записку Наташа получила в конторе издательства технической литературы, где к тому времени она работала переводчицей английских новинок. Недалеко было отсюда и до ювелирной мастерской.
– Что же, – сказал ей тогда Антон Григорьевич. – Случается и такое!
В тот же вечер Наташа всю нелегальную литературу сдала Тополю.
– Вот, землячок, и вся моя история… – вздохнула Наташа, прямо в упор и пытливо взглянув в глаза Борису. – А дорога дальняя. Всякое ещё может случиться, а?
Девичья стыдливость заставила её умолчать, что она теперь хотела бы не разлучаться с Борисом. Никогда.
И Борис о том же мечтал, но как и Наташа, не мог решиться сказать, что встречу видит каким-то святым началом внезапно нахлынувшей любви. И не потому не сказал об этом, что за столом был Тополь. Минуту можно было найти для откровения… но вот откровение-то засыхало на губах. А ведь Борис был не из трусливого десятка.
Чтобы скрыть свою растерянность, угаданную Наташей в выражении его глаз, Борис заговорил про Григория Григорьевича. Наташа поняла, каким Борис бывает, если с товарищем случится несчастье. Да, он не задумываясь, что может сам погибнуть, кинется на врага. А таких будто пуля минует, штык боится.
Все завораживало Наташу: поворот головы Бориса, мягкое прикосновение сильной руки к стакану, пытливый бросок взгляда проницательных глаз на собеседника. Оттого Наташа и поправила кофточку, стараясь спрятать выпуклую девичью грудь, хотя Борис всего-то глянул лишь на подбородок Наташи, любуясь его очертанием…
* * *
Вымощенный крупным булыжником казарменный двор был узким и длинным. Кавалеристы, привыкшие к воцарившемуся тут запаху конского навоза и прелого сена, показывали свою удаль и ловкость на турнике в углу двора, а иные старались на руках дойти к столику, на котором лежал фунт говяжьей колбасы, сдобренной чесноком настолько, что запах угадывался в трех саженях от стола.
Это расщедрился все тот же Причудник – для развития спортивной ярости у солдат.
Борис пошёл в кубовую за кипятком. Там его встретил один из кавалеристов и возвратил ту самую листовку, которую Борис сунул ночью в его сапог.
– Прочёл я, – сказал кавалерист, – и у меня мороз пошел по коже, я тебя Христом Богом прошу – забудь мой сапог! Не суй в него такие страсти. Видел я тебя, праведника, у моего сапога!
Борис не нашелся ответить. Отказаться? Признаться? А солдат уже за дверью.
Ровно в десять утра Бориса послали с пакетом в штаб командующего военным округом. Борис рад был отлучиться из провонявшей навозом казармы. Будто бы и конь его рад был. Но быть тому! За воротами казармы, в переулке повстречался малоусый офицер и хлыстиком ударил лошадь Бориса под самое щекотливое место. Конь вздыбился. Борис не выпал из седла, чего так хотел офицер, и злой на все, что видел вчера и что мог видеть завтра, злой на всяческую несправедливость, желая разом её погасить, он обрушил вздыбленного коня на офицера, думая, что полной горстью отсыпал врагу возмездие. Не оглядываясь на затоптанного копытами малоусого, Борис пустил своего коня галопом.
Куда же было деться от такого поступка, если Борис горяч был, если в душе у него жила всё время одна мысль – отомстить за мучения Григория Григорьевича в тюрьме.
В леса под Петербургом умчался Борис. У одинокой избы в лесу остановил своего коня. У ворот бревенчатой избы стоял рыжебородый мужик.
– Давно ли тут проскакали всадники? – спросил его Борис.
– А чего это им тут?
– Ищем беглого солдата… – ответил Борис и, властно отодвинув рыжебородого мужика от ворот, завёл во двор коня, приказывая мужику приготовить воды:
– Отдохнёт конь, напою. А сейчас сенца подкинь!
Двор рыжебородого мужика был покрыт густой зеленой травой, растущей врасстил по земле. Тропинок от крыльца только две: к сараю да к воротам. Чем же всё-таки жил мужик, во дворе которого очутился Борис? Может, он пасечник, коль не в деревне его дом, а в лесу. Деревню в пять-шесть дворов Борис недавно миновал.
Приглядываясь к мужику, вздохнул и сказал, что блуждать по лесу ой как нет охоты, да и с дороги, мол, сбиться можно, если недалёк уж час ночной. Мужик посочувствовал и предложил Борису заночевать у него, да ещё и разговорился. Жизнь в лесу, видимо, вынуждала к тому, если он вдруг заговорил, что тоже служил царю, что казарма царская тюрьмой показалась после жизни в лесу, где и грибы, земляника, малина, орехи:
– Лес у нас такой, что и впрямь заплутаешься. Ночуй. Скажешь своему эскадронному, что сбился с дороги, заплутался в лесу. А что такого натворил беглый солдат? Расскажи, а?
Борис ответил уже в конюшне, когда завёл туда своего коня, что, мол, ничего страшного беглый разыскиваемый солдат не натворил, что всего-навсего сбил офицера копытами своего коня.
– Ох, горяч в поступках беглый… У-у-у-у! За это расстрел, аль того хуже – вечная каторга. А всё же молодец он, что сумел сбежать. Ему ничего больше не оставалось. Проживёт. Россия велика. Леса вон какие, а ещё говорят на Дону, на Украине, на Кубани степи бескрайние. Не пошёл бы на разбой… – сокрушался мужик, опустив свою голову на грудь: – Беглец-то при оружии?
– Безоружный… – ответил Борис. – Ну, что же, спасибо тебе за приглашение… Ночую у тебя.
– А чего же! Ночуй! Пойдем чего-нибудь пожрём. Груздочки солёные у нас не переводятся… с отварной картошкой, а? Хочешь?
– Ещё бы! Не откажусь! – улыбнулся Борис, – соленые груздочки! С отварной аж картошкой! Давай! Давай! Пойдём скорее!
Рыжебородый мужик после ужина отвел Бориса ночевать на сеновал. Не постелил в доме. Борис даже обрадовался, что так обошлось, не понравилась ему хозяйка бревенчатого дома, молчаливая, косо кидавшая подозрительные, недоверчивые взгляды. Борис не сразу догадался, что хозяйка глухонемая. Когда же догадался, подумал: «И надо же! В лесной глуши жить с глухонемой женой».
Рыжебородый мужик, кривоносый малость, очень уж раскосый, догадываясь, о чём думает Борис, сказал:
– Благодать, а не жизнь, – он кивнул на свою жену, – я её вчера так обругал, что самому ну хоть в землю провалиться… Но успокоился тут же, вспомнив, что жена моей ругачки и не слышала… Благодать, а не жизнь!
На сеновале Борис о чем только не думал, чуть придремнул, и опять сон как рукой сняло. Всё слушал, как его конь хрумкает сенцо.
Слушая шелест леса, Борис думал:
«Да, дурак я! Горяч! Офицеру безусому улыбнуться бы. Вот и остался бы в казарме, делая всё, что поручил бы мне Антон Григорьевич. Встречался бы у Тополя с Наташей…»
Хозяин одинокой избы в лесу, может, и не спал всю ночь, раз Бориса встретил у лестницы на сеновал. Борис спускался со ступеньки на ступеньку, когда услыхал голос мужика:
– Ну и как спалось? Седлать будешь? Может, молока парного хлебанешь? – не ожидая ответа, мужик похлопал, погладил коня по шее: – Добрый конь. Мне бы такого… – с какой-то завистливой просьбой произнес он. Борис тут и решился признаться мужику о том, что надумал ночью:
– Нет у меня охоты возвращаться в казарму, – сказал он. – А если конь тебе по душе – покупай! А я? Стану я беглым солдатом. Сумею прожить! В России степи бескрайние, а леса непроходимые, дремучие, а?
– Иди ты! Не врёшь? – усомнился мужик и с какой-то тягучей ноткой в голосе добавил: – Два года копил я деньги на лошадку…
– А её тебе вот и послал Господь Бог! Продам!
– За сколько же? – и стал тут мужик такое молоть, что Борис уже предвидел. Заговорил мужик о том, что у коня хвост казенный – обрезанный, что нужно будет на рубль, мол, купить конского волосу, чтобы удлинить хвост, да рубля три на пропой с урядником. – Сбавляй с твоей цены сразу четыре рубля, а?
Борису деться некуда. Уступил. Продал дорогого царского коня. Заплатил за ночлег и харчи.
– Скажу тебе, – обнял мужик Бориса, – хороший ты парень! Но горяч в делах… Поберёг бы себя… Ты около сердца всегда горсть снега имей!
Прошло время, которое провел Борис на сеновале. Отрастил бороду и усы. Мужик снабдил Бориса крестьянской одежонкой: портками, лаптями, посохом, и заявился Борис в Петербург, как лесной мужик, каких тут пруд пруди. Шел Борис на квартиру к Тополю.
Прежде чем уйти от мужика, Борис зашёл на конюшню, обнял там коня за шею, поцеловал около глаз, крупных и заметно тоскующих, словно лошадь чувствовала навечное расставание с Борисом. Когда он был у ворот, конь косо взглянул на своего нового хозяина и, посмотрев в спину Борису, тихо заржал, да так, что Борис такой тоски и не слышал никогда за все месяцы дружбы с конем. Если бы Борис вернулся, то увидел бы, как из крупных умных лошадиных глаз скатились слезинки.
– Невдомёк мне, – сказал мужик Борису за воротами на прощанье, – зачем тебе такие нежности с лошадью? Душа у тебя, значит, отзывчивая. Счастливая будет та, на которой ты женишься. Только мнится мне, что век тебе вековать неженатому. Беглый ты солдат…
Повстречаться Борису с Наташей в маленьком домике у Тополя не довелось. Наташа уехала в Финляндию, чтобы привезти из Гельсингфорса в Петербург письма Ленина, присланные им нелегально из Польши для газеты «Правда». На встречу с Борисом Антон пришёл к Тополю, когда было уже за полночь. Беседовали недолго:
– Вот пакет за сургучными печатями, – сказал Борис, отдавая не доставленное им командующему военным округом.
Прочитал Антон Григорьевич:
– Скоро возможна империалистическая война… Передел мира. Рабочий класс, крестьяне, получив винтовки, должны войну капиталистов превратить в войну гражданскую. В нашу войну! А тебе надо теперь скрываться от полиции в глухих лесах.
В лапти обутый, в сермягу одетый, с бородой Борис уехал на лесоповал.
Познакомился в трактире с Иваном. Тогда он жалостливо очень говорил Борису о своей жизни лесоруба, о горькой доле, когда прожить не знаешь как с женой и сыном, зимующими без него.
– Езжай, говорю тебе, в Царицын! Бери вот деньги на дорогу. Бери! А в Царицыне ищи меня в харчевне. Там встретимся. Бороду мою запомни!
Зимовать, конечно, нелегко, если закрома пустые, если по двору – хоть шаром покати.
В долги влезть могли бы, ожидая Ивана с лесоповала, жена его Катерина и сын Андрей, если бы не заработки у них от случая к случаю: Катя прирабатывала на очистке конюшни старосты, а Андрей в сельской кузнице подрабатывал.
Ещё в детстве Андрея сельчане полюбили, когда он сказал, что мужику без земли, без лошади, коровы и плуга не прожить, детей не прокормить. Он всегда бегал среди взрослых впереди отца, что-нибудь обсуждающего с сельчанами.
– Ехать, что ль, нам косить сено, – спрашивали мужики, ехидно ухмыляясь, – аль дождик вдарит?
– Езжайте, – вполне серьезно отвечал, поглядев из-под ладошки на небо, – неделя выдастся сухая…
– Ну а кем ты будешь, когда с отца ростом станешь? – приставали к нему мужики, перемигиваясь. И он, не смущаясь, опять же серьёзно отвечал:
– Генералом буду…
– Погоди-ка! А видел ли ты генерала? Он, что? Бочарничает аль валенки подшивает?
– Э-эх вы! – смеялся Андрей. – Был такой Суворов! Про него на календарной картинке читал я отцу, как он через Чертов мост войска провел!
С того дня Андрея прозвали ещё и «генералом». Изба их стояла на отшибе, где сходились дороги: из других деревень, из леса и пахотных полей, а невдалеке, между зелёными холмами, бежал лесной ручеёк. Избу, стоявшую на пригорке, всю обдувало ветрами: северными, восточными и западными. С юга ветерок не шуршал на крыше. Но будто иной раз, обозлясь, когда и ветра совсем нет, налетал на двор Бородовых вихревый ветер с юга. Кружится тогда пыль на этом месте чуть не до неба, взметнет вверх высохший навоз, да и сбросит опять. Через неделю – опять. И пошел разговор, что тут дело нечистое, если после третьего вихря занемогла корова пришлось её прирезать. А вслед за коровой ни с того ни с сего ночью лошадь околела.
Иван намеки односельчан о лукавом духе, который по обличью и с рогами на голове, и с копытами на ногах, только отмахивался, хмурясь, и отправлялся на заработки. Часто из окошка избы поглядывали на дорогу, все ожидая кормильца, Андрей и Катерина…Вот уж ручьи сбежали по извилинкам, добрались из самых темных уголков дремучего соснового бора, где в оные времена Иван Сусанин был изрублен польскими панами, возгоревшими желанием покорить Русь, прибежали к Волге. Вот уж слышны издалека пароходные гудки, а Ивана все нет и нет.
Голодно жилось. Надо идти Андрею в сельскую кузницу, думая все об одном и том же: «Скоро ли с лесоповала вернется отец?». Идет Андрей вперед, а поглядывает на дорогу: появится ли из-за леса отец?
Встретил Андрея кузнец, как и всех встречал – улыбкой. Шевельнулась небольшая бородка кузнеца с рыжей краснинкой. Темные усы и кругленькая низкорослая фигура так и манили на беседу каждого. Кузнец если и сердился, то не со злобой глядел на зажатую в клещах раскаленную подкову с искорками удивления в серых, с голубинкой, глазах. Он приговаривал:
– Ишь ты, подишь ты! Не отбрыкаешься! Откую, как надо! Будет подкова!
Только шагнул в кузницу, а кузнец уж подмаргивает:
– Ой, в нужную минуту пришел!
Андрей по взгляду кузнеца догадался, какой инструмент брать в руки и что ковать будут. Такое не впервые. Поработали с часок и закурили из кисета кузнеца. У Андрея закружилась голова. И принялся кузнец говорить о том о сем: землицу, мол, какая у мужиков, всю запахали, засеяли, безземельному лучше бежать отсюда.
– Ты, Андрей, выйдешь в люди. Способен, силен, здоров, смекалка еще с детских лет у тебя есть. Я правду говорю… – убеждал кузнец.
Да в самом деле, откуда бы кузнецу знать? Он-то знал, а вот сельчане не знали, что из Иваново он вернулся в родное село и расстался с ткачами – неспроста. Там его уже искала полиция. Вот его товарищ Арсений, Михаил Васильевич Фрунзе, и послал сюда работать.
Большевики тогда начали делать крупные шаги в деревню: просвещать крестьян. Кузнец такому делу был обучен в подполье. Вот и заговорил с Андреем о том, что у кузницы не одни мужики поговорить, покурить останавливаются, бывают и мастеровые. Дорога проезжая-прохожая. Народ бывалый. Они рассказывали, что в Царицыне оживленно. Царицын, говорят, город особенный на всю Волгу: железные дороги там схлестнулись – на Дон, Кубань, к Азовскому и Черному морям. И на Украину. Одного, говорят, антрациту много пудов на баржи из вагонов сгружают. А еще больше с Дона и Кубани пшеницы. Плотов от нас туда гонют – тыща! Лесопилок в Царицыне уйма!
Взглянул на красивое худощавое лицо Андрея. Чуточку выпуклые черные глаза светились добротой. Заметно выделялась бугристость над тонкими бровями Андрея, отчего лоб его казался малость надвинутым к переносице. Прямой нос, тонкие губы, плотно сжатые, придавали лицу строгое выражение, чуть гасимое добротой сияющих глаз.
– Катерина не супротивничала бы отъезду… – не унимался кузнец, то и дело сдувая пепел с цигарки.
– За отцом она в огонь и в воду.
– В огонь и в воду! – воскликнул кузнец. – Ишь ты, подишь ты, какой счастливый!.. Иные бабы… о! Взъерепенятся и дыхнуть не дадут. Езжайте, говорю, в Царицын. Это город не какой-нибудь… Ха-ха! Вот и Катерина избавится от батрачества на лавочника, на старосту. Не век ей конюшни у них чистить, навоз лошадиный нюхать. Эх, весна! Уходит она, лето подваливает в леса! А ты не тоскуй по землянике, орехам…
* * *
Весна в самом деле была дружной. И в Петербурге начало теплеть.
В одну из ночей жандармы разгромили подпольную типографию большевиков. Произвели обыск и на квартире Клавдии Андреевны, допытываясь, где же ее приемная дочь. Фотокарточку Наташи тут же взяли с комода и отдали присутствующему при обыске сыщику.
Ничего нелегального не обнаружив, жандармы все же оставили засаду, намереваясь арестовать Наташу, как только она появится на пороге. Жандармам и невдомек было, когда Клавдия Андреевна, жалуясь, что табачного дыма – хоть топор вешай, открывая форточку, сдернула с гвоздя на раме сине-желтую ленточку, видимую издали хоть в солнечный, хоть в туманный день. Ночью сигнал – темнота. В этой комнате до возвращения домой Наташи никогда не зажигали лампу. Если лампа зажжена, то входить в дом запрещено. Наташа, возвращаясь домой, заметила отсутствие сигнала, повернула за угол улицы и поспешила к Антону Григорьевичу, который был уже осведомлен о разгроме подпольной типографии и о том, что произошло в квартире Наташи.