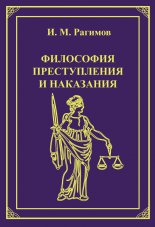Жизнь в Царицыне и сабельный удар Новак Владимир

– Провокатор оказался в рядах большевиков, – сказал Антон Григорьевич. – Значит, мы в ком-то ошиблись. Надо это учесть, догадаться, кто провокатор, хорошо все обдумать, запомнить на будущее. Наташу хотят арестовать… Вам придется уехать из Петербурга. Сейчас мы решим, куда и с каким паспортом. И это наша тайна. Не должна знать Клавдия Андреевна.
– Прошу направить меня в Царицын, – попросила Наташа и постаралась доказать резонность своей просьбы. – Если переходить на нелегальное положение, – продолжала она, – если жить мне по чужому паспорту, так лучше там, где я все знаю: улочки, переулочки. Ведь там меня даже отец родной не узнает теперь.
Антон Григорьевич строго глядел в глаза Наташи, чуть раскосые, чуть насмешливые, чуть настороженные и какие-то умные, строгие девичьи глаза, ищущие во всем окружающем неожиданное и также хорошее, доброе.
– У меня возражений нет, – ответил Антон Григорьевич, – буду просить нашу группу большевиков принять такое решение.
В самом деле: в Царицыне металлургический гигант французской компании. Строится пушечный завод на английский капитал – «Виккерс и компания». Иностранный капитал проникает на Волгу. Именно в Царицын, где узел железных дорог, где лесопилок до тридцати, где паровые мельницы, маслозаводы, два паровозных депо. Среди тысяч рабочих большевику найдётся дело. Однако большевиков там как раз столько, сколько пальцев на руках.
Тут в мастерскую зашел какой-то человек, взял свои отремонтированные часы и ушел.
Глянули ему вслед и продолжили беседу большевики:
– Нам, Наташа, известно, что вчерашние студенты Чекишев и Иванов, теперь один из них – инженер горных дел, а другой – юрист, – ваши земляки, они из Царицына ведь? Что скажете на этот счет?
– А если они мне встретятся? Скажу, что была неудачно замужем. О революции думать забыла. Ну а у отца, у мачехи особенно, мне делать нечего. – Наташа искренне рассмеялась: – Все в былом, все во вчерашнем! Отец и не узнает меня. Не одиннадцать мне уж лет, а двадцать второй…
Наташа получила из рук Антона Григорьевича паспорт на имя Дорониной Зинаиды Андреевны и выехала из Петербурга поездом.
Словно в угоду желаниям Наташи, уже близ Царицына поезд мчался, как курьерский, огибая Мамаев курган. Наташа прильнула к окошку, увидела Волгу. И слезинки радости появились в глазах.
А вот и паровозное депо, привокзальные будки стрелочников, перрон вокзала: каменные, исщерблённые временем плиты. У входа в вокзал все тот же седоусый контролер. Он, почувствовав на себе пристальный взгляд Наташи, сказал:
– Добро пожаловать, барышня, в наш город! Доброго вам счастья! – и даже по-солдатски приложил ладонь к лаковому козырьку черной казенной фуражки.
Наташа кивнула ему, улыбнулась и подумала: «Добрым словом тут встретили меня… Эх, счастье, счастье…».
Не для себя одной хотела Наташа счастья. Она всегда думала, что не бывать счастью у нее в доме, если вокруг столько бедных, обездоленных, голодных.
Сдавая теперь свой чемодан в камеру хранения, Наташа вдруг почувствовала себя прежней девчушкой. Казалось, что она никуда никогда не уезжала из Царицына. Вот и привокзальный садик, круглый, похожий на волшебную карусель за штакетником, окрашенный по казенному красным суриком, тем самым суриком, каким обычно окрашивают товарные вагоны.
На углу коротенькой улицы Гоголя, перед Александровской площадью, по-прежнему аптека, в которой Наташа когда-то школьницей еще покупала мятные лепёшки.
А вон всё та же длинная вывеска «ЧАЙ ВАСИЛИЯ ПЕРЛОВА». На вывеске китаянки под зонтиками, джонки-лодочки китайские под парусами. А вот магазин братьев Добиных, где тётя Клава, уезжая из Царицына, купила себе золотой перстенёк с аметистовым камнем. Перстенёк этот она потом подарила Наташе, когда та закончила учебу в гимназии. Поблескивает он на мизинце левой руки. Посматривает на него Наташа и думает: «Что теперь в Петербурге, у тёти Клавы?».
Наташе надо засветло добраться до металлургического завода, на Заовражную улицу, к Степанову. Путь неблизкий, и Наташа наняла извозчика. Калитку открыла Груня. Наташа, предупреждённая Антоном Григорьевичем, что дочь Степанова тоже подпольщица и знает пароль, спросила:
– Не у вас ли столуются студенты?
– Помилуйте, – ответила Груня, понимая, кто перед ней, но проверяя эту догадку, добавила: – Какие в Царицыне студенты? Это вам не Саратов и не Казань…
– А разве на практику к мартеновцам студенты не приезжают? – продолжала Наташа. – Мне бы комнатку или угол. Я приехала на практику…
Чуть улыбаясь, Груня пригласила Наташу в дом и спросила:
– Откуда вы?
Не успела Наташа ответить, как на пороге появился Сергей Сергеевич. Ему Наташа и вручила письмо от Антона Григорьевича.
Стало по-вечернему синеть за окнами. Груня, задёрнув занавески, зажгла лампу. Из-под зеленого абажура мягко упал свет на розовую скатерть. Остыл уже и самовар на столе, а расспросам, казалось, конца не будет. Но вот заговорили о делах большевиков в Царицыне, о том, что после расстрела рабочих на золотых приисках сибирской реки Лены образовалась на металлургическом заводе, принадлежащем французской компании, инициативная группа РСДРП.
– Подробнее узнаете потом, – продолжал Степанов, – когда обживетесь, оглядитесь. В пропагандистах у нас тут нужда. Особо в рабочей воскресной школе на нефтеперерабатывающем заводе Нобеля. Квартиру я вам устрою почти в центре города, за Астраханским мостом, в Арзамасском переулке… А работать где думаете?
– Уроками займусь. Преподавать отстающим ученикам английский язык. Так думаю… – ответила Наташа.
– Не получится. У нас тут один из товарищей замыкался по городу из конца в конец, от ученика к ученику, а и двадцати рублей не зарабатывал в месяц. Уехал в Саратов… – сокрушался Степанов, – что-то нам надо придумать…
– Ничего придумывать не надо, – вступила в разговор Груня, – было в газете объявление: в контору Лужнина требуется секретарь, знающий английский язык. Торговый дом Лужнина на полмиллиона в год получает колониальных товаров…
– Завтра же схожу в эту контору… – торопливо сказала Наташа.
– Да-да! – продолжал Степанов и спросил: – А как с деньгами на харчи?
– На месяц хватит… – ответила Наташа.
– Это хорошо, – закивал головой Степанов и продолжал: – А то у нас в партийной кассе всего-то ничего. Может, кто и еще пожалует. Вдруг безденежный если? Через полмесяца станем побогаче, начнут поступать партийные взносы. А контору Лужнина вам Груня завтра укажет.
– На Анастасийской улице… – улыбнулась Наташа. – Там же и магазин, где я школьницей покупала турецкие рожки… Там?
Вот и узнали, что Наташа родом из Царицына, что она росла тут, пока мать была жива, пока отец не привёл мачеху.
– Из Петербурга тогда приехала тетя Клава и увезла меня, – закончила свой рассказ Наташа.
– А теперь как же? К отцу пойдешь? – спросила Груня.
– Зачем? Не видела его десять лет и видеть не хочу, – ответила Наташа. – Он заставлял меня целовать след мачехи…
– Ужас! Какой ужас! – возмущалась Груня.
– Вы мне роднее родных… – прервала все рассуждения Наташа и добавила: – Надо не забывать, что я теперь на нелегальном положении, что я уже не Наташа, а с паспортом Зинаиды Дорониной.
Степанов расшагался из комнаты Груни в кухню. Останавливался на миг, разглядывая Наташу. Он улыбался. Ему было весело.
– А не доводилось ли вам, Наталья Владимировна, встречать у Антона Григорьевича в его мастерской кого-нибудь из Царицына? – спросил он.
Слушая рассказ Наташи о встречах с Борисом у забора Путиловского завода и в ювелирной мастерской, глаз не отводил, ловил каждое слово. А дослушав, сказал озабоченно:
– Грустно мне, как подумаю о Борисе, заброшенном судьбой в северные края, с Борисом рядом всегда надо быть кому-нибудь из нас. Предостерегать, чтобы он не сбивался с пути большевика. А парень он хороший, отважный, смелый парень…
А чего было беспокоиться о Борисе? Он уже во многих городах Вологодской, Костромской, Нижегородской губерний побывал. Все села и деревни, где ручной промысел, исходил, изъездил, прикидываясь скупщиком ложкарного товара – свистулек, половников, раскрашенных под золото. На лесоповале Борис встретил Ивана и, выслушав его рассказ о тяжелой жизни, посоветовал ехать в Царицын. Там жилье найдется. И работа найдется!
– Есть там харчевня около Вознесенской церкви. Там меня увидишь. В харчевне той. Там все сезонники сходятся.
…Изумились Андрей и Катя, услыхав долгожданный голос Ивана, темной ночью пришагавшего с лесоповала.
– Узнал я, что есть город Царицын – так там можно хорошо зарабатывать! Вот туда поедем жить.
– Соберем вещички и в путь, к новой жизни.
– А с долгами как быть?!
– Я у кузнеца в подручных работал… Все соседям роздал долги… – ответил Андрей, вызвав довольную улыбку отца.
Иван шагнул за порог, сильно толкнув ветхую дверь российской бревенчатой избенки, уже падающей одним углом, полугнилой, с запахом, напоминающим трехсотлетие Дома Романовых.
Решительность отца, его насмешки над пустым столом, проклятия лавочнику и старосте развеселили Андрея. Он и закуривать не стал, как обычно спросонья. Шел и дышал лесным воздухом. Радовался, что характер отца круто меняется.
На зеленой полянке за околицей села, где начинался сосновый бор, Андрей приостановился и без сожаления подумал: «Теперь уж без меня сойдутся на Петров день парни и девки плясать и песни петь на этой вот лужайке… Ну, что ж!..».
Глянула на полянку Катерина, вспоминая первую встречу тут с Иваном, самым ловким и сильным тогда парнем на селе. Вот как годы летят – будто вчера была первая встреча, а минуло уж более двадцати лет…
Иван тоже взглянул на лужайку, место своей ушедшей молодости, когда тут встретил Катю, девицу привлекательную, да еще в венке из всяких цветочков. «Словно царевна она выглядела тогда, – подумал Иван, поглядев на жену. – Всем девкам была девка!».
Грустное лицо Андрея повеселело; картуз лихо сдвинут наискосок к затылку. Это Ивану пришлось по душе. Тоска по дому, покинутому навсегда, неведение о предстоящем отлетели куда-то. Он любовался сыном.
– Чего загорюнилась-то? – спросил Иван жену, желая подбодрить. – Поневоле побежишь от нужды куда глаза глядят, – продолжал он, то пощипывая курчавую бородку, то покручивая усы. – Аль забыла, как мы кланялись до земли, просились в кабалу за пуд муки, за полпуда пшена, за бутылку подсолнечного масла. Втроем отрабатывали долги каждый год!
Иван оглянулся, но деревни уже не было видно. А впереди меж деревьев чуть виднелось светлое пятно. Там дорога круто сворачивала. Шорох шагов и голоса отдавались в лесу.
– Чуешь, Андрюша, как весело повеяло от Волги? По-особому чем-то… – сказал Иван сыну. – Царицын на ее берегу. Каждый час будем видеть реку.
Андрей, занятый своими мыслями, молчал. Катя опять отстала. Иван, бросив мешок на траву, присел. Андрей пошел было вперед, но остановился, когда окликнул отец:
– Ну, зашагал! Вразброд идем. Не к добру!
Когда Катя подошла к ним, спросил ее:
– Что ты нехотя плетешься? Не больна ли? Присядь, отдохни…
– Ноги не идут. Может, вернемся? Я не отстану от вас, если даже бегом… – проговорила и присела, сдернув с головы платок, обнажая белый высокий лоб, чуть изогнутые брови, которые подчеркивали не сразу угадываемую строгость карих глаз, спрятанных за густыми ресницами.
Катя – женщина стройная. Иван за всю жизнь с ней не слышал жалоб на нездоровье. Выйдет она, бывало, на жатву, залюбуешься сверканием в её руках серпа. Глядишь, и обогнала всех в работе. Встанет ли в пору сенокоса в ряд с мужиками – глаз не отведёшь: до чего же легки взмахи её сильных рук. Она словно никогда не уставала, и говорили не раз староста и лавочник, на которых шла работа, говорили, будто бы с сожалением:
– Всем взяла Катя! И красотой, и силой, но за бедняком живёт. Вот и приходится ей тянуть воз. Такую красавицу лелеять бы…
С той поры Иван стал думать о том, как бы ему суметь разбогатеть да жену принарядить, а то и совсем отлучить от работы на богатых. Назло им посадить бы разнаряженную жену на завалинку около новой семиоконной избы и насыпать в сарафан подсолнечных семян:
– Грызи! Отплёвывайся от всех!
Вот так и жилось бы отлично!
А теперь вот подошли к Волге. Солнце свысока пригревало косогор, с которого начали спускаться к подножью, где стояли бревенчатые сараи-склады, почерневшие от времени, да лавчонка со съестным. Покачиваясь на волне, стояла обомшелая, невзрачная пристанёшка.
Андрей ну просто-таки сиял. Радость, что вот и сбывается мечта, когда будто не пароход круто поворачивает, а сама судьба, заставила так стучать сердце, словно Андрей не шёл по лесу до берега Волги, а все тридцать вёрст бежал и бежал.
На пристанском базаре, шагая по мелким камешкам, купил каравай ржаного хлеба, рыбы, картошки, огурцов.
– Вот харчи, – сказал он Кате и, втиснув каравай в мешок, продолжал: – Ещё купим.
Вскинув мешок не плечо, первым пошел по мосткам на пристань, там он купил билеты.
А тут и пароход подвалил к пристани. Качнул её. Матросы бегом, пригибаясь под ношей, начали таскать на берег, в склад, мешки с пшеничной мукой. С берега они легко, с прибаутками, несли на пароход рогожные кули, пучки деревянных обручей и плетённые корзины.
Хозяин корзин, расстелив рогожу на палубе парохода, распаковал самую маленькую корзиночку, разложил товар: раскрашенные под позолоту деревянные игрушки, сахарницы, половники, и начал зазывать покупателей, будто расположился на сельской ярмарке. Сразу же около него столпились пассажиры. Андрей поглядел на продавца игрушек и улыбнулся тому, как деревянные ложки в его руках выстукивали плясовую:
- Во саду ли, в огороде,
- Дед картошку роет,
- А маленькая бабушка
- С лукошкою ходит!
* * *
Андрей подумал, не иначе этот синеглазый бородач умелец-игрушечник из-под Юрьевца. Там таких пруд пруди.
А был этот игрушечник-бородач не мужиком, а парнем двадцати двух лет, родом из Царицына. Жил он по чужому паспорту, именуя себя Петром Волошиным, крестьянином Вологодской губернии, жил и посмеивался.
А крутые, густо покрытые лесом берега, казалось, уплывали туда, где осталась замшелая сельская пристань, где по косогору петляла тропинка, на которую, как думалось Кате, никогда не ступить. Она украдкой смахнула уже не первую слезу.
Почти незаметно покачиваясь, скользит с волны на волну пароход.
Присев на канатный круг, вдыхая смолистый запах пакли, Андрей прислонился к свертку брезентового тента и задремал. Проснулся он, когда в рассвете обозначились берега: левый и правый, еще темные, покрытые лесом. Чувствуя озноб утра, прохладу от брызг волн, то убегающих от парохода, то наскакивающих на него, Андрей ушел с кормы. На него пахнуло теплом из машинного отделения. Постоял, поглядел Андрей, как плавно взлетали и опускались шатуны паровой машины, двигая колеса парохода, и пошел по палубе четвертого класса, среди спящих мужиков, женщин, детишек. Перешагивая через них, всматривался он, куда бы ногу поставить, чтобы никому из спящих руку не отдавить. Отца и мать он застал за скучной беседой.
– Как в Царицыне жить будем? – спрашивала Катерина.
– Жить? Известно уж сто лет – работать будем, а может, богатство в наши руки свалится.
– И в прежние годы и ныне об одном и том же, – сердито глянув на мужа, сказала Катя и отвернулась.
– Есть же ведь люди, – продолжал Иван, как только Андрей присел рядом, – есть такие богачи, у которых в руках миллионы рублей… – он толкнул сына локтем, – есть, а? Есть! Приеду в Царицын и нагляжусь там на таких вдоволь. Это ведь какие люди! – с завистью в голосе говорил Иван.
– Люди? – с усмешкой произнес Андрей. – Нашел кем любоваться! На рабочий люд любуйся! На настоящих людей!
– Ну, ну! Распошел! Взял себе в голову, что умом будто бы богат… А разбогатеть, говорил я и говорю, – надо суметь по-настоящему. Значит – денежным стать!
Андрей молчал. Он загляделся на Нижегородский откос, весь в разноцветии. Глаз не мог отвести он, как только завиднелся Нижний Новгород, а слева – заросшее лесом неоглядное Заволжье. Справа – река вливалась в Волгу. И казалось – разлилось тут море неоглядное.
По Волге торопливо сновали маленькие пароходики, розовые и белоснежные, с зубчатыми парусиновыми тентами над крошечными палубами. Пароходики весело пересвистывались, перекликались – будто шёл весёлый праздник. На удивление всё тут выглядело праздничным. Корму парохода круто занесло, спрятав зелень Заволжья. Наваливался на причалы откос волжского города, знаменитого своими ярмарками, коль сюда съезжались купцы из всех заморских стран.
Вот где предстояло семье Бородовых сойти на берег и отыскать причал, от которого пароходы уходили вниз по Волге.
Чтобы не затеряться в толпе, запрудившей узкую пристанскую улочку, вымощенную неровным серым булыжником, Катя шла рядом с мужем, держась за рукав его рубахи. Шум около лавчонок, прижавшихся одна к другой так, что между ними не проскользнуть, выкрики торговцев и торговок, зазывающих купить съестное и кожаные ремни, обувь гамбургскую и ярославские картузы, были непривычны. Впервые все это увидев, она часто осеняла себя крестным знамением, шепча молитву.
То и дело кто-нибудь налетал на нее. Вот какой-то господин в очках толкнул ее, выпучив глаза, заслышав гудок, поспешил на пароход.
Андрей, поглядев, как торговец позолоченными игрушками получает сразу за все корзины деньги серебряными рублями, пошел было рядом с матерью, а потом, когда ее опять кто-то толкнул, вышел наперед. И стоило кому-то заглядеться на ходу и вот-вот столкнуться с матерью, как Андрей подставлял свое сильное плечо, озлобленно встречал зеваку, да так, что тот отлетал в сторону, бормоча что-то себе под нос.
А над Волгой уже летел третий гудок. Отдали с причала чалки. Семья Ивана успела на пароход. С пристани провожающие махали руками и кепками. Кто-то держал плачущего ребенка, кто-то играл на гармони.
За кормой парохода, вспениваясь, убегали волны. Смутно высились над крышами домов верхушки минаретов. Виднелись купола церквей: мрачно-синие луковицы с воткнутыми в них сверкающими крестами.
Мелькнули красный и белый бакены. Казалось, не пароход бежал, отмеривая версты, а бакены плыли и плыли ему навстречу, плыли в брызгах волн, покачиваясь, будто готовые нырнуть, скрыться в воде от бесконечного покачивания, мерцания сигнальными огоньками.
Плыли и плыли бакены мимо парохода, а потом, уменьшаясь где-то вдали, исчезали, будто и не нужные. И опять впереди – они же!
* * *
Спал Борис на корме, неподалеку от Андрея, среди схожих с ними пассажиров, старых и молодых. Каждое утро слушал их рассказы о том, что и кому приснилось: одному изгородь из жердей, огород с изумрудно-зелёными стручками гороха, другому – перелески, тропинки с холма на холм, третьему – бревенчатые избы и девушки у колодца с коромыслами на плечах. Борис видел во сне Наташу. Снилась она ему часто. Марию не видел, хотя вспоминал и расставанье с ней на вокзале, и всё прежнее.
В Дубовке многолюднее стало на нижней палубе. Громче слышались говор и смех. На пароход нахлынули лоточники, возвращаясь с ярмарки. Они назойливо предлагали покупать у них губные гармошки, привлекающие многих своей нарядностью и блеском никелированной отделки. Ну а кое-кто покупал и игральные карты. Девушки наперебой раскупали атласные ленты: розовые, темно-синие, оранжевые. Ну и шпильки, булавки.
Веселее и сапожник начал постукивать своим молоточком, починяя кому-то ботинки. Порой он вскидывал на снующих мимо него свои озорные, колючие голубые глаза, встряхивая падающими на лоб волнистыми волосами, блестящими как спелый каштан. Борода и усы, черные как смоль, оттеняли и блеск его глаз, и смуглые щеки. Хитро посмеиваясь, он веселил народ прибаутками:
– А ну, кому из вас подали карету, чтобы счастье искать по белу свету?! Ну, вы, бедные странники земли российской, у кого пятак, у кого гривенник? Кому набойки, кому подметки? Такие подобью, что за год не сносишь, обут будешь, пока работу не отыщешь!
Пароход обошел последний перед пристанью бакен. Андрей видел, как вода, набегая на него, бурлила, будто стараясь сорвать, унести в какой-то омут, а бакен вцепился якорьком в песчаное дно реки и не сдавался, раскачивался на якорной цепи, раскачивался то влево, то вправо, потом замирал на миг и снова качался, качался на воде.
Послышался гудок встречного парохода. И гудки, отраженные эхом, множась, улетели в Заволжье нарушить хоть на одно мгновение застоявшуюся там тишину.
Пароходы разминулись, и Андрей увидел Царицын на крутом берегу. Где-то дальше смутно вырисовывалась гряда холмов и курганов. Царицын растянулся вдоль берега серой узкой лентой деревянных и каменных домов. Три церкви на откосе сразу бросались в глаза. На одном конце города дымили трубы металлургического завода. На другом – тонкие трубы лесопилок. У причалов стояли буксирные пароходы. Много их было. Тяжело покачивался на волнах большой плот. И опять, уже ниже пассажирских пристаней, почти у самого берега стояли на якорях и у причалов баржи, пароходы и плоты, плоты…
Пароход приткнулся к борту пристани. Проскрипели со скрежетом причальные брусья. Катя встала с канатного круга, глубоко вздохнув. Иван, будто ждал этого, вскинул мешок на плечо и сказал:
– Вот и приехали! Как бы не растеряться, – и оглянулся, – пошли!
Борис, сунув свой сапожный инструмент – молоток и клещи – в зелёный сундучок, нахлобучил картуз, а разгибаясь, взглянул из-под козырька на Ивана. Посмотрел и на Катю, покорно идущую за мужем. Понравился Борису Андрей всем обликом, сильными плечами, походкой.
* * *
Все спешили на берег, будто Царицын для каждого станет в этот час, именно в этот час – благодатным приютом.
Словно в Царицыне и рай земной. И щей для голодных – котлы полны. Бери, хватай ложку, горбушку хлеба – и наедайся за всю голодную дорогу.
Царицын для многих обездоленных казался благодатным приютом. Вон баржи! Вон плоты! Были бы плечи и спина негнущимися.
Да, Царицын мог быть благодатным. Чем же еще? Ведь в Царицыне было тогда пятьдесят два большущих дома, пятьдесят две богатые семьи. Тринадцать миллионеров. Неужто они только о себе и думали? А?! О себе только заботились. А?! Разве о нуждах народа, о бедных, нищих, бездомных не знали?
* * *
Оставив свой сундучок в пристанской камере хранения ручного багажа, Борис поднялся на набережную Царицына по одной из пяти деревянных крутых лестниц, отшагав сто двадцать семь ступенек, скрипучих и гнущихся под ногами, полугнилых. И присел на краешек садовой скамьи.
В тот ранний час, когда еще не каждый бродяга выполз из кустарника, чтобы отправиться на берег Волги, к пассажирским пристаням в поисках куска хлеба, Борису было не по себе. Он часто сжимал кулаки. Не радовало его что-то возвращение в родной Царицын.
Какое-то настроение чего-то забытого, чего на пароходе не случалось, тревожило его. Может, негодование, что пока ещё не отомстил за Григория Григорьевича, что так и нет полной удачи в этом? А вдруг подленькое чувство страха, что вот, мол, сам теперь притопал к концу своей судьбы? Тут вот, на родимой земле, наденут кандалы на ноги, руки в железо закуют?
Он огляделся.
Девушка торопливо прошла мимо, чем-то напомнив Наташу. Парень, хлыщ какой-то, размахался на ходу тросточкой с никелированной ручкой, двадцатикопеечной. У парня чуб, явно закудрявленный у парикмахера за пятак.
Сиротливыми, малюсенькими показались Борису на круче Волги церковки Святой Троицы, Иоанна Предтечи и старинный собор Успения. Приземистыми и угрюмыми были они. Оползни подбирались под их алтари.
Пароходные гудки отвлекли Бориса от мрачных, невеселых раздумий. Волга чуть видимой с кручи волной всё же смывала грусть. Борис глянул на заволжский берег, в ту сторонку, где виднелся среди девяти столетних осокорей хутор Букатин, а правее – хуторок Бобыли. Борис вспомнил и маленькую избёнку там, в погребе которой была подпольная типография большевиков Царицына. Загляделся на Волгу.
Пароходик «Ласточка», такой знакомый, молотит плицами по быстрой вешней воде. Подгребает белые волны под себя, торопится, торопится. Но ни с места. Но вот сорвался будто, повернув вниз по течению. Выбрался на стрежень реки. Поволок паром. На борту парома мальчишки сидят, свесив ноги.
Ну, все как и было. На палубе парома – люди, лошади, верблюды. Телеги с задранными к небу оглоблями. И два полицейских, да еще урядник казачьего Войска Астраханского.
«Непременно надо будет, – думает Борис, глядя на паром, – побывать за Волгой. Побродить там по лесу… Ландыши, может, еще не все отцвели. Набрать бы букетик. А для кого?».
Подумал об этом и посуровел: «А каково живется Марии? Как с ней быть? Вот оно, оказывается, что тревожило. Вот оно что! Вот оно – нерешенное, когда в душе еще и Наташа. Нужны ли тайные встречи с Марией? Что толку от них?»
И, не зная, как вскоре поступит, рывком встал со скамьи, крупно зашагал.
На пустынную, безлюдную в тот жаркий летний день. Заовражную улицу Борис пришел все неуспокоенный еще, с неровно бьющимся сердцем. Но он сразу же овладел собою, завидев домик.
– Водички бы, хозяин, испить, – сказал Борис, когда на его стук щеколдой калитки появился Степанов. – Водицы напиться… – закончил Борис окающим вологодским говорком.
– Теплая… Утром принесенная.
– Давай хоть теплую. Жара-то какая! – уж не меняя голос, сказал Борис и рассмеялся, шагнув во двор.
Степанов попятился от калитки, пропуская гостя, и зашептал:
– И не узнать! Какой ты бравый! – и, закрывая калитку, продолжал удивляться: – Ну и ну! Какой бородач! Прямо Степан Разин, удалой! Заходи, сейчас Груня как раз самовар подогревает. Чайку с дороги дальней попьешь… Эх-ма, борода!
Груня видела в окно идущих по двору и вышла в сени, с любопытством посматривая на Бориса. А когда признала его, нежданного гостя, то не удержалась взять его за бороду и, смеясь, сказать:
– Ну и лопата черная! Ты ее, Боря, каким клеем приклеил? – и потянула за бороду посильнее, спросив: – Дернуть можно?
– Чего ты, дочка?! Не глупи! Подавай на стол самовар! Где крендели с маком, которые Борис любит?!
Вначале всё же закурили. Степанов трубку, а Борис папиросу. Глянули друг другу в глаза.
– У матери был? – спросил Степанов. А когда Борис отрицательно покачал головой, продолжал: – Ночевать у меня нельзя. Идёт упорный розыск беглого солдата, полиция побывала и у твоей матери. Но навестить её необходимо! – Взял Груню за руку и сказал: – Чаем угощать Бориса буду я. А ты ступай, скажи Дмитриевне, что Борис явится к ней часа в два ночи… Постучит в ту стену, которая над оврагом. Иди!
Груня, сунув в карманы юбки клеш два кренделька, остановилась у двери, рассматривая пытливо ещё раз Бориса, думая о том, каким она должна обрисовать Глафире Дмитриевне её бородатого сына.
К стакану с чаем Борис и не притронулся, увлеченный своим же рассказом.
Степанов, слушая, ходил от стола в горнице до дверей кухни медленными шагами. Задумчивый, он всё приглаживал свои ершистые волосы то одной, то другой рукой. Выслушав, сказал:
– Пойдешь работать на берег… Вот так-то!
– На берег? Хорошо…
– Объясню. Группа большевиков Саратовского комитета РСДРП рекомендует организовать подпольные кружки среди сезонников. Пускай сезонники осенью из Царицына увезут в села и по деревням правду о большевиках… Ну а ты… среди десятка тысяч сезонников – невидимка для полиции…
У Степанова Борис пробыл до позднего ночного часа. В подробностях обсуждали и делали наметки, с чего же начать пропаганду среди грузчиков, сезонников. Все мечтательно говорили о том времени, когда и сезонников можно будет организовать.
– Выковать бы профсоюз: «Грузолес»… Ведь грузчиков леса на берегу Волги до пяти тысяч! Сила!
Однако не узнал Борис о делах большевиков на металлургическом заводе. О делах большевиков центрального района Царицына. Если бы речь зашла об этом, конечно, Борису стало бы известно, что Наташа приехала из Петербурга в Царицын, работает в конторе Торгового дома Лужнина и занята пропагандистской работой в воскресной школе рабочих на нефтеперегонном заводе Нобеля.
Степанов не спешил с такими сообщениями из конспиративных соображений.
Проводили Бориса не через калитку на улицу, а отодвинув в заборе на задворках одну из досок, у спуска в заросли камыша. Тут был тайный ход на другую улицу, через овраг.
Про Ерофея они в тот час и не вспомнили.
Ожидая сына, о скором появлении которого сообщила Груня, Дмитриевна обдумывала, как бы это суметь так рассказать Борису про Марию, чтобы не опечалить его.
Не зажигая лампы, Дмитриевна присела вплотную к задней стене домика и всё ждала, когда же заветный стук раздастся. Слушала, когда же сын стукнет в стену родного дома.
Дождалась.
Могла ли она, встретив сына в эту темную ночь, не заплакать? Не заплакать, если слезы навернулись сами на глаза материнские, сердцу не заказано, каким быть в такую минуту. Она с трудом выговорила:
– Полиция приходила много раз… тебя ищут…
– Ты, мама, ведь не на похоронах… Выкажи радость…
– Они говорят, что ты беглый солдат…
Нашлись у матери силы выполнить эту просьбу сына:
– Борода-то, усы какие! – сказала она, утирая фартуком свои слёзы и стараясь улыбаться. – Гляну, Боря, на тебя такого, с усами и бородой, а вижу твоего отца. Только ты в плечах пошире. Ростом богатырь, – и распошла-пошла без удержу вспоминать былое свое счастье: – По воскресным дням, бывало, – заулыбалась не такая уж старая мать, – мы с твоим отцом – ни на шаг друг от друга. А он все с шуточками-прибауточками выхаживает вокруг. Вот был у меня муж! Золотой человек! Друг!
Глафира Дмитриевна загрустила. Опять смахнула слезы. Стряпая, она тяжело вздыхала, тиская тесто руками, торопясь угостить сына пирожками с изюмом.
О! Пирожки были изумительно вкусными. Домашние. Не из харчевни. Борис просто пьянел, поедая торопливо один пирожок за другим. Изюминки в них казались ему похожими на тоскующие глаза матери. Но вот она рассказала сыну обо всём, что слышала про Марию.
Дмитриевна ожидала вспышку гнева.
– Что ж мне теперь? – как-то безразлично произнёс Борис, – с крутого берега и в воду? – и усмехнулся: – Значит, Машка в богатом доме жить захотела. Наряды шелковые, золотые серьги привлекли её… Спать пора! – закончил Борис. – Уйду из дома перед рассветом. На берегу Волги поселюсь. Тебя навещать буду только ночью. А может, товарищей присылать буду…
Борис вольготно разлёгся на кушетке, которую когда-то своими руками смастерил, отполировав ножки её точёные в узоры, словно дубовыми листьями покрыл.
Он сразу же уснул.
Дмитриевна же глаз не сомкнула. Босоногая, чтобы не шаркать по полу чувяками-шлепанцами, она то к порогу пойдёт взглянуть на сапоги сына, чтобы, сунув руку в них, прощупать – нет ли чего там: песчинки, камушка в носке сапога или под пяткой, что натрут сыночку ступню; то вернётся к стулу около кушетки взглянуть на пиджак, чтобы проверить, все ли пуговицы пришиты как надо. Рубаху надо ведь прощупать, просмотреть. А то, затаив дыхание, нагнётся к сыну, разглядывая его лоб, что-то уж не по-молодому наморщился. Глянет на бороду, на усы. Глубоко вздохнёт, охнет, переведет дух и, зажимая себе рот, начнет всхлипывать.
Когда она решала, будить ли сына на рассвете или еще дать ему поспать, Борис вдруг, словно и не спал, веселым голосом, а не голосом спросонья, сказал:
– А я счастливый… Ей-пра! Мечтал побывать под отцовской кровлей, повидаться с матерью… И получилось! И ещё получится!
Борис подошёл вплотную к матери, обнял её, а затем, чуть отстраняя её от себя, молча глядел ей в глаза, как бы стараясь проникнуть в душу, угадать материнские мысли.
Помолчав, он сказал:
– Главное, мама, не унывай. И запомни, что сын твой работать будет на берегу, на разгрузке барж, белян, плотов, а жить среди наезжего в Царицын народа, но упаси тебя Бог искать меня среди грузчиков. По твоему следу жандармы пойдут, и кандалы мне на руки!
Уверенность в голосе сына, его бодрое настроение развеселили Глафиру Дмитриевну. Без печали в глазах смотрела она Борису вслед, любуясь его твердой, гордой походкой, с кинутым на плечи пиджаком.
На улице чуть светало. И ни единой души.
По берегу Волги стлался дымок от костров: рыбаки смолили свои лодки и проваривали снасти. Солнце только вот-вот приподнялось над лесом Заволжья, а на городском берегу уже многолюдно. Особенно у пассажирских пристаней, куда Борис направился за своим зелёным сундучком.
Тут глазом не окинуть ряды лавчонок со съестным. Уши хоть затыкай от возгласов:
– Чибрики в масле кипят!
– Жарим-варим! Берегись, а то ошпарим! Требушина варёная, печёнка, гусёк! С капустой, с гречкой! Подходи и друга подводи!
– Накормим, напоим, под лодкой спать уложим. Эй, бородач, сюда!
Борис оглянулся.
– Посмотри, какая у нас девка щи подаёт, – продолжали зазывать в лавчонку. – Одни брови – рупь! С её губ счастье слизнешь. Ходи сюда! Эй, бородач!
«Чего я им дался?» – подумал Борис и ещё раз огляделся: один ли, мол, я тут бородатый?
Трое калек: двое на костылях, третий слепой, – были тоже бородатыми. Они выбирали место, где бы присесть.
– У дороги сядем, чтобы народ не миновал нас. Накидают по копейке на харч, а? – спрашивали они друг у друг.
Слепого, с Георгиевским крестом на полинялой гимнастерке, Борис еще на пароходе приметил, да и рассказ его запомнил:
– Ходил я в разведку под Льяояном, – рассказывал он, – япошки схватили меня и выкололи глаза. Офицер ихний по-русски говорил и посмеялся: «Ищи теперь, безглазый, свою Русь, дорогу к своим. Сдохнешь, как собака, не дойдёшь…» – и отпустили.
Солдат тогда дорогу к своим искал так: почувствует припекающий луч солнца на левой щеке, поворачивает чуть вправо. Застигнет солдата ночь – ждет рассвета. Взойдет солнце, и опять оно, родимое, солнышко ведёт его к своим однополчанам. Вот и добрался солдат до краешка своей судьбы, чтобы в Царицыне, на берегу раздольной Волги-матушки реки, присесть с нищими у дороги и запеть:
- Плещется Желтое море,
- Волны сердито шумят,
- Бьётся с неравною силой
- Гордый красавец «Варяг».
* * *
С вечера всё глядели на сверкающие в окнах ресторана «Чайная биржа» электрические огни, что отражались в мелководной речке Царице и в глубоководной Волге.
И глядели долго, удивляясь тому, что даже ночью в Царицыне света электрического хоть десятка на два деревень.
Глядели и молчали. Ничего не сказал Иван, молчала Катя, задумчивым был Андрей.
Проснулись они раньше, чем солнце пригрело их. Голод заставил ворочаться с боку на бок. Голодному человеку какой же сон. Андрей если в деревне переносил терпеливо недоедание, то здесь заговорил:
– Щец бы и краюшку ржаную… Хоть холодных щец бы похлебать…
Иван смотрел на нищих, сидящих в два ряда у церковной паперти. Он видел, как идущие в Божий храм молельщики подавали нищим кто что: булочки, пышки, ватрушки, крендели.
Хоть Андрей и заговорил про хлеб и щи, Иван не двинулся с места, не пошёл к паперти, чтобы встать там в ряду с нищими, протянув руку. Жизнь на новом месте он хотел начинать не нищенствуя, не попрошайничая Христа ради. Храбрясь, он молодцевато тронул свою курчавую бородку, усы и сказал:
– На базар дорогу узнать надо… Дело надумал я…
Когда они пришли на базар, Иван присел на корточки у дверей часовой мастерской, достал из кармана завёрнутые в тряпочку две свои серебряные медали, полученные в Маньчжурии за отличную артиллерийскую стрельбу, и продал их часовых дел мастеру, спросив у него, где найти квартиру?
– Топай по Астраханской улице до Камышинского взвоза… Спрашивай Девичий монастырь. Потом спрашивай баню Чернова. Там такие аулы по оврагам, прозванные Капказом, что и квартира найдется, и работа на лесопилках…
– Запомнил, Андрей, как идти-то, а?
– Запомнил… – ответил отцу сын.
Катя устало поплелась позади. Ни на кого она глядеть не хотела. Ни на рысаков, ни на барынь под шелковыми зонтами. И Волгой уже перестала любоваться. Заглядывалась она на телеги, тяжело гружённые мешками с мукой. Вздыхала с сожалением и думала: «Безжалостные люди в Царицыне. Понукают лошадок кнутом, заставляя тянуть телеги без передышки… А ведь гора крутая. Из-под копыт лошадок аж искры. Ох, жизнь!».
Добрался Иван с семьёй до Капказа. По склонам оврагов и на дне их одна над другой, словно сакли горцев, лепились хатенки. Не избы, а хатенки, глиняные мазанки.
Катя всё чаще посматривала на мужа, а он не то чтобы растерялся, наталкиваясь на неудачи и первые городские обиды, а просто спешил хоть где-то как-то пристроить свою семью и трудиться, трудиться, не разгибая спины. Оказаться бы под крышей, тогда и работу искать – мечтал он.
– Где тут снять квартиру? – спрашивали встречных, пока какой-то угрюмый мужик не указал пальцем на хатенку: