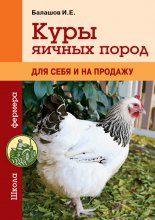Дрезденские страсти. Повесть из истории международного антисемитского движения Горенштейн Фридрих

Юрий Векслер
Фридрих Горенштейн и его тема
У театрального режиссера Леонида Хейфеца запечатлелся в памяти образ Фридриха Горенштейна в московском метро – с авоськой, в которой лежат пакет молока, корм для Кристи, любимой кошки писателя, и книга Энгельса «Анти-Дюринг». Эта яркая деталь позволяет вычислить год – 1978-й, год написания документальной повести «Дрезденские страсти», с которой российский читатель получает возможность ознакомиться только сейчас.
К тому времени киевлянин Горенштейн прожил в Москве уже шестнадцать плодотворных лет. Здесь он создал романы «Место» и «Псалом», пьесы «Бердичев» и «Споры о Достоевском» и многое другое, но опубликован был только рассказ «Дом с башенкой» (в журнале «Юность» в 1964 году). С этого рассказа Горенштейн и начинал впоследствии отсчет своей жизни в литературе, хотя он писал прозу и раньше, еще в Киеве, работая прорабом стройуправления, и даже посылал одну повесть Эренбургу. А «Дрезденские страсти» оказались текстом, завершившим советский период его жизни. Писатель эмигрировал в 1979 году и более 20 лет прожил в Берлине.
До эмиграции Фридрих Горенштейн был известен главным образом в мире кинематографа – как сценарист «Соляриса» Андрея Тарковского и «Рабы любви» Никиты Михалкова. Именно работа в кино и обеспечивала ему независимость, поскольку на писательские гонорары рассчитывать не приходилось. Когда повесть «Зима 53-го года» (1965) была отвергнута «Новым миром», Горенштейн решился писать «в стол» и ни в какие советские журналы или издательства ничего из написанного до своего отъезда из страны больше не предлагал. После «Дома с башенкой» он надолго исчез из поля зрения литературной среды и «вынырнул» лишь в 1979 году как один из авторов альманаха «Метрополь».
Поэтому в качестве писателя Горенштейна по-настоящему знали только немногие доверенные лица. Но те, кто был знаком с его сочинениями (Горенштейн строго контролировал, кому давались для прочтения его неизданные тексты, хранившиеся в доме Лазаря Лазарева), например Василий Аксенов, Юрий Трифонов, Владимир Войнович или Фазиль Искандер, высоко ценили написанное им. А коллеги-кинематографисты Андрей Тарковский и Андрон Кончаловский и вовсе не колеблясь употребляли в отношении него слово «гений»… Большим и гениальным писателем называл Горенштейна и Бенедикт Сарнов. Мнения этих людей Горенштейну было до поры до времени достаточно для сверки со своими собственными критериями. Он, судя по многим признакам, понимал, что написанное им будет долго ждать публикации, еще дольше – признания, но еще дольше будет сохранять актуальность.
Особняком стоит вопрос, почему Горенштейн оказался вне фокуса внимания читателей в начале 1990-х, когда – наконец-то – в России был опубликован его трехтомник. Один из возможных ответов – может быть, не главный – тем не менее очевиден. Горенштейн вспоминал:
В 1964 году при первой моей публикации рассказа «Дом с башенкой» в журнале «Юность» мне дали заполнить анкету автора. Там был, естественно, пункт «фамилия, имя, отчество» и другой пункт – «псевдоним». Я знал, где нахожусь. Энтузиазм Маяковского «в мире жить без России, без Латвии единым человечьим общежитьем» давно разбился о быт. Я посидел минут пять и сделал в пункте «псевдоним» прочерк. «Что же вы?» – сказала мне сотрудница с улыбкой, «полушутя». Мне кажется, в тот момент, то есть в те пять минут раздумий, я окончательно выбрал свой путь и даже тему моих будущих книг.
Горенштейн написал «тему» в единственном числе. Что же это за тема?
Рискну предположить, что ее можно сформулировать примерно так: «Мир (частный случай – Россия) и евреи как Божье испытание человечества». Если принять это за гипотезу, то к ней все же следует относиться только как к указанию на «магический кристалл» Горенштейна, на его творческий метод. Не надо забывать, что и в литературе, как и в театре, действует магическое «если бы» в качестве главного творческого допущения. Вот и у Горенштейна это – допущение. Не более – но и не менее.
На протяжении трудного, не защищенного псевдонимом писательского пути, избранная Горенштейном тема прорастала в его творчестве постепенно и была поначалу, например в «Зиме 53-го года», почти незаметна. В этой замечательной повести есть только отголоски неприязни к «неруси» и упоминание о «космополитах», слове, значение которого невнятно главному герою по имени Ким:
– Я в управление пойду, – крикнул Ким, – я писать буду… Я в газету… В «Правду»… Нельзя ребят в такие выработки… Там обрушено все. Угробит ребят…
– Ты эти ерусалимские штучки брось, – подошел, размахивая руками, начальник, – эти армянские выкрутасы… Не нравится, иди шнурками торговать… Паникер…
– Я не армянин, – чувствуя тошноту и отвращение к себе и к каждому своему слову, но все-таки продолжая говорить, произнес Ким, – и не еврей… Я паспорт могу показать…
Ким и начальник стояли друг против друга, громко дыша.
– Ладно, – сказал начальник, – покричали, и ладно… Это бывает… Меня ранило когда на фронте, в госпиталь привезли… Мертвец… Списали уже вчистую… А доктор Соломон Моисеевич вытащил… Осколок прямо под сердцем давил… Думал, задавит… Среди них тоже люди попадаются, ты не думай… Но с другой стороны, ерусалимские казаки… Вы ж газеты читаете, – обратился почему-то начальник к Киму на «вы». – В Ленинграде Ханович И.Г., например, продал всю академию…
Это «…среди них тоже люди попадаются» – симптом первой стадии заболевания антисемитизмом. Вторая стадия, все еще относительно безобидная, выражается формулой «Да у меня половина друзей – евреи». Далее следует: «Есть евреи, и есть жиды», после чего остается полшага до «Бей жидов!»…
Произведения Фридриха Горенштейна в советское время оставались неизвестными и неизданными, но зато он был свободен от необходимости думать о «проходимости» написанного, и тема начала звучать в его сочинениях («Искупление», «Псалом», «Место», «Бердичев», «Споры о Достоевском» и др.) в полный голос. Наталья Иванова отметила в своем предисловии к роману «Псалом» в 2000 году: «…он пишет совсем иначе, чем шестидесятники. Кажется иногда, что его свобода – это свобода дыхания в разреженном пространстве, там, где не всякому хватит воздуха. Или смелости: прямо называть и обсуждать вещи, о которых говорить трудно – или вообще не принято. Табу. Табу – о евреях. Дважды табу – еврей о России. Трижды – еврей, о России, о православии. Горенштейн позволил себе нарушить все три табу, за что был неоднократно обвиняем и в русофобии, и в кощунстве, и чуть ли не в антисемитизме».
К этим трем табу, наверное, можно прибавить еще и четвертое – об антисемитах. О них в СССР также было не принято открыто говорить, а уж тем более – писать. Лишь Евгений Евтушенко и Владимир Высоцкий в начале шестидесятых отважились на прорыв этой информационной блокады, этого табу на упоминание антисемитов. Честь и слава обоим поэтам. Первый посочувствовал жертвам Бабьего Яра и задался вопросом, почему в советском народе так живуч антисемитизм, второй высмеял антисемитов, отметив попутно, что «на их стороне, хоть и нету закона, поддержка и энтузиазм миллионов». По интонации Высоцкого было ясно, что имеется в виду поддержка (хотя и негласная, но для всех очевидная) со стороны государства.
Фридрих Горенштейн пошел гораздо дальше Евтушенко и Высоцкого – он, по его собственному выражению, «вывел» целую галерею антисемитов в своих книгах. В написанном в Берлине рассказе «Шампанское с желчью» Горенштейн описал погромную атмосферу среди отдыхающих в крымском доме отдыха в начале израильской войны Судного дня (1973), когда казалось, что арабы побеждают. Приехавший отдохнуть московский театральный режиссер Ю., как называет своего героя Горенштейн, становится свидетелем сцен, до того немыслимых в его московской жизни ассимилированного еврея:
– Судить этих жидов надо, судить! – кричал краснолицый.
– Сыколько уже убили? – спрашивал Чары Таганович у жирного карагандинца.
Чувствовалось, что жирный карагандинец становится общим лидером.
– По «Маяку» я слышал: три тысячи раненых и убитых, – ответил карагандинец<…>
<…>Это уже была не международная политика, не братская помощь, как во Вьетнаме. Это была их война, третья отечественная война. Ю. вспомнилось, как в 1967 году на улице Горького были специально установлены громкоговорители и по этим громкоговорителям торжественно объявлялось, беспрерывно повторялось о разрыве дипломатических отношений с Израилем, повторялись угрозы в адрес Израиля. Такого не было при разрыве отношений с Чили, с Пиночетом. Просто, как обычно, напечатали в газете, сообщили в радио– и телеизвестиях. Теперь же гремело на всем протяжении улицы Горького, от Белорусского вокзала до Охотного Ряда. Потому что разрыв с Пиночетом, с Чили – внешняя политика, а разрыв с Израилем – политика внутренняя. Чили для них враг внешний, а Израиль для них враг внутренний.
В пьесе Горенштейна «Споры о Достоевском», действие которой происходит в одном московском научном издательстве, появляется недоучившийся студент Василий Чернокотов. Появляется и взрывает и без того далекую от академического спокойствия атмосферу обсуждения спорной книги – она называется «Атеизм Достоевского».
Чернокотов. Я сирота… Воспитывала меня в основном общественность и комсомол… Может, и допустили какие-нибудь ошибки… Согласен, признаю… Еще один вопрос, и удаляюсь… Кто был Иисус Христос по крови?
Шмулер-Дийсный. Прекратите хулиганить, вас выведут…
Труш (торопливо подойдя). Извините, он выпил. Пойдем, Вася…
Чернокотов. Нет, подожди (кричит). В Иисусе Христе не было ни капли семитской крови… Я утверждаю это категорически и научно обоснованно… Согласно древним рукописям… Это вам не Карл Маркс…
Жуовьян. Я совершенно согласен с Чернокотовым… В Иване Христе семитской крови нет… Он родился в Рязани, где окончил церковно-приходское училище.
Ирина Моисеевна (Жуовьяну). Не надо связываться с хулиганом.
<…>
Чернокотов. Береги свое лицо от удара в морду (толкает Жуовьяна так, что тот едва удерживается на ногах, чуть не сбив вбежавшего Соскиса).
Соскис (испуганно). Что такое? (К Жуовьяну.) Немедленно прекратите безобразничать, к вам будут приняты меры… (К Чернокотову.) Успокойся, Василий… Домой тебе надо… Элем, дай я с ним поговорю… Вот так у нас… Умеют наши интеллигентики затравить талантливого деревенского парня… Василий, послушайте, вы ведь неглупый человек, зачем вы губите свое будущее?
<…>
Хомятов. Пора кончать либерализм по отношению к таким…
Чернокотов (вырываясь из рук Труша и Петрузова). Кончать со мной хочешь? Ты, мужичок, на семитских бульонах растолстевший… Ух, ненавижу… Мучители России… Прав Достоевский, прав… Потому и псов своих на него травите… От жидовства смердит на Руси…
<…>
Вартаньянц (с испуганным лицом). Вера Степановна, где Иван?
Вера Степановна (c испуганным лицом). Я уже послала за ним…
Чернокотов (в злом веселье, вращая стулом). Подходите, твари дрожащие… Я вот он… Я перешагнул… Преступил… Я власть имею… В рожи ваши семитские я кричу, русский я… Какое счастье быть русским во всеуслышание…
Петрузов. В психиатричке дважды он уже лежал… Болен он, приступ у него…
Валя (от буфетной стойки). Уймись, Василий… Прощения проси… Ведь пропадешь…
Чернокотов. Я сижу на вишенке, не могу накушаться, дядя Ленин говорит, маму надо слушаться… (хохочет).
Во времена написания пьесы многим обитателям интеллигентских кухонь казалось, что таких оголтелых антисемитов, как Чернокотов, уже давно нет. А Горенштейн утверждал в своих спорах с немногими читателями пьесы, что Чернокотовы не только есть, но и будут, то есть еще выйдут из подполья и станут играть заметную роль в обществе. Ему не верили. Евгений Евтушенко прекраснодушно писал в финале своего «прорывного» стихотворения:
- …«Интернационал» пусть прогремит,
- Когда навеки похоронен будет
- Последний на земле антисемит…
Подобных иллюзорных фантазий у Горенштейна не было. Тема, избранная однажды, не оставляла его до конца творческого пути. В 1998 году он написал рассказ «Арест антисемита» – иронический отказ от надежды на избавление от антисемитов. Рассказ основан на уникальном факте ареста человека за антисемитские высказывания во время войны; судя по всему, это был реальный случай, свидетелем которого оказался находившийся в эвакуации десятилетний мальчик Фридрих Горенштейн. Рассказ завершается так:
Надо сказать, что фантазер я уже и тогда был изощренный. Не только наяву, но и во сне. Может быть, под влиянием приключенческих книг и невостребованных потребностей. И вот снится: слушаю сводку Совинформбюро: «В течение минувших суток противник продолжал развивать наступление в районе Сталинграда. Все атаки противника отбиты с большими для него потерями. В боях в воздухе сбито более 40 самолетов, уничтожено более 50 танков. В районе города Красноводска уничтожен парашютный десант. В районе города Намангана Узбекской ССР арестован опасный антисемит, подрывающий великую дружбу народов СССР, гарантированную великой Сталинской Конституцией. На других участках фронта существенных изменений не произошло».
У Горенштейна есть и другой рассказ – «Фотография» (1999), – в котором столичный корреспондент приезжает в провинциальный горный институт с заданием сделать фото лучших студентов для обложки журнала. Дело происходит в середине 50-х годов; в процессе съемки, формируя кадр, фотограф убирает из него, выбраковывает без объяснений юношу с еврейской внешностью. Тот глубоко уязвлен этим тихим, хотя и очевидным антисемитизмом, но не решается на сопротивление и молча проглатывает обиду. В рассказе есть важный для всего творчества Горенштейна символический смысл: писателю принципиально невозможно никого и ничего «убирать из кадра» из каких бы то ни было идеологических соображений. Объектив его «камеры» отвечает своему названию: он – объективен.
В этом одна из важнейших особенностей огромного писательского дара Горенштейна. И объективность его взгляда, как правило, безжалостна… Пример: размышляя о Холокосте в романе «Псалом», он от имени Бога объявляет беззащитность евреев их виной перед ним. Именно из-за такого бесцензурного (бессознательного, что характерно для гениев) восприятия действительности среди героев произведений Горенштейна оказалось довольно много как евреев, так и антисемитов. Но еще Горенштейн видел (и показывал в своих книгах) в еврейском – общечеловеческое.
Что это было за столетие – с 80-х по 80-е, – нет смысла говорить. Кровавая бойня Первой мировой войны, апокалипсис русской революции и Гражданской войны, зверства сталинского террора, горячечный бред гитлеризма. Человеку двадцатого столетия редко выпадала возможность вздохнуть, перевести дух. А в силу исторических обстоятельств, когда человеку трудно, человеку-еврею трудно вдвойне…
Это из киноромана о Марке Шагале. А в повести «Попутчики» есть эпизод, где главный герой украинец Чубинец видит загнанных за колючую проволоку и обреченных на уничтожение евреев, в частности понравившуюся ему девушку, и дает ей хлеб. На вопрос одного из сельских полицаев:
– Зачем ты евреев жалеешь? Мы на них трудились, пока они в городах жили, —
он отвечает:
– Я не евреев жалею – я людей жалею.
О писателе Фридрихе Горенштейне можно сказать: «Его трудно понять, потому что его трудно вместить». Невозможно назвать какое-то одно произведение самым главным в его творчестве: таковых, к тому же очень различных, написанных как будто разными авторами, заведомо будет несколько. И было бы грубой ошибкой относить Горенштейна, как это делают некоторые, к еврейским писателям из-за немалого числа изображенных им евреев и антисемитов. Его евреи и антисемиты растворены в его произведениях так же, как растворены они в жизни. Это хорошо видно, например, в структуре гигантского пророческого романа «Место».
Но, кроме того, Горенштейн создал историческую драму «Детоубийца» о Петре Первом и царевиче Алексее и тысячестраничный роман-пьесу «На крестцах» – драматическую хронику о временах Ивана Грозного. В этой хронике евреев нет вовсе – математики сказали бы «по определению». А есть исследование русской ментальности, истоков имперского сознания и роли в нем православной церкви. Так что избранная Горенштейном в 1964 году тема оставалась с ним всегда, но была в его творчестве не единственной…
Что же касается обвинений в антисемитизме, адресовавшихся иногда Горенштейну, это была реакция на то, как безжалостно изображал он не только антисемитов, но и своих соплеменников. Разговор с писателем об изображении евреев в литературе состоялся у меня в 1999 году. Он сказал тогда:
– Я, как вы знаете, в своих произведениях – в «Бердичеве» и в других – вывел такое большое количество непорядочных (пауза, Горенштейн подыскивает слово), глупых (снова пауза), паскудных евреев… Одновременно я достаточно антисемитов вывел. И не карикатурно, а натурально… Все дело в позиции автора и в художественном посыле, который автор в это вкладывает. А те, кто говорит (а когда может, то и действует соответственно), что евреев нельзя показывать плохими, исповедуют своеобразную форму расизма в попытке изобразить евреев больной нацией, которую надо обходить, – нельзя говорить о них… Безусловно, надо обо всем этом говорить, и надо изображать разных евреев, но, главное, – с каких позиций и как это изображается… Хотя у евреев есть, конечно, своя специфика. Это комплекс гетто и гетто-психология…
– И все-таки страх перед внешней средой не возник на пустом месте. В чем корни современного антисемитизма? Не в том ли они, что евреи – очень ярко живущий народ, так же ярко явивший миру два известных ему типа, почти что два художественных образа: образ человека творчества (искусства, науки) и образ человека бизнеса. С одной стороны, это Шагал, с другой… нет, не Березовский-Гусинский-Абрамович и не Ротшильд, но, скажем, Джорж Сорос, обыгрывающий с выгодой для себя в финансовые шахматы огромные валютные системы?
– Нет. Не в этом дело. Итальянцы тоже ярко живут. Корни антисемитизма – гораздо более глубокие. Они уходят в века и связаны с единобожием, а потом и с христианством… Но дело не в этом. Все это перешло уже в явление социальное, а точнее сказать, в суеверие. Но главная проблема евреев не в этом, не в антисемитизме… А в том, что они хотят нравиться, хотят, чтобы они были хорошими, чтоб их любили. Хотят, чтобы они были лучше других, и тогда их полюбят… Это все исходит из гетто, из гетто-психологии… Я, например, не хочу, чтобы меня любили. То есть – пусть, пожалуйста, но я не добиваюсь этого, мне это не нужно. А многие евреи этого хотят. Что из этого получается? Ясно. Все они – гоголевские Янкели, подтележные (Гоголь в повести «Тарас Бульба» изобразил такого Янкеля из-под телеги). Это внутренняя еврейская проблема, которая может быть опаснее, чем антисемитизм сам по себе… Треть израильских миролюбцев таковы. Это «интернационалисты». А еврейский интернационализм ясно какой – это любить всех больше, чем самих себя. Все это разные проявления этой внутренней проблемы евреев. И до тех пор покуда не будет преодолен гетто-комплекс, ничего хорошего не будет. Тут дело не в антисемитах. Антисемиты есть и будут. Главное, чтобы они не могли осуществлять свою деятельность безнаказанно. Я считаю и писал об этом, в частности, в романе «Псалом», что главная вина евреев в ХХ веке была в беззащитности, в доверии к человечеству, в одностороннем гуманизме, в пренебрежении к мудрости Моисея «око за око», которую, начиная от Гитлера и до современных немецких телекомментаторов, все осмеивают. А это единственный справедливый закон: никого не надо ненавидеть, никого не надо любить, надо относиться только так, как он относится к тебе. По-другому – нет. До тех пор, покуда евреи не преодолеют свой гетто-комплекс, до тех пор, покуда они не перестанут стремиться «быть хорошими», лучше других, в том смысле чтобы они нравились всем, и переживать оттого, что они не нравятся, до тех пор их положение будет по-прежнему такое же – они будут зависеть от любого антисемитского плевка, от любого харканья, от любого глупого высказывания и так далее…»
Покидая безответно любимую им Россию, Горенштейн увозил столько жизненного материала, что, по мнению писателя, его хватило бы на сто лет работы. В накопленном багаже, несомненно, были и отложившиеся в памяти антиеврейские кампании в советском обществе, волны возбуждаемой государством ненависти к евреям в 1948 и 1952, в 1967 и 1973 годах. Все это воплощалось в СССР в статьях в прессе, в открытых и закрытых партсобраниях, в антиизраильских митингах, в обществах советско-арабской дружбы, в подписании «антисионистских» писем, в том числе и особых писем известных советских граждан еврейского происхождения – деятелей искусств, ученых, спортсменов, военачальников и т.д. – своего рода «знатных евреев». К ожидавшейся победе арабов над Израилем в 1973 году был даже заранее испечен большой праздничный киноторт – документальный фильм «Тайное и явное (Цели и деяния сионизма)», который до сих пор активно распространяется в интернете как «доказательство» злонамеренности евреев мира – нечто вроде современных «Протоколов сионских мудрецов». Следуя приемам геббельсовской пропаганды, авторы фильма «разоблачали» происки сионистов весомым, авторитетным голосом диктора за кадром, якобы комментирующим в действительности ничего не подтверждающий видеоряд, что тем не менее действовало на неподготовленную (впрочем, неподготовленную ли?) аудиторию как гипноз.
Избранная тема не позволила Горенштейну обойти вниманием этот мутный поток государственного антисемитизма, расцветшего неожиданно для многих пышным цветом уже после ХХ съезда КПСС. Писатель искал объяснение природы антисемитизма при социализме – уже не религиозного, а расового, – помня и зная об опыте и практике национал-социализма в Германии. И вот в «Дрезденских страстях» Горенштейн проанализировал антисемитизм как явление – и его исследование показало, что дело в глубоком идейном родстве антисемитизма и социализма.
Текст книги (с подзаголовком «из истории международного антисемитского движения») начинается словами:
Есть книги, которые у всех на виду, и поэтому их никто не читает. Но есть книги, которые являются библиографической редкостью, и поэтому прочесть их мало кому удается. Именно такие две книги внушили мне мысль написать это сочинение. Эти две книги: «Анти-Дюринг», созданный Энгельсом в 1876 – 1878 годах, и «Первый международный антисемитический конгресс» («Der erste Internationale Antisemitenkongress»), брошюрка, изданная в Хемнице в 1883 году издателем Эрнстом Шмайтцером.
Подлинное описание первой сходки «антисемитского интернационала» (выражение, слышанное мной от историка Павла Поляна) в Дрездене в 1882 году, попавшее в руки писателя, было сделано его русским участником и было написано по-русски. Оно и легло в основу повествования Горенштейна о так называемом Первом международном конгрессе антисемитов.
«Дрезденские страсти» разворачиваются перед нами наподобие спектакля, в котором убедительно изображенные писателем внешне цивилизованные люди в красивых костюмах, лично вряд ли способные в жизни на реальное убийство, в окружении шедевров архитектуры барокко провозглашают то, что по логике вещей должно неминуемо привести к Холокосту. Некоторые из них, может быть, и ужаснулись бы, доживи они до попытки «окончательного решения еврейского вопроса». Но умеренной расовой ненависти в природе не существует…
Важным, но находящимся «за кулисами» персонажем книги стал не участвовавший в конгрессе философ-социалист, идеолог нового расового антисемитизма Евгений Дюринг. В годы написания «Анти-Дюринга» Энгельс считал его идейным собратом, заблуждающимся товарищем-социалистом; спустя четыре года для делегатов-социалистов дрезденского конгресса Дюринг уже был (или казался им) вождем, если не пророком, нового более справедливого времени, времени без евреев. Однако и в сочинениях, известных Энгельсу, представления Дюринга о социализме, то есть о победе над капитализмом, постулировали невозможность избавления от капитализма без избавления от евреев.
Дюринг в повести не появляется; зато то и дело на авансцену «из-за кулис» выходит сам автор, Фридрих Горенштейн, который полемизирует как с «услышанным» нами из уст первых новых антисемитов конца девятнадцатого века, так и с текстами их советских наследников, антисемитов середины века двадцатого. При этом создается иллюзия соблюдения трех аристотелевских единств классической драмы: действие конгресса происходит «здесь и сейчас», а автор лишь на время выходит из зала заседаний для очередного комментария как бы перед воображаемой телекамерой, а затем репликой-мостиком «нам пора возвращаться в зал конгресса, где…» продолжает свой «прямой репортаж».
Позволительно предположить, что это художественно-публицистическое исследование Фридриха Горенштейна и его главный вывод – об имманентно присущем социализму антисемитизме – стали фактором, дополнительно подтолкнувшим писателя к решению окончательно покинуть страну в 1979 году. Он не вернулся даже тогда, когда на волне перестройки в Россию возвращались многие писатели-эмигранты. Позднее Горенштейн в одном из интервью на вопрос «почему» ответил коротко: «Я не мазохист».
«Дрезденские страсти», книга, созданная уже сложившимся мастером прозы и киносценарного дела, не только несет в себе сильный публицистический заряд, но и отражает важнейшие особенности творческой оптики автора. Корни своего мировоззрения Горенштейн ясно выразил, отвечая в 1999 году в интервью на мой вопрос:
– У Горького есть рассказ «Рождение человека», где солнце по воле авторской фантазии «думает»: «А ведь не удались людишки-то!» Читая ваши книги, можно предположить, что такой взгляд на человечество, как на неудавшееся племя – это и ваш взгляд?
– Почему это мой взгляд? И это не Горького взгляд. Это из Библии взгляд. Поэтому и был Всемирный потоп и так далее… Моя позиция, безусловно, отличается от позиции гуманистов. Я считаю, что в основе человека лежит не добро, а зло. В основе человека, несмотря на Божий замысел, лежит сатанинство, дьявольство, и поэтому нужно прикладывать такие большие усилия, чтобы удерживать человека от зла. И это далеко не всегда удается. В моем романе «Псалом» есть разговор одного из героев с гомункулом. Герой спрашивает, как различать добро и зло, ведь зло часто выступает в личине добра, и это на каждом шагу, а «человечек из колбы» ему отвечает: «Если то, что ты делаешь и чему учишь, тяжело тебе, значит, ты делаешь Доброе и учишь Доброму. Если учение твое принимают легко и дела твои легки тебе, – значит, ты учишь Злому и делаешь Зло…»
Вот этот декларированный «антигуманизм» и определил, наверное, чужеродность писателя Горенштейна официальной советской литературе – включая и литературу «шестидесятников» – и трудную издательскую судьбу сочинений писателя как до, так и после распада СССР. К тому же написанные в 60-х и 70-х годах тексты Горенштейна казались некоторым критикам устаревшими, опоздавшими – на фоне произведений молодых писателей, концептуалистов и постмодернистов, вольных и невольных конкурентов Горенштейна в борьбе за новую популярность. Горенштейн был уязвлен, когда, попав в 1992 году с романом «Место» в шорт-лист первого «Букера», он не стал лауреатом: жюри предпочло не его и не Людмилу Петрушевскую, а Марка Харитонова…
В этой связи интересна эволюция понимания важнейшей разницы между Горенштейном и современными ему литераторами-шестидесятниками писателя и литературоведа Виктора Ерофеева, ставшего на волне перестройки и истории с «Метрополем» одним из законодателей моды и вкусов в литературе начала девяностых. Когда-то, в 1992 году, он писал о романе «Псалом»:
…Все эти идеи, высказанные резким и уверенным тоном не очень умного человека, были бы весьма любопытны в устах персонажа-философа, самостоятельно докапывающегося до смысла наслаждения и греха, однако в устах Горенштейна они получают значение авторитарного слова, похожего на окаменевшее дерьмо. Последнее, однако, «оттаивает» и блещет новыми подробностями всякий раз, когда после очередной философской промывки читательских мозгов Горенштейн обращается к «беспросветной» жизни….
Конечно, такие пассажи скорее отталкивали читателя от Горенштейна. Но прошло двадцать лет, и вот, выступая на вечере памяти Горенштейна 9 декабря 2012 года в Москве, Виктор Ерофеев говорил (цитируется по аудиозаписи):
– Я действительно считаю Фридриха замечательным, большим, настоящим писателем, и как-то грустно, что его не замечают сейчас. Или не хотят замечать… На самом деле Фридрих был человеком, похожим на древних библейских пророков – он был человеком жестоким и жестким в своем взгляде на мир, в своем взгляде на нас, в своем взгляде на человечество вообще. Я думаю, что из русской прозы второй половины ХХ века, может быть, только Шаламов так беспощадно оценивал человеческие возможности и человеческую беспомощность. Фридрих был беспощадным писателем, и достаточно вспомнить его «Псалом», роман, где он стравил две ментальности, российскую и еврейскую, и показал, как это страшно, вот эта непримиримая вражда, непонимание и разница мировоззрений. Это – великий роман. Я считаю, это его лучший роман, в котором заканчивается та «оргия гуманизма», о которой говорил Андрей Платонов, глядя на советскую литературу… Мы были всегда в русской литературе эдакими революционерами, которым был нужен хороший человек для того, чтобы была революционность, которая заложена в наших генах и в нашей морали. Фридрих вел совсем другую линию… Но мы его пропустили. Не заметили. Не потому, что человек такой (нехороший), а потому, что мы не были готовы к этому внутреннему злу, к этому садизму, к страсти к унижениям, к похоти, к деньгам и так далее, и так далее… К тем проявлениям, которые Фридрих спокойно проанализировал… и с напором библейского пророка выразил в своем романе «Псалом». Так что это писатель, идущий против течения, и, надо сказать, идущий против очень серьезного течения в нашей литературе – очень серьезного, гуманистического… И это не значит, что он – антигуманист. Он просто писатель, который хотел понять человеческую природу… Удивительный талант, который сопротивлялся огромному количеству установок, которые мы приняли еще в школе, или приняли просто с нашим образованием, с нашей верой в нашу интеллигентскую традицию… Мы приняли и верили, что это так и должно быть. Фридрих все это развернул.
Оставим на совести Ерофеева формулу «стравил две ментальности, российскую и еврейскую» (причем даже не «русскую» – оговорка или нет?), но главное он понял. Из этого эпизода следует, однако, что если даже Виктору Ерофееву, признанному знатоку русской литературы, понадобилось целых двадцать лет для осознания масштаба Фридриха Горенштейна, то широкое признание писателя (если оно для серьезной, глубокой литературы вообще возможно) – дело отдаленного будущего.
Книга «Дрезденские страсти» приходит к читателю с большим, можно сказать, историческим опозданием. Понятно, что до перестройки о выходе ее не могло быть и речи, но она имела шансы быть изданной в начале девяностых. Однако этого не случилось. Книга была впервые напечатана в 1993 году в США в нью-йоркским издательстве СЛОВО/WORD. И вот теперь, спустя еще двадцать лет, она выходит в свет в России. Не опoздала ли она на самом деле? И если да, то почему я считаю это опоздание историческим?
Потому что именно в эти прошедшие десятилетия произошел массовый исход так называемых советских евреев. От былых двух миллионов евреев России осталось примерно двести тысяч. Я думаю, что массовость решения людей, не читавших книгу Горенштейна, а следовавших только своему инстинкту, как это ни парадоксально, только подтверждает выводы автора, правоту его анализа. Евреи уехали. Вроде бы антисемиты должны были успокоиться…
Но антисемитизм, как показывает опыт, остается живуч и там, где евреи и вовсе исчезли. Он подобен фантомной боли. К тому же международный антисемитский интернационал теперь подкреплен новыми возможностями интернета. Поэтому книга Горенштейна, и опоздав, остается все еще актуальной, и ей суждено, к сожалению, оставаться таковой.
Творчество Фридриха Горенштейна завершило, как мне представляется, период звучания в русской культуре голосов ассимилированных евреев – евреев по происхождению, но русских по культуре. Этот «выход на коду» русского еврейства остро ощущал другой автор «Метрополя» Юрий Карабчиевский. Он, как предполагается, покончил с собой после попытки прижиться в Израиле и последовавшего затем возвращения в ставшую чужой Россию. Но Горенштейн видел мир иначе – он был убежден в будущем и евреев вообще, и Израиля, и это давало ему силы жить и творить. Надвигающийся закат проекта «русское еврейство», несомненно, регистрировал и он. Только этим, пожалуй, и можно объяснить, почему в интервью Савве Кулишу в 2000 году Горенштейн неожиданно, хотя и не без иронии, попросил называть его не русским, а русскоязычным писателем, т.е. именно так, как хотели именовать всех авторов, не вписывавшихся в их канон, писатели-«почвенники».
Тема же Фридриха Горенштейна, похоже, вечна. Она только ушла из России, переместилась, но, несомненно, будет продолжать разворачиваться на других пространствах и в других временах. Время писателя Горенштейна еще впереди.
Фридрих Горенштейн
ДРЕЗДЕНСКИЕ СТРАСТИ
Повесть
из истории международного
антисемитского движения
С тех пор как возникла противоположность классов, рычагами исторического развития сделались дурные страсти людей: жадность и властолюбие.
Ф. Энгельс «Людвиг Фейербах и конецнемецкой классической философии»
ДУХ, ТОЛЬКО ЧТО ОБРАЗУЮЩИЙСЯ:
Жаба, ноги паука и как прибавленье —
крылья, нет еще зверька, есть стихотворенье.
Гете «Фауст», перевод Н. Холодковского
НЕСЛОЖИВШИЙСЯ ДУХ:
Я из гадов двух гибрид в синтезе каком-то,
на живую нитку сшит, как строфа экспромта.
Гете «Фауст», перевод Б. Пастернака
Введение
Есть книги, которые у всех на виду, и поэтому их никто не читает. Но есть книги, которые являются библиографической редкостью, и поэтому прочесть их мало кому удается. Именно такие две книги внушили мне мысль написать эту повесть. Эти две книги: «Анти-Дюринг», созданный Энгельсом в 1876 – 1878 годах, и «Первый международный антисемитический конгресс» («Der erste Internationale Antisemitenkongress»), брошюрка, изданная в Хемнице в 1883 году издателем Эрнстом Шмайтцнером.
Брошюрка эта, где даже в заголовке чувствуется некоторая наивность поиска и свобода еще не сложившихся понятий (антисемитический вместо антисемитский), представляет из себя аккуратную книжечку чуть более паспортного формата с твердым темно-сиреневым переплетом и с зеленовато-серым титульным листом. На титульном листе этом помимо заглавия указаны города и фамилии лиц, у которых эту брошюрку можно получить. Ну, фамилии лиц опустим, они нам ни о чем не говорят, а названия городов укажем, чтобы убедиться, как широко все задумывалось и рекламировалось. А именно: Амстердам, Брюссель, Киев, Лемберг (Львов), Лондон, Москва, Нью-Йорк, Одесса, Санкт-Петербург, Париж, Рим, Варшава.
Тем не менее конгресс этот канул в Лету, и не каждый, даже образованный, современный антисемит знает о его существовании, о его замыслах и о его страстях. В этом есть своя закономерность. Антисемитизм, как движение крайне нигилистическое, где даже в самом названии содержится отрицание, всегда пренебрегал теорией, которая плелась в хвосте его каждодневной практики с того самого момента, как христианско-фeодальная Европа сделала его необходимым элементом своей исторической драматургии. Это имело свои преимущества и за многие века полного владычества христианской идеологии над наивными народными душами создало богатый антисемитский фольклор, которым, по сути, пользуются и по сей день и которому антисемитская наука, явившаяся в конце XIX века и в своем первоисточнике говорящая главным образом на немецком языке, придала национальные черты «высокопарного пустозвонства» (выражение Энгельса). Все это привело к тому, что антисемит всех времен и народов хорошо знал своего врага-еврея (разумеется, фольклорного еврея), но плохо знал сам себя. А есть только один метод самопознания – это полемика внутри собственного движения, и есть только одна мера для всякого движения – это его положительный идеал. Что антисемиты обещают евреям – понятно. Давайте посмотрим, что они обещают другим народам, в том числе и тем, от имени которых они выступали и выступают. Брошюра-отчет о состоявшемся в сентябре 1882 года в Дрездене «Первом международном антисемитическом конгрессе» дает нам возможность проанализировать борьбу разных направлений в антисемитизме, существовавших к концу XIX века, их внутреннюю полемику и победу нового, социалистического, антикапиталистического антисемитизма над его устаревшим религиозно-клерикальным прародителем.
Одной из главных фигур подобного анализа является Евгений Дюринг, лично на конгрессе не присутствовавший, но представленный своими сторонниками в качестве создателя и вождя расового научного социализма.
Кстати, в обширной острополемической книге Энгельса «Анти-Дюринг» даже внимательный читатель с трудом обнаружит расовые антисемитские черты в социализме Дюринга. Может быть, эта сторона вопроса кажется Энгельсу не заслуживающей серьезного внимания? Лишь кое-где и мельком он касается этой особенности Дюринга. Так, в главе «Натурфилософия», в которой Дюринг пытается расправиться с ненавистным ему Дарвином за его якобы вывод об общем прародителе всего живущего, Энгельс замечает: «Общий прародитель был изобретен господином Дюрингом лишь для того, чтоб елико возможно скомпрометировать его путем сопоставления с праиудеем Адамом». В другом месте, в разделе «Философия», в главе «Мораль и право», где речь идет о «социалитарном будущем строе» (мы еще вернемся к этому своеобразному термину расового социалиста Дюринга), Энгельс пишет: «Даже утрированное до карикатуры юдофобство, которое при всяком случае выставляет напоказ господин Дюринг, и то составляет если не специфически прусскую, то все же специфически ост-эльбскую особенность. Тот самый философ действительности (философ действительности – тоже весьма своеобразный термин расового социализма Дюринга, на котором мы остановимся поподробнее), который суверенно смотрит сверху вниз на все предрассудки и суеверия, сам до такой степени находится во власти личных причуд, что сохранившийся от средневекового ханжества народный предрассудок против евреев он называет «естественным суждением, покоящимся на «естественных основаниях», и даже доходит до следующего монументального утверждения: «социализм – это единственная сила, способная бороться с сильной еврейской подмесью»». Далее Энгельс не без основания замечает с сарказмом: «Еврейской подмесью! – какой это «естественный» язык».
Язык действительно неважный для того, чтоб изъясняться на нем с вышеупомянутым Дарвином или подобными личностями, но мы-то теперь знаем, что для «социалитарного общества» язык этот самый подходящий; и то, что г-н Дюринг, по предположению Энгельса, учился грамоте по прусскому кодексу, и то, что его философский горизонт ограничен шестью старопрусскими провинциями, – все это вовсе не составляет слабой стороны для философа действительности. Ибо, как он сам заявляет: «На месте всех ложных теорий надо поставить эмпирические свойства рационального понимания и инстинктивного побуждения. Таким путем устраняются нелепые фантазии о внутренней свободе, которые пережевывали и которыми кормились целые тысячелетия, и они заменяются чем-то положительным, пригодным для практического устройства жизни».
Может быть, с точки зрения научного социализма Энгельса это действительно «оракулоподобные банальности». Оракулоподобные банальности вообще характерны для идеологического потомства Дюринга. Но назвать социальные и экономические построения расового социализма Дюринга, его зоологический антисемитизм «личной причудой» – тут невольно ловишь себя на мысли, что, несмотря на всю остроту и язвительность полемики против Дюринга, у Энгельса существовала тайная мысль только высечь, а не уничтожить пусть нерадивого, но собрата по социализму. Более того, на первый взгляд бескомпромиссная критика Энгельса имеет свои пределы. Создается впечатление, что Энгельс понимает: расовый социализм Дюринга и классовый социализм Маркса имеют общую праматерь – классическую немецкую философию, общего врага – капитализм и общие идеалы – социалистические. Поэтому вульгарное, невежественное понимание пути к социализму должно быть высмеяно и разгромлено, но так, чтобы полемика не затронула социалистического, антикапиталистическою фундамента. Энгельс знает, что «именно бескомпромиссная борьба внутри немецкого христианского мировоззрения родила немецкий материализм», что «два выдающихся гегельянца, Штраус и Бауэр, взяв каждый одну из сторон Гегеля, направили их друг против друга как полемическое оружие», чем нанесли тяжелый удар прежде всего дорогой им обоим философии Гегеля.
Поэтому в полемике с расовым социалистом Дюрингом классовый социалист Энгельс все-таки соблюдает правила рыцарского турнира. Это борьба внутри одного политического сословия, связанного определенными правилами чести. В своем предисловии к «Анти-Дюрингу» Энгельс пишет: «Я тем более должен соблюдать по отношению к нему (Дюрингу) все правила чести, принятые в литературной борьбе, что после начала публикования моей работы Берлинский университет поступил с ним постыдно несправедливо… Университет, который идет на то, чтобы при известных всем обстоятельствах лишить г-на Дюринга свободы преподавания, не вправе удивляться, если ему при столь же известных всем обстоятельствах навязывают г-на Швенингера».
Заметим, что Дюринг был уволен из университета главным образом не столько из-за работы Энгельса, сколько за клеветническую кампанию против выдающегося немецкого физика и физиолога Гельмгольца. Кто такой Швенингер, которого нелестно характеризует Энгельс, мы не знаем, но кто такой Дюринг и каковы его «личные причуды», мы уже себе представляем со слов того же Энгельса. В дальнейшем мы познакомимся с этим вождем социалистическою антисемитизма еще ближе, и поэтому сказанное в примечаниях Политиздата «О преследовании Дюринга реакционной профессурой» (значит, по отношению к расисту Дюрингу кто-то еще может выглядеть реакционером) приобретает еще больший смысл и особый привкус.
Эти два момента «Анти-Дюринга»: талантливая острота в полемике и осмотрительная осторожность в предельные моменты, касающиеся святая святых – социализма, – предоставляют анализу серьезные возможности. Надо заметить, что расовая теория и ее современная форма – расовый социализм – просты, логичны и ясны, как всякий продукт разложения. В то же время это все-таки социализм, мы убедимся в том, исходя не только из собственных воззрений Дюринга, но и из полемических замечаний Энгельса. Более того, мы убедимся, что круг вопросов, которыми занимается Дюринг: труд и капитал, социалистическая мораль и социалистическое право, хозяйственная коммуна как социалистическая форма экономики – указывают, что Дюринг рассматривает расовый социализм как переходную стадию через социалистическую диктатуру к расовому коммунизму. Его итоговое отношение к Марксу отрицательное, как, впрочем, ко многим выдающимся личностям, но первоначально Дюринг опубликовал положительную рецензию на первый том «Капитала». Таким образом, анализ одноклеточного расового социализма может существенно прояснить суть многоклеточного социализма классового, да и социализма вообще. Мы, пожив в XX веке, знаем, что одноклеточный расовый социал-национализм, который нащупал Дюринг еще в 1876 году и который Энгельс когда-то называл его «личными причудами», не имел тенденции к внутреннему разложению, а был уничтожен извне, тогда как многоклеточная, классовая форма социализма имеет постоянную тенденцию стремиться к своей простейшей одноклеточной форме и требует постоянных идеологических и организационных усилий для того, чтобы этого избежать. Когда же эти усилия ослабевают либо исчезают, многоклеточный классовый социализм очень быстро приближается к своей ясной, логичной расовой одноклеточной форме.
Все вышесказанное вовсе не означает механическое уравнивание классового социализма с расовым. Как раз наоборот, мы будем делать упор не на сходстве, а на различии между ними и на полемике между ними. Именно полемика между ними поможет нам понять природу подлинных социалистических процессов так, как они протекают и существуют на практике. А для полемики между этими двумя формами социализма нужно избрать в каждой из них противоположные тенденции. То есть, если в расовом социалисте Дюринге мы главным образом сосредоточимся на том, что он утверждает, то в классовом социалисте Энгельсе мы сосредоточимся на том, что он отрицает и против чего он выступает. Кстати, когда речь идет об Энгельсе, мы, естественно, имеем в виду и Маркса. В своей работе «Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии» Энгельс сильно преуменьшил свои масштабы рядом с Марксом, слишком самоунизился, заявив: «То, что внес я, Маркс мог легко сделать и без меня, за исключением, может быть, двух-трех специальных областей. А того, что сделал Маркс, я никогда не мог бы сделать. Маркс стоял выше, видел дальше, обозревал больше и быстрее всех нас. Маркс был гений, мы, в лучшем случае, – таланты».
Мы позволим себе не согласиться с подобной крайней точкой зрения Энгельса о самом себе. Впрочем, не в этом суть. На наш взгляд, сам Маркс в изложении Энгельса, ничего не теряя по существу, гораздо более ясен, чем Маркс в изложении Маркса. В этом еще одна важная ценность книги «Анти-Дюринг», книги, которая у всех на виду, но которую читают сегодня главным образом официальные профессора от марксизма, которые в большинстве своем ничего не могут понять, и студенты, которые ничего не хотят понять. Что касается брошюры «Первый международный антисемитический конгресс», то сама по себе она любопытна, но не более того и вряд ли могла бы лечь в основу художественного сочинения, в крайнем случае в основу такой же современной брошюры «по поводу», если б одновременно с ней к нам не попали записки дневниково-мемуарного характера, на основании которых и была, собственно, составлена эта брошюра, засушившая меж своих страниц живое содержание записок, как засушивают осенний лист в момент дорогого расставания. Мы берем подобный лист, прижимаем его к губам, но он уже мало что говорит нам и пахнет не жизнью, а тлением. Только художественность воссоздает жизнь, и без художественности самые интересные идеи обречены скучно лежать меж страниц, подобно высушенному листу, редко попадаясь на глаза человеку, а если и попадаясь, то проходя для него бесплодно, быстро забываясь и не оставляя следа в живой сутолоке бытия. Именно художественность поможет вернуть к жизни животрепещущие идеи «Анти-Дюринга» и придаст смысл страстям, разыгравшимся в сентябре 1882 года на Международном «антисемитическом» конгрессе в Дрездене, столице Саксонского королевства.
Заметки эти написаны на русском языке от первого лица. Из их названия и содержания видно, что писал их русский делегат этого Международного антисемитского конгресса. Но автор выступает инкогнито, и тому есть причины. С одной стороны, конгресс не мог быть одобрен либеральными кругами России, ибо носил антисемитский характер. С другой же стороны, он не мог быть одобрен и правыми, а также правительственными кругами, ибо носил социалистический и антикапиталистический характер. Итак, переходим собственно к запискам, которые мы оставляем в их подлинном виде, но позволяем себе прерывать комментариями, разъяснениями, а также анализом книги Энгельса «Анти-Дюринг», по времени действия примыкающей к запискам и имеющей с ними общего героя – Евгения Дюринга. Записки эти называются так: «Дневник русского социалиста-антисемита». Начнем их чтение.
I
«15 сентября 1882 года я приехал в Дрезден. Я в Дрездене, чудесном саксонском городе, центр которого зелен от многочисленных ухоженных городских парков, а окрестности в прекрасных фруктовых садах. К тому же в окрестностях множество рыбных озер, которые вместе с великолепной Эльбой поставляют на стол горожан и гостей разнообразные рыбные блюда, из которых особенно вкусен голубой угорь (der blaue Aal). Остановился я в одной из лучших городских гостиниц – “Stadt Berlin”. Цены здесь умеренные, но все-таки дороговато. Для сравнения скажу, что в Москве в гостинице “Лоскутной” обед из шести блюд обходится 1 руб. 70 коп. Здесь вдвое дороже. Moгут, конечно, возразить, что в Москве не подают голубого угря свежего, только что пойманного. Но в Казани, например, обед из пяти блюд стоит рубль, в том числе холодная белуга под хреном.
Однако, несмотря на подобные мелкие неурядицы, естественные для человека не только вне дома, но и вне отечества, настроение хорошее, сентябрьское солнце здесь так же ласково и мягко, как у нас в начале лета, и к тому же завтра мне предстоит приятный путь к Цвингеру, городскому району, где расположена королевская картинная галерея. Я начал свой дневник не с упоминания о картинной галерее, чтоб хоть как-нибудь, хоть для самого себя показаться оригинальным, ибо все приезжие в записках и разговорах о Дрездене начинают именно с его картинной галереи. Должен сказать, что когда я из письма моего венгерского друга Виктора Иштоци (какое счастье иметь право называть этого великого человека своим другом) узнал, что первый международный антисемитический конгресс состоится именно в Дрездене, что в то время, как прусское правительство во главе с небезызвестным Бисмарком запретило его, саксонское правительство не только разрешило, но готово оказать всяческую поддержку, радость моя была двойною. Во-первых, оттого, что наконец состоится объединение всех сил христианского мира, всех сил европейско-арийских народов в их борьбе с еврейскими поработителями, а во-вторых, что конгресс этот состоится в городе, где расположена всемирно знаменитая картинная галерея. К тому же, по счастливому совпадению, Дрезден переживал торжественный момент прибытия на военные маневры в Саксонию императора Вильгельма, и мы, то есть русские делегаты первого международного антисемитического конгресса, имели возможность вместе с толпами горожан насладиться этим прекрасным зрелищем.
Собственно, делегатом в полном смысле этого слова был один лишь я, специально приехавший на конгресс из России, приглашенный непосредственно одним из организаторов конгресса Виктором Иштоци, депутатом венгерского парламента от партии венгерских националистов-антисемитов. По обстоятельствам, которые, я надеюсь, понятны читателю, я не могу назвать своего имени, отчества, фамилии, ибо, если мои антисемитские взгляды могут найти немало сочувствующих в здоровой части русского общества и даже среди правительственных должностных лиц, то мои социалистические воззрения все еще служат для них камнем преткновения. Да и что говорить о России, стране молодой, находящейся в развитии и становлении, если даже в Европе социалисты-антисемиты встречают непонимание, неприязнь, а подчас и гонения со стороны властей. Полиция, особенно в Австрии и Пруссии, то есть там, где народное недовольство евреями особенно велико, производит часто обыски и аресты активистов антисемитического социалистического движения, конфискует прокламации, брошюры, воззвания, а случается, и подавляет оружием вспышки народного гнева против своего расового еврейского врага. С введением же Бисмарком специальных законов против социалистов немецким социалистам-антисемитам стало особенно трудно. Более того, даже внутри самого антисемитического движения левые социалисты-антисемиты подвергаются нападкам со стороны правых христианских антисемитов, стремящихся к сотрудничеству с властями и адресующих свою антисемитическую пропаганду не столько народу, сколько правительству. Подобная картина станет особенно ясна читателю, когда я приступлю непосредственно к описанию заседаний конгресса. В нашей русской делегации мои социалистические воззрения тоже встречали мало сочувствия. Очевидно, для нас, русских, социалистический антисемитизм все-таки еще преждевременен, и сначала он должен утвердиться в Европе.
Вообще демократический антисемитический спектр, который обнаружился на конгрессе, для нас кажется несбыточной пока мечтой. Наше русское антисемитическое движение крайне однообразно и несамостоятельно. Общих руководящих центров у него нет, а даже если они и возникнут, то все равно будут крайне зависимы от народной антиеврейской стихии. Правда, могут мне возразить, именно подобное положение придает русскому антисемитизму подчас такой размах и решительность, что европейские антисемиты восхищаются и завидуют нам, о чем мы не раз слышали на конгрессе. Это, конечно, переполняет наши души гордостью за свое отечество, которое и здесь проявляет русскую самобытность, но при этом следует помнить, что мы живем в конце XIX века и через какие-нибудь два десятилетия наступит век ХХ. Антисемитизм не выполнит своих задач в новых условиях, если не выработает своих теоретических основ. И величайшая заслуга Евгения Дюринга состоит в том, что он придал старому стихийно-народному антисемитизму новые социалистические научные черты. Даже Виктор Иштоци, этот выдающийся вождь практического европейского антисемитизма, принимает учение Дюринга с оговорками и не может освободиться окончательно от христианских начал в антисемитизме. Никто не собирается отрицать заслуг христианства в антисемитическом движении. Именно христианство пробудило в европейских народах антиеврейское самосознание. Но время идет, и то, что когда-то было двигателем, постепенно становится тормозом. Это естественно, но естества-то чаще всего и не хотят понять даже умные люди. Поэтому особенно ценно присутствие на конгрессе таких деятелей, как Иван Шимони, венгерский журналист, член венгерского парламента, редактор Ungarische Post («Венгерская почта»), газеты, выходящей в Пресбурге на немецком языке, который, являясь отличным помощником Иштоци в практическом антисемитизме, в то же время придерживается более передовых взглядов в теоретическом антисемитизме и с пониманием относится к учению Дюринга. Но главным проводником идей Дюринга на конгрессе был доктор Генрици, молодой и весьма талантливый писатель и ученый из Берлина (судя по фамилии, он тоже австро-венгерского происхождения). С доктором Генрици я не был знаком и до конгресса даже не состоял в переписке, однако много о нем слышал от Виктора Иштоци, и, хотя Виктор не о всех сторонах его деятельности отзывался одинаково похвально, я все-таки мечтал познакомиться с подобной выдающейся и, можно смело сказать, новой в антисемитическом движении личностью.
Но вернемся ко времени, предшествующему конгрессу, ко дню 15 сентября 1882 года, когда мы, русские делегаты, в толпе горожан приветствовали императора Вильгельма. Нас было пятеро, число достаточно внушительное, если учесть, что такая опытная и внесшая огромный вклад в международный антисемитизм делегация, как австрийская, была представлена всего тремя и далеко не выдающимися своими представителями, в силу внутренних распрей и организационной неразберихи. А такая общеизвестная в практическом антисемитизме страна, как Румыния, в силу тех же причин не была представлена вовсе. Самыми многочисленными были немецкая и венгерская делегации. Но и для нас, русских, пять человек было весьма почетно, тем более что каждый человек обладал своеобразием и был в своем роде личностью неповторимой. Статистов среди нас, как среди немцев и венгров, не было вовсе.
Кроме меня в состав делегации входил человек, которого я обозначу как Путешественника. Умный и весьма озабоченный судьбой нашего русского отечества, он предпринял на свои средства несколько поездок по России. В одной из таких поездок, точнее говоря, в Одессе, где засилье еврейского элемента особенно сильно, мы с ним и познакомились. Проникнувшись к нему доверием, я рассказал о целях конгресса и даже коснулся нового течения антисемитизма, к которому считаю себя принадлежащим, а именно социалистического антисемитизма. Воззрения социалистического антисемитизма он встретил с пониманием, но разделил их не полностью, цели же конгресса разделил полностью и, поскольку собирался ехать в Европу, согласился заехать в Дрезден и принять участие в антисемитическом международном объединении в качестве русского делегата.
Двух других членов нашей делегации я назову их подлинными именами с их согласия, поскольку они постоянно живут в Дрездене. Это Павел Яковлевич и его гражданская жена Надежда Степановна. Сначала несколько слов о Павле Яковлевиче. Павлу Яковлевичу по его связям и положению предстояла блестящая карьера в любой отрасли государственной службы или при дворе. Несомненно, что благодаря своим высоким дарованиям он не остался бы в тени, но боль за свой русский народ, который подтачивал еврейский инородный червь, не дала ему отдаться спокойной чиновничьей карьере. По обычаю образованного русского класса он был влюблен в Западную Европу, и русофилом назвать его было нельзя, но и западником назвать вряд ли можно было, ибо влюбленность эта не шла в ущерб родине. Он был и остался до мозга костей русским патриотом. До счастливой нашей встречи здесь, в Дрездене, мне приходилось встречаться с ним и в России. В частной жизни он был представитель уже вымирающего племени русских бар. В холодном мундирном Петербурге, в своей квартире, он воссоздал теплый уголок старой русской усадьбы с присущей ей простотой обращения и широкого гостеприимства. Холостяк и уже пожилой человек, пятидесяти с небольшим лет, он год назад встретил в Дрездене Надежду Степановну, которая здесь находилась на лечении. Будучи в главном близкими и родными друг другу людьми, они, как это нередко бывает, в частностях являли полную противоположность, и потому их взаимоотношения состояли из постоянных споров, разрывов и примирений. Я даже думаю, что, не будь этих препирательств, они долго б не могли быть друг с другом, тем более что в Москве у Надежды Степановны остался муж, которого она, правда, не любила, но, кроме того, остались дети, которых она любила, и осталась подруга, больная чахоткой, которой врачи предписали постоянно жить в Ялте и по которой она тосковала крайне и каждый день писала ей письма, получая в ответ часто письма от нее.
Эти две женщины, обе до предела религиозные, о чем меня специально предупредил Павел Яковлевич, выразившись, что, мол, слышал о моих социалистических антирелигиозных воззрениях, и потому попросивши меня быть в религиозных вопросах с Надеждой Степановной тактичным, – итак, эти две женщины еще в сентябре-октябре 1866 года молоденькими девушками ездили на Волынь с целью помочь бедному православному люду, страдающему от евреев. Я бы сказал, что обе эти женщины являют из себя тип первых русских женщин-антисемиток в полном смысле этого слова. О женском антисемитизме и о вкладе женщин в антисемитическое движение еще известно недостаточно. Эта тема еще ждет своего автора. Я имею в виду не обычные антиеврейские выкрики глупых пьяных баб, мечтающих пограбить еврейское барахло во время антиеврейских народных выступлений. Речь идет об осознанной антиеврейской борьбе русских женщин, самоотверженность и самоотдачу которых можно сравнить разве что с самоотверженностью жен декабристов. Подругу Надежды Степановны Марью Васильевну я имел возможность узнать только из ее писем и по рассказам о ней. Но и этого достаточно. Саму же Надежду Степановну имел удовольствие наблюдать и в ее частной жизни, и в ее общественной деятельности во время выступления на конгрессе, вызвавшего бурное одобрение всего антисемитического содружества.
Пятым русским делегатом был Купец (так я условно назову его). Надо признаться, что антисемитические воззрения его были путаны, и в конце концов он конгресс покинул. Да и познакомились мы с ним в Дрездене случайно, куда он приехал по делам. Но его мысли по вопросам экономической борьбы с еврейским элементом в России весьма ценны…
Итак, в солнечный день 15 сентября мы, пять русских делегатов, стоя в толпе, наблюдали замечательное зрелище. Город Дрезден был роскошно украшен флагами и триумфальными арками, улицы полны народу. Даже когда внезапно из-за Эльбы поднявшийся ветер пригнал тучи и пошел дождь, народ не разошелся. Фельдмаршал Мольтке и его помощник Вельдзее сопровождали императора. Императорский экипаж был заложен четверкой цугом. Около экипажа следовал верхом комендант Оппен и шталмейстер. Император с наследным принцем и супругой проследовали мимо нас. Впереди императорского экипажа ехал инспектор полиции и два жандарма. Затем президент полиции. Затем офицеры ландвера.
Присутствующий вместе с нами представитель местных саксонских антисемитов, а именно председатель антисемитского форейна саксонских портных Лацарус, давал пояснения, но в отличие от восторгов толпы лицо его было озабочено и даже печально. Я спросил его тихо, не стряслось ли что-либо. Может, под воздействием Бисмарка саксонское правительство хочет запретить конгресс?
– Нет, – ответил он, – с этим пока слава богу. В этом мы, саксонцы, пока еще суверенны. Но обратите внимание, сколько мундиров. Среди всех этих жандармов и полицейских, наехавших из Берлина, совсем затерялся наш саксонский король Альберт XII.
– И действительно, – признался я, – мы не заметили совершенно, что императора сопровождает саксонский король.
– Дело не только в этом, – продолжал Лацарус. – Обратите внимание, сколько приехало из Берлина прусских жандармов и полицейских. Дело в том, что в прошлом всякий раз, когда начинались маневры и военные гарнизоны покидали города, сразу же повсюду вспыхивали народные выступления против евреев. Вот теперь Бисмарк и старается заменить военные гарнизоны полицией и жандармами. А ведь жандармы Бисмарка хуже драгун, и, когда народ хочет отнять награбленное у него евреями имущество, они становятся на сторону евреев, не останавливаясь даже перед пролитием христианской крови… Проклятые пруссаки…
– Ну что ж это вы так против всех пруссаков, – улыбнулся я, – доктор Генрици ведь тоже пруссак.
– О, доктор Генрици, – сказал Лацарус, и улыбка озарила его печальное, сердитое лицо…
II
Вечером, накануне открытия конгресса, мы, четверо русских делегатов, собрались на товарищеский ужин в ресторане «Итальянская деревушка»(Italienisches Drfchen), расположенном, кстати, недалеко от картинной галереи. Купец где-то отсутствовал по своим делам, но обещал завтра ровно к десяти утра прибыть на конгресс. Заняли мы место у окна, откуда хорошо видна Эльба. Ели, конечно, голубого угря и пили белый рейнвейн.
– В этом ресторане я познакомился с Достоевским, – сказал Павел Яковлевич, – какой великий русский человек… Всего каких-нибудь пять-шесть лет назад я сидел с ним здесь, за вот тем вот столиком… Всего год, как его не стало…
– Русская земля никогда не оскудевала людьми здравого смысла, – сказал Путешественник, – и горе наше не в том, что их нет, а в том, что их не слушают. Здравый смысл слишком уж прост и, главное, неподатлив ни на какие шарлатанства, и в этом причина его неуспеха среди современного общества. Общество охотно принимает пестроту за красоту, сложность и вычурность – за рекомендацию учености и успеха.
– Boт именно шарлатанство, – поддакнул Павел Яковлевич.
Замечу, что память у меня хорошая, к тому же я перед поездкой на конгресс прошел курсы стенографии и старался делать записи либо по ходу разговоров, как на конгрессе, либо, когда это было неудобно, например в данной, частной ситуации, я старался все записывать сразу же, оставшись наедине. За полную точность раговоров я, конечно, не ручаюсь, но могу сказать, что они достаточно близки к оригиналу. Поэтому, когда заговорил Путешественник и Павел Яковлевич поддержал его, я, зная серьезность воззрений обоих, настроился слушать так, чтоб запомнить поподробней, ибо сказанное было, конечно, лишь вступлением. Но на беду вмешалась Надежда Степановна с каким-то неоконченным спором, который они, очевидно, вели прежде с Павлом Яковлевичем.
– Павел Яковлевич, – сказала она, – вы можете называть мои идеи шарлатанством, но я по-прежнему считаю, что наш русский гимн не то чтобы плох, а как-то мелок.
– Да не вас я имел в виду, – с досадой сказал Павел Яковлевич, – когда говорил о шарлатанстве… И потом, отчего же «Боже, царя храни» мелок?
– Мелок, – сказала Надежда Степановна, – русский наш народный гимн должен быть «Спаси, Господи, люди твоя».
– Да не ваши это мысли, – совсем раздосадованно крикнул Павел Яковлевич. – Киреевского это мысли, Киреевского… Зачем вы берете на себя чужие глупости…
Тут пришел черед покраснеть от негодования Надежде Степановне.
– Пусть Киреевского, – сказала она, – пусть… Вы считаете, глупости, а я согласна с каждым словом… И в «Спаси, Господи…» есть царь. Но прежде всего есть там люди… Это самый великий христианский народный гимн… Когда в прошлом году мы с Марьей Васильевной, как и пятнадцать лет назад, ездили по местам антиеврейских народных выступлений, то как ни велико было возмущение православного населения против потомков тех, кто когда-то предал и распял Христа, а стоило нам запеть с Марьей Васильевной «Спаси, Господи…», как самые озлобленные лица тотчас смягчались и обращались к небу…
Слова Надежды Степановны были так искренни, так чисты, что Павел Яковлевич, как ни был рассержен, тотчас смягчился, взял ее за руку и сказал:
– Надежда Степановна, я тоже православный и потому тоже смягчаюсь…
Таким образом, неприятное это препирательство благополучно окончилось шуткою и даже позволило Путешественнику высказать весьма интересную мысль.
– Я, господа, в молодости своей увлекался либерализмом, – сказал он. – Да и теперь считаю, что наше антиеврейское русское дело не должно быть отдано золоторотцам на откуп. Я считаю, что мы должны добиться такого положения, при котором сами евреи поняли бы свою порочность и чуждость их нам. Чего ж они ждут, на что надеются? Евреи – паразиты в общечеловеческой семье, они ничего не внесли в общечеловеческий труд…
– На что надеются, – живо откликнулась Надежда Степановна, – на нас и надеются, на то, что в нашей православной семье появится побольше жидов… С русскими фамилиями, с русскими родителями, но жидов, – она сказала это с какой-то грозной скорбью, на которую способна только русская женщина, – надеются они, например, на пятерицу жидов с русскими фамилиями, цареубийц, всей силой и правдой русского закона осужденных в прошлом году на смерть…
– В молодости, – сказал Путешественник, – я работал на Александровском винокуренном заводе… Был там каторжник Гаврило Минаев, осужденный на двадцать лет в кандалы. Все подойдет, бывало, ко мне и так по-детски: «Барин, позвольте понюхать табак». Узнав, что он очень любит нюхать табак, но редко его имеет, я, не пуская его грязными руками в табакерку, высыпал на что-то ему все ее содержимое, отсыпал ему в руку, а случалось, в карман мелкие деньги. Раз я как-то спросил, за что именно он приговорен на двадцать лет в кандалы. Подумав и как бы стесняясь несколько, он отвечал: «Да за самые пустяки, барин, за то, что зарезал двух жидов». Сколько я ему ни старался втолковать, что это отнюдь не пустяки, что евреи такие же люди, как и все, и что зарезать еврея точно такой же грех, как и зарезать христианина, он остался при своем мнении, что совершенное им преступление – пустяки, добавляя к этому, что какие же они люди, если распяли Христа. Все убеждения мои оказались напрасны. Более того, не становясь на подобные крайние позиции, я в то же время подумал о силе народного антиеврейского чувства. Может быть, это и дало толчок моим будущим антиеврейским взглядам.
– А граф Толстой, – почти выкрикнула Надежда Степановна, так что сидящие за соседним столиком немцы обратили на нас внимание, – Толстой приводит меня в нравственный ужас… «Господи помилуй» так и вырывается из моего сердца, когда слушаешь его высказывания. Он обвиняет христиан в ненависти к врагам Христа, а не наоборот. Истинно, мудрость человеческая объюродившаяся… Вчера у меня была какая-то благодатная радость… Получила письмо от милой Марьи Васильевны о благополучном возвращении иконы новопрославившейся, что у графини Капнист исцелила ей калеку-дочь… Икона эта была похищена каким-то крестьянином, которого споил жид-корчмарь, и за стакан отвратительной жидовской водки заложена этому корчмарю… Я получила фотографический снимок этой иконы… Судя по оттиску ризы, икона очень древняя. Она как будто напоминает какую-то из мадонн Рафаэля. Матерь Божия держит ручку Подвечного младенца очень свободно, по-детски раскинувшегося у нее на коленях, а меж тем эта ручка как бы вместо игрушки держит простой равновеликий греческий крест. Лицо у Богоматери как бы глубоко и строго задумчиво, с совершенно опущенными глазами, устремленными к младенцу-Господу. Так смотрит душа, а не любопытные глаза… И всему этому угрожал отвратительный жидовский барышник… О, Господи, скорбь потоками заливает душу… Как написано у прекрасной поэтессы Жадовской: «Унеси ты, вихрь, тучу грозовую, сбереги нам, Боже, ниву золотую…»
Сказано это было от самой глубины чистого женского сердца, но на беду Павел Яковлевич опять вздумал противоречить:
– Надежда Степановна, – сказал он, – у поэтессы написано: «Туча градовая, нива трудовая…»
К счастью, Путешественник опять умно смягчил, сказав:
– Суть от этого не меняется… Действительно, евреям все вольготней живется на нашей Руси. Если раньше они старались подкупать, то теперь их подкупают. Ведь только слабые подкупают сильного, а значит, время, когда нужно было подкупать, прошло для жидов. Каков фактец… Boт об этом вам бы и написать, Надежда Степановна.
– Прежде всего, об этом вам надлежит сказать на открывающемся завтра конгрессе, – добавил я, – ведь конгресс для того и созван, чтоб международный антисемитизм сразу и во всей глубине поставил перед арийскими народами еврейский вопрос.
– Но владею ли я мечом духовным, чтоб сражаться за Божье дело? – задумчиво спросила Надежда Степановна. – Впрочем, мне уже приходилось выступать перед большими аудиториями, правда, не за рубежом, а в Москве, по поводу нашей с Марьей Васильевной поездки в места антиеврейских народных выступлений. Публики было много. В зале не было места, где шляпу положить. В этом чудесном зале общества любителей русской словесности, где когда-то выступали Жуковский, Пушкин, Гоголь, Тургенев…
– Жуковский, Пушкин и Гоголь никогда не выступали в этом зале, – вдруг снова воткнул свою словесную шпильку Павел Яковлевич.
Глаза Надежды Степановны вспыхнули обидой и гневом, но Путешественник снова умело смягчил.
– Однако ведь Тургенев выступал, – сказал он, – и вообще сейчас важно русскому обществу не столько говорить о прошлом, сколько нарисовать картину будущего.
– Не только русскому обществу, – добавил я, – но и всему содружеству арийских и ариизированных (выражение Виктора Иштоци) народов.
– Да, – сказала тихо Надежда Степановна. – Какая меня сейчас вдруг охватила тоска по России, господа… Очутиться бы там, помолиться бы в Николаевской церкви общерусского отца нашего, помощника в скорбях, нуждах и печалях чудотворца Николая… От этой церкви я имею плиточку на могиле моей матушки… Вдруг мне сейчас вспомнились какие-то откуда-то стихи стародавние: «Что день грядущий мне готовит, его мой взор напрасно ловит…» В какой-то он, не помню, скрывается мгле.
– Это не стародавние стихи, а стихи Пушкина из «Евгения Онегина», – сказал Павел Яковлевич.
Тут даже умница Путешественник ничего не мог поделать. Надежда Степановна вспыхнула, как девушка, которую обидели грубым словом, и, молча поднявшись, слегка раскланявшись с нами, но не с Павлом Яковлевичем, ушла. Мы некоторое время раздосадовано молчали после столь неприятной сцены. Откуда-то, кажется, из Groe Garten (Большого парка), доносилась музыка: «Dichter und Bauer» von Suppe («Поэт и крестьянин» фон Зуппе). Слушая эту музыку, я думал, что русский антисемитизм, влившись в организованную семью международных антисемитов, внесет свои национальные черты: неорганизованность и, как следствие ее, преобладание второстепенного над главным. Но одновременно он внесет и свою способность к самоуглублению, к самопознанию, а это очень важная черта прежде всего в науке, которой ныне должен стать антисемитизм и которой он уже стал в социалистических трудах Евгения Дюринга.
Благословенна наша северная природа за то, что она своею силою полагает пределы нашим внешним трудам и дает русскому человеку возможность волею или неволею углубиться в себя и из этой сердечной глубины вынести свои помыслы. Конечно, социалистический антисемитизм для России еще дело будущего, но даже и тот, пусть устаревший, христианский антисемитизм, который ныне преобладает в России, наполнен такой искренней верой и сердечностью, что без этих элементов он немыслим у нас, даже когда русский антисемитизм станет социалистической наукой. Думаю, что и международный антисемитизм только выиграет, если к своему разуму и трудолюбию присовокупит эти элементы.
В Groe Garten играли теперь Бетховена, кажется, «Fidelio».
– Давайте закажем еще бутылку рейнвейна, – предложил Путешественник.
– Нет, я, пожалуй, пойду, – сказал Павел Яковлевич и встал. – Значит, завтра в десять.
– Да, в десять, – сказал я.
Павел Яковлевич торопливо пошел между столиков. Его явно мучило раскаяние, и, думаю, он спешил объясниться и примириться с Надеждой Степановной.
III
Начало замечательных движений бывает часто весьма скромное и незаметное.
Первый международный антисемитический конгресс открылся 17 сентября 1882 года в одной из простых, но старинных пивных по Johannisstrae. На конгрессе присутствовали почти все выдающиеся деятели антисемитического движения Европы того времени и был даже представитель Америки, а именно американец из Канады господин Смит. Всего делегатов было десятка три, но помимо делегатов, присутствовала и публика, специально подобранная организаторами конгресса, а именно Deutscher Reform-Verein (Немецким союзом реформы), Цека которого располагалось в Дрездене. Так что вместе с публикой на конгрессе присутствовало не менее четырехсот человек. Практически на конгрессе представлены были все основные течения современного антисемитизма, чем и объясняется возникшая острая полемика, которая велась не так, как у нас, у русских, из-за неудачно сказанных слов или личных обид, а по существу всех социальных, моральных, политических, экономических, идеологических проблем, которые раскрываются в антисемитической борьбе. Открывая конгресс, бывший дрезденский купец, а ныне политический деятель Пинкерт (литературное имя Вальдег) сказал:
– Антисемитическое движение, как всякое значительное и обширное явление, не есть нечто случайное, произвольное, а составляет естественное последствие ряда явлений, необходимый результат исторически сложившихся условий, нераздельную часть общего движения нашего времени. На первый взгляд кажущееся направленным против одних евреев, оно отнюдь не ограничивается борьбою с этим племенем, а содержит в себе протест против всего, что ныне представляют евреи, против всех элементов, с которыми они находятся в связи, и против целого направления, во главе которого они стоят…»
Прервем ненадолго чтение «протоколов антисемитских мудрецов». Проблема «кто распял Христа» много веков верой и правдой служила христианско-феодальному антисемитизму и была крайне удобна тем, что не требовала от антисемитов положительных идеалов. Но к концу XIX века те из антисемитов, кто решил приобрести политическую самостоятельность, начали понимать, что из факта распятия Христа становится так же трудно делать современные выводы, как из факта разрушения Трои. Атрибутивное мышление раннего феодализма, содержащееся в проблеме распятого Христа, имеющее вневременное надындивидуальное бытие, по существу связывало творческие силы антисемитизма как современного политического движения. Неизменность форм, застылость, парадность антисемитизма, имеющего отправной точкой распятого Христа, грозили отбросить антисемитизм на обочину той дороги, по которой начинала торжественное шествие некоронованная госпожа современного мира – Наука. Однако антисемитизм, ставший наукой, в отличие от антисемитизма атрибутивного, феодального, не может более использовать ненависть к евреям как свою конечную цель, а лишь как предварительное условие. Этих его конечных целей, этих его положительных идеалов, которые лежат вне еврейской проблемы и за ее пределами, мы каждый раз и по каждому конкретному вопросу будем требовать от антисемитов. Надо заметить, что круг проблем, точнее говоря, круг проклятий, которые обрушивают антисемиты против евреев, крайне ограничен и однообразен. Несмотря на разные направления в антисемитском движении на конгрессе, несмотря на полемичность и остроту в речах ораторов, мы убедимся, что в основном они говорят одно и то же. И потому положительных идеалов по какому-либо конкретному вопросу мы будем требовать от господ антисемитов всякий раз единожды, там, где этот вопрос особенно ярко выделен. Например, по вопросам капитала и торговли, сельского хозяйства, морали, идеологии, культуры, периодической печати…
В своей вступительной речи на конгрессе лидер саксонских антисемитов, руководитель партии «Немецкая реформа» Пинкерт заявил, что антисемитское движение направлено против всех элементов, с которыми связаны евреи, против целого направления, которое они представляют. Очень хорошо. Давайте из собственных речей антисемитов, из собственных антисемитских протоколов поймем, какие элементы, какое направление следует нам понимать как еврейское. А то, что эти речи не поддельные, всякий образованный антисемит определит по их содержанию. Но одновременно давайте посмотрим, с какими же элементами современного мира связаны сами антисемиты и какое направление они представляют. Тем более что основатель социалистическою антисемитизма, создатель расовой антисемитской экономики Евгений Дюринг любезно предоставляет в наше распоряжение свои научные выводы, свои положительные социалистические идеалы. А пока давайте вернемся к запискам русского социалиста-антисемита.
«…Еще с середины 70-х годов, – продолжал Пинкерт, – когда я занимался вывозною торговлею, у меня возникли мысли о причинах застоя в делах и вообще материального и нравственного упадка моего отечества, так быстро последовавшего за славою и добычею германо-французской войны. Я, господа, человек жизни и потому не стал заглядывать в книги для разрешения своих сомнений, а начал путешествовать сперва по германским государствам, а потом и по другим странам Европы, везде обращая внимание исключительно на положение производительных классов и вдумываясь в средства более правильной организации труда. Возвратившись в Дрезден, я с немногими друзьями решил образовать Deutscher Reform-Verein, первое ядро неполитической партии в Германии… Я подчеркиваю, господа, неполитической…
– В каком смысле – неполитической? – послышалась вдруг не громко, но твердо произнесенная реплика.
Произнес ее смуглый молодой брюнет с белым лбом мыслителя и кирпичными от загара выбритыми щеками, чем-то напоминающий даже малоросса. Среди малороссов у нас встречаются подобные нервные личности. Я видел, как по худощавому нервному лицу брюнета то и дело пробегал нервный ток…
– Кто это? – тихо спросил я сидевшего рядом со мной Лацаруса, уже известного читателю председателя антисемитского форейна саксонских портных.
– Доктор Генрици, – так же тихо ответил Лацарус.
Так вот каков этот знаменитый Генрици, с именем которого многие связывают новую эпоху в развитии современного антисемитизма. Вот каков главный последователь и проповедник идей вождя научных социалистических антисемитов Дюринга. Забегая вперед, скажу, что ели Пинкерт представлял на конгрессе центр антисемитического движения, то Генрици представлял его крайне левую сторону – так называемых обыкновенно Staats-Sozialisten. Вместе с тем я ни в коем случае не хотел бы умалить достоинства Пинкерта, даже внешне являвшего полную противоположность Генрици. Это был блондин с русыми усами, тонким носом с горбинкой и серыми глазами. В нем тоже было что-то славянское, но от западных славян – то ли от поляков, то ли от чехов.
– Неполитический характер нашей партии, – сказал Пинкерт, обернувшись в сторону Генрици, – означает, что мы, реформеры, равнодушны к политическим теориям и государственным формам, чем резко отделились от германских либералов и прогрессистов.
– Я не причисляю себя ни к либералам, ни к прогрессистам, – сказал Генрици, – но равнодушие к политическим теориям и государственным формам означает, мягко говоря, полное непонимание стоящих перед современным антисемитизмом проблем.
– Перед современным антисемитизмом, – сказал Пинкерт, – в первую очередь стоят социально-экономические вопросы… Реформеры следует понимать как нереволюционеры. Мы сходимся с социал-демократами в конечных целях, но резко расходимся относительно средств осуществления… Партия реформы – значит партия, стремящаяся к изменению общественного строя путем не насилия, а убеждения и общего согласия…
Я видел, как в этом месте доктор Генрици саркастически улыбнулся и что-то быстро записал.
– Главною ближайшею задачей антисемитического движения, – раздельно произнес Пинкерт, и видно было, что он подошел к самой сердцевине своей программы, – главною задачей должна быть борьба против господства капитала и эксплуатации им труда.
– А вам не кажется, господин Пинкерт, – сказал Генрици, – что, отказываясь от политической борьбы, вы, по сути дела, стремитесь поставить антисемитическое движение в зависимость от правительственных целей?
Серые глаза Пинкерта потемнели. Это, видно, был самый больной пункт его теории. Ответил он не сразу, а сделав небольшую паузу, чтоб передохнуть и не дать волю гневу.
– Вы бросаете нам те же обвинения, – сказал он, – какие еще в 1879 году возводили на нас евреи… Как известно, руководство либеральной прогрессивной партии в Германии находится совершенно в руках евреев, да и социал-демократическая состоит с ними в тесной связи… Имена Лассаля и Маркса слишком ныне известны… Именно попытка евреев заподозрить нашу независимость, и разные происки со стороны евреев сделали так, что мы, реформеры, начавшие сначала как антикапиталистическая партия вообще, сделались и партией антисемитической в особенности… Раз уж подобный вопрос возник, я хотел бы несколько вернуться назад к истокам нашей партии, тем более что значительная часть публики и прибывшие из-за границы делегаты недостаточно представляют партийные проблемы в Германии… Когда в 1880 году мы собрались на свое первое собрание, вожди немецкой социал-демократии и хозяева нескольких фабрик вблизи Дрездена, и те и другие чистокровные евреи, вступили меж собой в союз… Я убежден, что меж такими господами, как Лассаль и Маркс, и еврейскими капиталистами существует связь и общая цель… Так вот, рабочие в три часа дня, получив даровую порцию водки, стройными колоннами в числе восемнадцати тысяч человек двинулись на Дрезден, атаковали собрание реформеров, которых было не более трехсот-четырехсот человек, и жестоко избили их, прежде чем немногочисленная полиция Дрездена могла что-либо сделать… Событие это, однако, вызвало негодование среди других саксонских рабочих, видевших в реформерах если не прямых представителей своих интересов, то по крайней мере полезных союзников. Уже в сентябре 1881 года, то есть ровно год назад, мы собрались здесь же, в Дрездене, в этой же самой пивной, хозяин которой, уважаемый господин Ханке, является членом нашей партии, собрались на наш конгресс реформеров. Делегаты прибыли из Бреслау, Берлина, Бремена, Хемница, Эльберфельда, Касселя, Мюльгауза… Вы сами, господин Генрици, как член партии реформеров, присутствовали на этом конгрессе при принятии им своей программы и своего центрального органа, дрезденской газеты Deutsche Reform.
– Я голосовал против программы.
– И остались в подавляющем меньшинстве, – отпарировал Пинкерт.
– А мы не боимся оставаться в меньшинстве, – сказал Генрици, – когда речь идет об отстаивании собственных позиций.
– О правильности нашей программы, торжественно произнес Пинкерт, – будет теперь судить первый международный антисемитический конгресс…
И он обвел рукой обширный зал пивной, где делегаты и публика, затаив дыхание, следили за этим единоборством гигантов современного антисемитического движения. Никто не сомневался в честности обоих, все знали, что, как ни остра их полемика друг относительно друга, оба они ищут единственно правильного пути к общей цели. Что касается нашей делегации русских антисемитов, то на первом заседании они вовсе выглядели провинциалами, приехавшими из Твери в Петербург. Надо, однако, заметить, что постепенно они освоились и своими речами нередко вызывали аплодисменты публики и интерес таких выдающихся деятелей европейского антисемитизма, как Иштоци, Генрици, Пинкерт…
– Я согласен, – сказал Генрици, когда Пинкерт, окончив свою речь, сел, – что документ, принятый в прошлом году в Дрездене, мало похож на обыкновенное произведение литературных перьев… Но давайте прежде всего посмотрим, кто его подписал? Вы сами, господин Пинкерт, бывший купец, ныне журналист, вернее сказать, издатель газеты, три лавочника, два фабриканта, один плотник, один слесарь, два сапожника, один портной, именно уважаемый господин Лацарус, один булочник, один лакировщик, один книгопродавец… Да и насколько мне известно, вся партия состоит в большинстве из мелких буржуа и ремесленников… Процент фабричных рабочих совершенно незначителен, – в этом месте Генрици, сквозь клубы плавающего дыма дешевых сигар, окинул зал взглядом, словно приглашая его вдуматься в свои слова о фабричных рабочих, считая их крайне важными.
– Мы партия центра, – ответил Пинкерт, – но слева и справа к нам примыкают и иные элементы, ищущие с нами союза для собственных выгод или идущие за нами как уже за готовой организацией… Слева к нам примыкают многие фабричные рабочие, еще не завербованные в социал-демократическую или социально-революционную партию, справа – мелкие дворяне-землевладельцы и протестантские пасторы…
– Хотелось бы уточнить, – поднялся высокий худой человек в пасторском облачении с темными и очень усталыми глазами, – мы хоть и входим в союз с реформерами, но образуем особые христианско-социальные форейны и стоим на другой почве…
– Это де ла Pye, – шепнул мне Лацарус, – но мы, немцы, зовем его Толлора… Известный миссионер, занимающийся обращением евреев в христианство…
– То, что к партии примыкают, не разделяя ее взглядов, протестантские пасторы, – продолжал Генрици, – большой беды не представляет. Гораздо хуже, что к ней всего-навсего примыкают фабричные рабочие, которых, как изволил выразиться господин Пинкерт, не успели еще завербовать в социал-демократы. Господин Пинкерт говорит о случае, когда восемнадцать тысяч саксонских арийских рабочих избили собрание реформеров, с непонятной гордостью. Я бы говорил об этом случае со стыдом… И вряд ли этими действиями рабочих руководили господа Лассаль и Маркс. Скорей всего, какие-нибудь мелкие саксонские социал-демократы. Кстати, установление тесных связей с арийской частью социал-демократов тоже является задачей неотложной, если вы по-прежнему хотите называть свою партию не только антисемитской, но и антикапиталистической… Мало, господин Пинкерт, исповедовать социализм в душе… Я открыто хочу заявить перед лицом делегатов международного конгресса, что мы, берлинские реформеры недовольны осторожными, вернее, неуверенными действиями дрезденского центрального комитета…
– Тогда оставьте ряды нашей партии, – бросил реплику Пинкерт.
– Может, в конце концов так и произойдет, – резко ответил Генрици, – но пока мы в Берлине образовали группу, назвав ее «Sozialer Reichsverein». В противовес реформерам, мы отныне намерены себя именовать имперскими социалистами… Наша фракция громко и во всеуслышание заявляет, что мы желаем проведения в жизнь социалистических идей и отличаемся от социал-демократов только верою в необходимость исключительно арийского характера социал-демократического движения и верою в пользу диктатуры для переходного времени… Наша мечта – это социальное королевство… Или социальная империя…
В этом месте я невольно зааплодировал, аплодисменты раздались и в разных концах пивного зала, но другая часть делегатов и публики встретили эти слова настороженно. В нашей русской делегации некоторую доброжелательную заинтересованность я заметил лишь на лице Путешественника. Купец явно не одобрял, а Надежда Степановна и Павел Яковлевич, очевидно, не понимали, в чем, собственно, проблема.
Позиция Генрици вообще имеет множество недоброжелателей и внутри антисемитического движения, и вне его. Страстные, порывистые речи Генрици, его влияние на народные массы, особенно в Пруссии, его сношения с вождями социал-демократов, резкие нападки на органы власти – все это подтверждает слухи, что готовится постановление бундесрата, по которому государственные или имперские социалисты будут приравнены к социал-демократии с применением к ним знаменитого закона Бисмарка о социалистах. Именно это, очевидно, особенно пугало вождя реформеров Пинкерта, и он был явно рад размежеванию с имперскими социалистами.
– Мы не считаем нужным, – заявил он в ответ на упрек Генрици о «социализме в душе», – мы не считаем нужным выставлять публично свои конечные цели и довольствуемся пропагандой ближайших целей, мы довольствуемся легальной борьбой против самых уродливых явлений капитализма и еврейского засилья… Мы изложили свои взгляды в нашем программном заявлении к народу под заглавием «Чего мы хотим?». После того как это воззвание будет прочитано, делегатам конгресса станут более понятны наши идеи… Благодаря этим нашим идеям саксонское правительство выразило свое позволение созвать устроенный нами антисемитический конгресс в столице Саксонии… Мы пользуемся также поддержкой и со стороны других мелких германских правительств, главным образом за наш торжественный и искренний отказ от революции…
На эти слова Пинкерта в разных концах пивного зала вновь раздались аплодисменты. В нашей русской делегации особенно сильно аплодировали Надежда Степановна и Павел Яковлевич. Я тоже слегка похлопал, во-первых, чтобы отдать должное честности и искренности взглядов Пинкерта, а во-вторых, чтобы не вносить раскол в наши русские ряды. Но тут вновь встал Генрици.