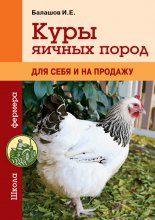Дрезденские страсти. Повесть из истории международного антисемитского движения Горенштейн Фридрих

– Современный либерализм, – сказал Генрици, – разорвал естественный союз и разрушил необходимую солидарность общественных групп, а через это предал каждое отдельное лицо в произвол еврейских и объевреившихся эксплуататоров. Величайшее зло нашего времени – это недостаток организации…
– Как хорошо, – заметил Купец, – как верно… Я слыхал, бухарский раис пророчит: Аллах вразумит магометан извести евреев… В Пруссии – антисемитская лига, в России – антиеврейский союз… И ошатнется воздвигаемое Израилем здание всемирного владычества.
Позднее, разговаривая со мной, Путешественник заметил, что приглашение Купца на антисемитический конгресс было ошибкой. Этот из тех простых, славных, может, русских людей, с которыми можно поговорить о жидах за блинами, но которых нельзя привлекать к серьезному решению еврейского вопроса. Я согласился, что Купец, конечно, в культурном отношении – натура невежественная, но его, пусть простонародное, знание экономических проблем интересно в плане разбираемого вопроса. И действительно, если капитал показывает опасность евреев для человечества, то аграрные, сельские проблемы показывают к тому же их, евреев, бесполезность…»
IX
Остановимся и мы на аграрных проблемах России, которые в конечном итоге изменили ее социальный строй. Крепостное государство всегда чувствовало неприязнь к торговле и ремеслам, а если и вынуждено было прибегать к ним, то с отвращением. Единственно полезным трудом считалось земледелие. Как верно сказано в одной из статей: «Замкнутое крепостное хозяйство покупки для производства не знало, оно знало лишь покупку для потребления, покупку, требующую денег и не возвращающую их. Торговец и ремесленник для него поэтому наймит, живущий богатством деревни. Исключение делалось для экспортной торговли, потому что она приносила помещику деньги». Поэтому небольшая часть состоятельного, способного к торговле еврейства привлекалась помещиками ради коммерческих прибылей, привлекалась к торговле сельхозпродуктами. Все это более или менее известно. Гораздо менее известна тяга еврейских масс, особенно из бедноты, к земледельческому крестьянскому труду и многочисленные указы и контруказы правительства на этот счет. Еще в 1802 году под руководством поэта и государственного деятеля Державина был создан комитет для приобщения евреев к единственно производительному, по понятиям феодально-крепостной эпохи, труду – земледелию. Занятие земледелием требует, как правило, традиций, передачи навыков из поколения в поколение, в отличие от труда городского, и известно мало случаев перехода городского – русского ли, немецкого ли, иного ли – населения из городов и приобщения его к сельскому труду, хоть обратный процесс перехода от сельского труда к городскому весьма распространен. Тем не менее положение еврейской бедноты было так тяжело, что она с готовностью соблазнилась тридцатью десятинами земли, которые ей обещали, готовая даже ехать в малонаселенные южные и юго-восточные губернии для занятий крестьянским трудом. Но насаждение свободного крестьянского труда не было в интересах дворянства, в крестьянскую же общину евреев не принимали вовсе. Поэтому, когда последовал контруказ о выселении евреев из деревень, мотивируя это все тем же шинкарством и спаиванием евреями крестьян, триста тысяч душ, примерно столько же, сколько было изгнано в свое время из Испании, триста тысяч оказались совершенно бездомными «по неимению земель ни помещичьих, ни казенных, на коих можно было водворить шестьдесят тысяч семейств, не имеющих никакой собственности. Города и местечки могут приютить только часть выселяемых евреев. К тому же во многих местечках – как доносил министр внутренних дел Кочубей – нет ни промыслов, ни торговли и других к пропитанию способов, и поэтому евреи, не допускаемые в деревни, бродят и скитаются».
Совершенно ясно, что триста тысяч чисто физически не могли заниматься шинкарством. Но к занятию шинкарством и проблемам спаивания народа мы еще вернемся. Что касается занятий евреев земледелием, то, когда в 1835 году у правительства вновь возникла идея воспользоваться евреями для земледельческого труда в Сибири, бедная, обездоленная еврейская масса откликнулась на это сразу же, а многие просто пустились в путь на собственный риск. И снова последовал контруказ, очевидно, из-за боязни «объевреить» Сибирь. Ту самую Сибирь, которую волжский разбойник Ермолай, известный по кличке Ермак – Мельничный жернов, используя против местного населения незнакомое ему огнестрельное оружие, во искупление своих грехов перед Москвой за прошлые грабежи, вместе со своей шайкой превратил в исконно русскую землю. Так обстояло дело с еврейским земледельческим трудом. Еврей-ремесленник (кстати, при кочевом образе жизни передаваемые по наследству ремесла требуют не столько физических сил, сколько умения и способности быть использованными в любой местности, а это именно ремесла сапожников, портных и т.д.), итак, еврей-ремесленник или мелкий торговец имели мало шансов стать в короткое время заправскими землепашцами, но нужда в черте оседлости гнала их, и всякий раз они убеждались, что христианская проповедь «о нравственном перевоспитании людей бесполезных» лишь укрывала полный произвол в обращении с евреями, при этом настолько самоуверенный и наглый произвол, что, казалось, коренному (читай, захватившему эти участки Божьей земли огнем и мечом) населению этот произвол был дарован небом.
А как же шинкарство, как спаивание евреями народа? Федор Достоевский, писатель, утверждает, что евреи-шинкари спаивали русский народ. Тюгенбах-Росбах, барон, то же самое утверждает относительно немецкого народа. Но киевский губернатор граф Гудович, который специально организовал комитет по изучению этой проблемы, имеет на данный счет иное мнение. О еврее-шинкаре он сообщает: «Шинкари не имеют насущного с семействами их пропитания, поелику, по здешнему обыкновению, шинкарю платится из прибылей от продажи вина самая превосходная часть десятая, а по большей части – пятнадцатая». А где же остальные девять десятых или четырнадцать пятнадцатых прибыли? На это даст ответ все тот же авторитетный комитет, созданный киевским губернатором. «Доколе у белорусских и польских помещиков (добавим, и иных дворян-винокуров) будет существовать теперешняя система экономии, основанная на продаже вина, доколе помещики не перестанут, так сказать, покровительствовать народному пьянству, дотоле зло сие, возрастая год от года, никакими усилиями не истребится и последствия будут все те же, кто бы ни был приставлен к продаже вина, еврей или христианин». Надо лишь добавить, что и подбор евреев-шинкарей велся, конечно, не международным еврейским кагалом, а самими же христианами-винокурами и предпочтение делалось тем, кто ради пропитания готов был на любую аморальную верную службу.
Нужда вообще была уделом подавляющего большинства еврейского населения. Когда же нужда становилась всеобщей, когда те или иные губернии России поражал голод, положение евреев становилось ужасающим, может, еще хуже, чем при погромах. Создаваемые земством и прочими общественными организациями комитеты помощи голодающему населению в основном проявляли полное равнодушие к гибели, к вымиранию целых семей, целых местечек. Брошенные на произвол судьбы, евреи бродили, как описано в либеральной газете тех лет, «по полям, ища пропитания наподобие голодных собак, они целыми массами питались кочерыжками, брюквенной и картофельной шелухой и умирали тысячами от тифозной горячки». Здесь асемитизм, полное безразличие к судьбе евреев со стороны земства, проявлял себя не менее жестоко, чем обычный, знакомый всем антисемитизм – вражда к евреям со стороны крепостника-консерватора. Но и в обычные, бытовые, то есть никакими крайними бедствиями не отмеченные, годы положение основных слоев еврейского населения было на границах нищеты. У еврея была отнята возможность стать не только крестьянином, но и пролетарием, ибо он был лишен самого важного для фабричного рабочего вида свободы – свободы передвижения. Еврейский ремесленник, запертый в черте оседлости, постоянно оставался без работы. Еврейский мелкий лавочник-торговец по сути был все тем же полунищим. Вот описание одного из французских комитетов по изучению бытового положения евреев в России:
«Мы посетили в Кременчуге, Елизаветграде, Одессе эти несчастные лачуги из сгнивших досок, где по два семейства в пять-шесть человек в каждом ютятся в одной комнате в девять квадратных метров без перегородки. Мы видели гомельские ямы, которые заключают в себе сто двадцать подобных мазанок, построенных в уровень с землей, где ветру предоставляется широкий простор, где живет до двух тысяч человек, причем в некоторых из них единственная комната служит в одно время и жилым помещением, и кухней, и лавкой. Мы видели в Вильне подвалы, или, вернее, подподвалы, в которые можно попасть не иначе как опустившись на два этажа ниже поверхности земли. Пять тысяч семейств, то есть двадцать тысяч человеческих существ, живут в этих логовищах. В одном из них, состоящем из комнаты в пять квадратных метров, мы видели двадцать совершенно чужих друг другу детей, женщин в отрепьях, голодных мужчин. Полный мрак наполнял этот погреб. В середине дня, при палящем солнце, мы должны были зажечь свечу, чтобы видеть эту картину ужаса и разрушения».
Так жили «эксплуататоры – поработители коренного христианского населения», так жила основная масса народа, который, по словам последователя Дюринга Генрици, «весь является капиталистическим». Надо ли удивляться, что все мало-мальски сохранившее свое достоинство поднималось из этих подвалов в революцию? У начальника охранного отделения Зубатова были свои представления о революции, но основные причины притока еврейства в революцию он понял твердо, хоть и безуспешно пытался это объяснить таким философам действительности, как Шульгин и Пуришкевич. Не то чтобы это трудно было понять, это невыгодно было понять деятелям подобного направления. И вот когда прошло шестьдесят лет нового, созданного революцией строя, философ действительности, некто Бегун (мы называем фамилию этого идеологического членистоногого не потому, что она чем-то возвысилась над ему подобными, а потому, что все ему подобные бегут в том же направлении), итак, Бегун назвал в своей книге, изданной тиражом в сто пятьдесят тысяч экземпляров, подобные, приведенные выше описания дореволюционной жизни евреев, «сионистскими всхлипываниями» и сочинил буквально следующее: «Еврейское население России, несмотря на политическое неравноправие, стояло выше коренного (опять знакомый термин) населения черты оседлости по уровню благосостояния, грамотности, образованию и другим важнейшим социально-экономическим показателям, о чем известно из материалов статистики». Иными словами, и при царе евреи жили лучше остального населения России. И все это основано на материалах статистики. Какой статистики? И тут он приводит цитату (Бегун вообще любит цитировать, словно чувствуя, что его личным словам доверять нельзя, но «обратите внимание, что говорят другие, что, в конце концов, говорят они сами»), итак, приводит цитату некоего, как он утверждает, американского сиониста Д. Шуба: «До Октябрьской революции процент грамотных евреев в любом местечке был значительно выше грамотности великороссов, украинцев или белорусов». Никаких цифр не приводится, одни лишь фразы. Но допустим, действительно, если анализировать культурный уровень России не через Петербург или Москву, а через местечки, то на три грамотных еврея, умеющих читать, писать, приходилось два грамотных великоросса, украинца или белоруса. Как сказал Чехов, «наши читальни в провинции пустуют, в них можно встретить одних лишь молодых евреев». Однако об основном социально-экономическом показателе, упоминаемом Бегуном, о еврейском благосостоянии в царской России, которое выше благосостояния «хозяев-славян», далее ничего не говорится и ничего не цитируется. Оно и понятно. Ведь несмотря на всю отвечающую требованию момента идеологическую маскировку Бегуна, на его бенгальский огонь в адрес бяк-антисемитов, на его цитаты из Шолом-Алейхема, ясно, что идеологический маскхалат сделан из маркизета и через этот прозрачный материал видно естественное тело современного философа действительности во всех его стыдных подробностях, соответствующих тем «личным причудам», которые обнаруживает Энгельс в расовом социалисте Дюринге. Но следует заметить, что, в отличие от сталинского государственного антисемитизма, в лице бегунов на разные идеологические дистанции мы наблюдаем возрождение антисемитизма общественного, который под прикрытием антисионистских цитат вытаскивает на страницы советской печати правые черносотенно-монархические, по сути белогвардейские антисоветские идеи. Ибо все большее число русских националистов-черносотенцев, которые в сталинские времена примкнули к советской идее, ныне прямо или косвенно опять переходят на старые антисоветские позиции Шульгина и Пуришкевича…
Но вернемся к еврейской бедности. Вернее, закончим с еврейской бедностью и поговорим о еврейском богатстве… Исторически оно всегда представляло из себя корову, которая пасется на чужом лугу, немецком ли, французском ли, русском ли, испанском ли, то есть на том участке Божьей земли, который в свое время, в соответствии с законами человеческой истории, был захвачен той или иной частью «коренного населения». Еще в средние века христианские юристы создали для евреев специальную ступень феодальной лестницы: они – крепостные короны – servi camerae, а отсюда, согласно римскому учению о рабстве, следовало, что все принадлежащее евреям составляет собственность императора. Сама личность еврея есть имущество короны и лишь в такой форме находит себе защиту. Но защита эта дорого оплачивалась и редко приходила вовремя. Еврейская корова перерабатывала ту или иную «национальную» траву в межнациональное космополитическое богатство – деньги, естественно, нагуливая и себе бока. Но едва она становилась слишком тучной, как владельца луга тянуло с молочной на мясную пищу, и тогда он объединялся с нищим мясником, единственное имущество которого – нож. Богатство вообще бессильно перед союзом власти и нищеты. Это понял Дюринг, разрабатывая свою теорию насилия. Правда, это союз разрушителей. Но, в конце концов, на пустующие луга всегда можно загнать опять стадо тощих коров, или они придут сами, гонимые голодом.
Крестьянские восстания и крестовые походы Средневековья почти всегда начинались с избиения евреев и грабежа их имущества. Помимо религиозно-расовых и человеческих радостей, свойственных падшей человеческой натуре, они приносили и экономическую выгоду, освобождая должников разных слоев населения и давая возможность присваивать имущество убитых и изгнанных. Даже если такие выступления начинались по экономическим причинам, они обязательно принимали антисемитскую расовую форму. Кстати, о должниках и ростовщичестве, еще одном важном поводе для проклятия в адрес евреев. Ростовщичество явилось, как известно, результатом недостаточно развитой в Средние века финансово-кредитной системы и важным элементом, ее заменяющим. Ростовщиков проклинали, но без их услуг вряд ли могли обходиться кредитные операции в средние века и отчасти даже в более поздние времена. Но только ли евреи занимались ростовщичеством? Монастыри и епископы, князья и горожане, менялы и монетчики, ганзейские купцы в Англии и итальянцы во Франции – все старались увеличить доходы этим путем, не обращая внимания на запреты церкви, грозившей христианам отлучением за ростовщичество. Даже сам церковный рыцарско-тевтонский орден давал деньги в рост. Евреи, в отличие от христиан, просто могли производить этот промысел более открыто и более умело, не в смысле большего, чем христиане, ущемления кредиторов, а в смысле соблюдения больших личных выгод, связанных с оборотом капитала. Когда в 1236 году Людовик IX во Франции хотел запретить евреям кредитные операции, его бароны запротестовали, заявив: «Евреи-ростовщики лучше ростовщиков-христиан, которые еще более притесняют своих должников». Конечно, нравственно-моральный облик и тех, и других был далек от совершенства, но здесь мы видим одну из аксиом антисемитизма: переложение общераспространенных человеческих слабостей и дурных свойств на еврейского козла отпущения. То же и при экономическом развитии в более позднюю эпоху, когда феодализм, отметаемый капитализмом, перекладывал хозяйственные проблемы и причины разорения феодального хозяйства с капитала вообще на еврейский капитал, с которым легче было бороться внеэкономическими средствами.
Однако крики о еврейском могуществе и еврейском капитале возымели странное воздействие на еврейские торгово-промышленные круги в конце XIX – начале XX века и, создается впечатление, действительно убедили их, что в либеральное время проблема еврейской тучной коровы и нищего мясника, владеющего лишь острым ножом, более не существует. Подобно Фридриху Энгельсу, они восприняли расовые теории социалиста Дюринга как «личную причуду». В то же время они слишком уповали на консерватора Бисмарка, весьма точно назвавшего антисемитизм «социализмом дураков». Но когда в середине тридцатых годов XX века еврейские банкиры и промышленники начали мыть зубными щетками берлинские тротуары, они поняли слишком поздно, за кем была если не природная, то противоположная ей историческая правота и каков вообще вес дурака в человеческой истории. Власть левых социалистов-антисемитов во главе с философом действительности Адольфом Гитлером существовала крайне недолго и почти все время в чрезвычайных военных условиях. Поэтому твердо о ее экономической структуре сказать трудно. Однако даже на первый взгляд нельзя утверждать, что в гитлеровском социалитате существовал капиталистический строй в полном смысле этого слова. Существование капиталистов еще не значит существование капиталистического строя. Так же как упразднение капиталистов еще не значит упразднение капиталистического строя. Это возможно лишь при упразднении капиталистического производства, основанного на разделении труда. Когда в наше время азиатский социализм попытался это сделать, то есть перевести промышленность на кустарные рельсы, такая промышленность оказалась попросту разрушенной. В этом ценность экономической теории Энгельса, но в этом и ценность политической теории Дюринга, пусть отрицательная, но ценность, которая объясняет, как посредством теории насилия можно создать социалистический способ распределения при сохранении капиталистического способа производства. Создается своего рода экономический гермафродит, при котором свойства капитализма существуют наряду со свойствами социализма. Другое дело, что природные экономические процессы при этом отменить невозможно, и здесь правота Энгельса полнейшая. Но результаты этих природных экономических процессов, действующих против созданных политическим насилием экономических уродств, сказываются не сразу и зависят от многих факторов: национальных, географических, общеисторических и т.д.
Ярким результатом подобных природных экономических процессов, пришедших в столкновение с навязанным политическим насилием порядком вещей, является революция в России и приведшие к ней предреволюционные противоборства. Главным источником революционного брожения являлся в те времена не национальный вопрос, как бы остро он и тогда ни стоял, а вопрос аграрный – центральный вопрос всякого феодально-крепостнического государства. Именно аграрный вопрос был той многовековой хронической болезнью царской России, которая в конце концов свела ее в могилу. И когда кадет Маклаков, выступая в Государственной думе, заявил: «Дальше так жить нельзя», – то по форме с ним согласились многие. По форме, но не по сути. Все понимали, что существующий в России порядок вещей гибнет, но никто не хотел взять на себя ответственность за эту гибель. И тогда русские философы действительности в который раз нашли выход в еврее. В еврее-революционере и еврее-капиталисте, хотя даже на уровне четырех арифметических действий ясно, что никакое национальное меньшинство, тем более в массе бесправное, не способно даже при желании ни создавать, ни решать фундаментальные проблемы такого большого колониально-империалистического государства, как Россия. Многие представители правящего сословия не хотели это понять, но некоторые поняли, и среди них такой по сути консерватор и антисемит, как П.А. Столыпин. Столыпин понял, что трагическое положение в русской деревне, ведущее к трагическому положению России в целом, смешно сваливать на Dorfjuden. Но его идеи о разрушении крестьянской общины, о создании «отрубов», о наделении части крестьян землей из земли общекрестьянской хоть и были ударом по феодальным отношениям, хоть и были шагом в правильном капиталистическом направлении, решающего значения, поворотного значения иметь не могли. Тем не менее даже и за это его убили. Кто убил? «Меня убьют, и убьют члены охраны», – сказал Столыпин незадолго до смерти.
Существовал и существует еще и сейчас, особенно в определенных эмигрантских кругах, миф о процветающем дореволюционном сельском хозяйстве России, которая, мол, была житницей Европы. Россия действительно вывозила хлеб, но делала она это, поражаемая постоянно голодом, не от избытка. Русский помещик-дворянин, несмотря на все его декламации и патриотические слезы, всегда ставил свои интересы выше интересов отечества. Но главная суть помещика-дворянина как подлинного хозяина дореволюционной России и ее подлинного губителя все-таки не в этом. Не в вывозе хлеба из голодной России и не в дурных моральных свойствах. Тем более что в правящем дворянском сословии, может, не определяя его облика, но все-таки существовали люди и высокой морали, и серьезной ответственности перед страной. Поэтому мы при анализе будем исходить не из моральных критериев Дюринга, а из экономических критериев Энгельса. Дюринг, проповедуя свои социалистические взгляды на сельское хозяйство, утверждает со свойственной ему пышностью изложения, что «господство над природой и хозяйственное использование земельной собственности на больших пространствах» – дело естественное, неестественен лишь «труд порабощенных людей». Оно и понятно, ибо в будущем социалитате Дюрингу надо перейти к своему сельскому коллективному хозяйству – хозяйственной коммуне, где также используются большие земельные пространства, но где, по ироническому замечанию Энгельса, «царит небесная атмосфера равенства и справедливости на основе уравнительного социализма г-на Дюринга». Отсюда его убеждение, что обработка земли на больших пространствах является наиболее естественной еще с древних времен. В ответ Энгельс приводит слова римского историка Плиния: «latifundia perdidere Italiam», то есть латифундии погубили Италию. Ибо в Риме земля была освоена для земледелия зажиточными крестьянами, которые и составляли основную экономическую и политическую силу Рима. Когда же крупные помещичьи хозяйства-латифундии вытеснили крестьянина, объединили его участки в большие комплексы и заменили крестьянский труд трудом рабов, экономическая сила Рима, а вместе с ней и политическая сила были подорваны. «В Северной Америке, – пишет Энгельс, – значительнейшая часть земельной площади была приведена в культурное состояние трудом свободных крестьян, тогда как крупные помещики Юга со своими рабами и своей хищнической системой хозяйства истощили землю до того, что на ней стали расти только ели, а культура хлопка вынуждена была передвигаться все дальше на Запад». Таким образом, всюду, где появлялся крупный землевладелец, следовало хищническое разграбление земли, хищническая распашка пустошей и пастбищ или, наоборот, хищническое превращение пахотной земли в пастбища, а то и просто в парки для крупной дичи. Истощая землю, помещик-дворянин рубил сук, на котором сидит. Но в таких земледельческих аграрных странах, какими были в XIX веке Россия и отчасти Германия, они рубили сук, на котором держался государственный порядок вещей. И прежде чем в русских «дворянских гнездах» наступило лирическое умирание, прежде чем лопахины начали рубить вишневые сады раневских, раневские вместе со своими рабами-крестьянами несколько веков подряд рубили, корчевали, высасывали, истощали богатые Божьи пространства, названные Русской империей.
Что же представляет из себя помещичье хозяйство и его социалистический прообраз – сельская коллективная хозяйственная коммуна Дюринга? Почему при всем своем экономическом уродстве они существовали в феодально-крепостнической России несколько столетий, почему они существуют и в социалитате? Потому что они представляют из себя прежде всего не форму выгодного экономического хозяйствования, а форму выгодного политического господства. В помещичьем хозяйстве, как и в хозяйственной коммуне, политика довлеет над экономикой путем насилия. Богатый помещик и нищий малоземельный крестьянин – вот главные разорители земли. И если П.А. Столыпин действительно попытался бы провести аграрную реформу в России, чтоб предотвратить социальную революцию, ему надо было бы сокрушить помещичье-дворянское сословие, частью которого он сам, саратовский помещик, был. Мы знаем, что даже за ничтожно меньшее желание это сословие убило своего именитого отщепенца. Так какие уж тут Dorfjuden, какие уж тут евреи-социалисты, когда речь шла о разрушительных процессах, проистекающих из самого фундамента русской государственной жизни. Для того чтоб Столыпину предотвратить социальную революцию, вряд ли можно было наделить одних крестьян за счет других крестьян землей, надо было наделить все крестьянство за счет всей конфискованной помещичьей земли. То есть начать все ту же социальную революцию с другого конца, ибо в таком деле Столыпин вряд ли мог бы обойтись без ЧК или подобного учреждения, предназначенного для насилия. Это особенно ярко проявилось в половинчатом характере Февральской революции, которая не выполнила главной поставленной перед ней задачи, поскольку главной задачей всякой буржуазной революции является, как известно, не свержение монархии, а сокрушение феодального дворянско-помещичьего сословия. Вряд ли его можно было сокрушить мирными средствами, как всякое, впрочем, правящее, но впавшее в паразитизм сословие. Во всяком случае, история, как правило, не отпускает на это времени. Временное правительство было слабым, бессильным именно потому, что не смогло выступить против дворян-феодалов на стороне крестьянства и капиталистов. Если б оно решилось на это, а для этого оно должно было включать в свой состав совершенно других людей, которых либо не было, либо было ничтожно мало среди революционной интеллигенции, то тогда оно обрело бы подлинную силу и подлинную власть, которая позволила бы ему довести до конца ту самую буржуазно-демократическую революцию, о необходимости которой еще в начале века говорил марксист Плеханов.
Используя образ г-на Дюринга – Робинзона со шпагой – в качестве символа правящего сословия, Энгельс пишет: «Если Робинзон мог достать себе шпагу (а даже на фантастических островах робинзонад шпаги до сих пор не растут на деревьях), то в одно прекрасное утро Пятница является с заряженным револьвером в руке, и тогда все соотношение «насилия» становится обратным…»
Беря «насилие» в кавычки и по своему обыкновению подтрунивая над своим, хоть и нерадивым, но собратом по социализму, Энгельс пишет: «Мы просим читателя извинить нас за постоянные возвращения к истории Робинзона и Пятницы, которым, в сущности, место в детской, а не в науке. Но что делать? Мы вынуждены добросовестно применять аксиоматический метод г-на Дюринга, и не наша вина, если мы постоянно вращаемся в сфере чистого ребячества». Наукой, конечно, и не пахло, когда в одно прекрасное утро (вернее, в один прекрасный вечер, мы даже знаем, в какой именно, и помним его дату) Пятница с заряженным револьвером в руке явился к обанкротившемуся Робинзону с дворянско-помещичьей шпагой. Но было ли это ребячеством? Тем более что на следующей странице «Анти-Дюринга» сам Энгельс пишет, что «введение огнестрельного оружия повлияло революционизирующим образом не только на само ведение войны, но и на политическое отношение господства и порабощения. Чтоб иметь порох и огнестрельное оружие, нужна была промышленность и деньги… Огнестрельное оружие было с самого начала направленным против феодального дворянства…» А как попал заряженный револьвер из рук незрелого русского капиталиста, так и не сумевшего совершить в феврале буржуазную революцию, в руки Пятницы, Энгельс показывает, разбирая это в несколько неожиданном для политэкономии разделе «Тактика пехоты и ее материальные основы»: «Введенная во Франции в 1777 году, заимствованная у охотничьего ружья изогнутость ружейного приклада, представлявшего раньше совершенно прямое продолжение ствола, позволила целиться в определенного человека, не делая промаха. Без этого последнего усовершенствования нельзя было бы при помощи старого ружья применять стрельбу в рассыпном строю». Следовательно, увеличение эффективности действия пехоты приводит к созданию революционной системы вооружения народа. Правда, из этого Энгельс делает вывод: «А это означает взрыв милитаризма и вместе с ним всех постоянных армий изнутри». Но мы опять отнесем этот вывод за пределы плодотворного для диалектика процесса в идеалистический Абсолют. Мы знаем, что именно пехота из крестьян составила основу революционной силы в России. Изогнутый приклад, заимствованный у охотничьего ружья, позволил ей целиться в определенного человека, не делая промаха. Лозунги социалиста Дюринга, заимствованные у Прудона, – «Собственность есть кража» и «Грабь награбленное» – были ее (пехоты) теоретической основой. А присутствовали ли при этом евреи-социалисты или евреи-капиталисты, является деталями второстепенными, как бы их ни пытались раздувать с разных концов…
Однако пора возвращаться к нашим антисемитам, которые в принципе со стороны выглядят весьма забавными ребятами человеку непредвзятому, то есть для которого наука превыше всего. Такому человеку антисемиты могут пролепетать по-ребячьи массу смешных вещей о социальных проблемах наций, о новых путях экономического развития и даже о новых законах национальной физики и химии. Мы знаем, как рассмешил Энгельса основоположник научного расового социализма левый антисемит Дюринг. Энгельс пишет: «Сконструированный по этим новым законам физики прибор послужил бы единственно для измерения невежественной заносчивости г-на Дюринга». Но в ответ на этот остроумный язвительный смех Энгельса мы скажем: Дюринг еще не успел изложить основной части своих воззрений на социалистическое будущее как переходную стадию к будущему коммунистическому через хозяйственную коммуну. Когда он начнет их излагать, а вы по своему обыкновению начнете их насмешливо критиковать, то мы еще посмотрим с точки зрения реального практического социализма, кто из вас оппортунист и с кем социалисты-практики будут смеяться последними. Вам, Фридрих Энгельс, тогда не поможет даже ваше близкое знакомство с Карлом Марксом.
X
«Вот письмо, полученное от Марьи Васильевны, которое прочитала нам, русским делегатам конгресса, Надежда Степановна. Письмо это помимо того что оно подчеркивает самоотверженность и моральную чистоту наших первых женщин, общественных деятелей антисемитического движения, заставляет задуматься и о будущих национальных путях русского антисемитизма.
«Милая Надежда Степановна! 21 августа истекло ровно двадцать лет, как известная вам большая икона Божьей Матери, моя неизреченная радость и неизглаголенная благость, оставила храм Саввинской церкви и перешла к нам в дом. Этот день всегда был мне дорог и праздновался мною наравне с самыми великими праздничными днями Рождества и Светлого Христова Воскресенья. Я убрала Мать Божию свежими новокупленными цветами, у меня был еще привезен из Харькова прекрасный церковный ставник – свеча. Были заказаны большие всенощные хлебы для посвящения и большой графин церковного вина. У меня было привезено с собой церковного вина полведра. Потом Всенощная – это подобие древнего христианского вечера любви. Был у меня настоящий радостный великопраздничный стол. Одно жаль, что нет вас, милая Надежда Степановна, рядом. Ах, Надежда Степановна, вспомнилось мне, как мы с вами молодыми девушками ездили на Волынь навестить простой народ, страдающий от притеснения жидов. Помните угощение, которое мы устроили для детей бедных поселян, отцы которых были задержаны и посажены в каталажку местными властями за то, что чаша их терпения от еврейской эксплуатации переполнилась. Мы с вами усадили христианских наших детей за длинный стол. Посреди стола свежие яблоки, а по углам четырьмя пирамидами конфеты, орехи и двух сортов пряники. По обоим концам стола стояли вазы с вареньем, с заказными превкусными булками, изюмскими хлебцами и плюшками. А помните, Надежда Степановна, нашу совместную встречу моего светлого праздника пять лет назад? Какая у нас рыба была! Как будто сама Матерь Божья выбрала всю лучшую из Донца и прислала нам для торжества. И, начиная с осетрины и до бланманже, все лучшее было у нас на столе. За десертом, который тут же был соединен с чаем, пробка не хлопнула, но белое донское зашипело в бокалах, и, обратясь к радостно сияющей иконе, я сказала не английским спичем, а нашим русским, пришедшим на душу словом… Милая Надежда Степановна! Не смотрите на пятна. Эти строки письма закапаны моими слезами в минуту писания…»
– В общем, дальше личное, – сказала Надежда Степановна и, чтоб справиться с волнением, вышла в соседнюю комнату.
Они с Павлом Яковлевичем снимали большую квартиру в английской части Дрездена.
– Да, – сказал Павел Яковлевич тихо, – как бы Европа ни пыталась в соответствии с новой модой заменить в борьбе с евреями Христа наукой, а нам, русским, ни в чем, а в особенности в антисемитизме и патриотизме, без Христа не обойтись…
– Это не мода, – пытался я возражать мягко, – развитие идет, и обновление касается всего, в том числе и проблем, связанных с решением еврейского вопроса. Впрочем, женский антисемитизм никогда, наверное, не сможет обойтись без религии.
– Как это вы можете борцов с врагами христианского общества делить по признакам пола, – возражал Павел Яковлевич.
– Евреи прежде всего враги не христианского общества, – мягко возражал я, – а арийской расы, к которой мы с вами, уважаемый Павел Яковлевич, принадлежим. А понятие раса связано с физиологией. Физиология же меж мужчинами и женщинами неизбежно разная. Но в этом не только нет беды, а как раз наоборот, польза. Женский антисемитизм вносит облагораживающий и искренний иррациональный элемент, тогда как мужской антисемитизм вносит рациональную основу.
– Именно так, – поддержал меня Путешественник. – Когда сенат послал на утверждение императрице Елизавете Петровне представление об использовании еврейской торговли с выгодой для страны и казны, она наложила резолюцию: «От врагов Христовых не желаю интересной прибыли».
– Ныне не то, – сказал Павел Яковлевич. – Ныне сплошной меркантилизм… Помню, лет десять назад пришлось мне участвовать в одной возмутительной тяжбе… В городе Кременчуге местный торгаш, христианин-домовладелец, продал еврейской общине дом для иудейской молитвенной школы рядом с христианским храмом. А ведь согласно статье 150-й церковного устава еврейские синагоги и молитвенные дома должны быть не менее ста саженей от православных церквей… И представьте, пока Синод не вмешался, дело рассматривалось в пользу торгаша… Или возьмем другой прискорбный факт… Согласно статье 1416 Уложения о наказаниях, евреям запрещено присвоение христианских имен. Однако сплошь и рядом среди евреев, особенно образованных, попадаются то Петр, то Борис, то Григорий…
Надежда Степановна вернулась в столовую умытая и успокоенная. Подали устриц и бургундское вино.
– Мы местное немецкое пиво не употребляем, – сказал Павел Яковлевич. – Да и еда у них тяжелая… Наде нельзя, а я не люблю.
– Эх, соскучился я по русскому обеду, – сказал Купец. – Не люблю ни здешней еды, ни здешних ресторанов. Даже голубого угря с трудом ем… Лучшие рестораны в России, господа, это не при гостиницах, а на волжских пароходах… Ни один знаменитый ресторан Петербурга, Москвы, Киева или Варшавы не променяю.
– Совершенно с вами согласен, – сказал Путешественник, – взять самолетный пароход «Некрасов». Билет первого класса тридцать рублей, на пятые сутки в Астрахани. Прислуга расторопная с приличным тоном хорошего дома. Обед из четырех блюд: щи, осетрина, рябчики и мараскиновый крем – рубль.
– А на Нижегородской ярмарке, – заметил Купец, – обед из четырех блюд полтора рубля, и прескверный обед…
Я люблю, когда русские люди ведут между собой такие разговоры. Мы в России слишком измучены проблемой, а ведь как раз беспроблемные разговоры часто указывают на то, что нация крепка и уверена в себе. Вот и сейчас, в момент такого беспроблемного отдыха, мне приятно наблюдать за нашей делегацией русских антисемитов со стороны. Надежда Степановна сияет мягкой, хоть и несколько увядающей уже русской красотой. Павел Яковлевич заложил по-аристократически салфетку за воротник. У него свежий, задушевный юношеский тембр, какой бывает у людей верующих и увлекающихся. У Путешественника умная бритая физиономия профессорского типа и нервно-живая речь. Купец говорит спокойно и безапелляционно, как всякая искренняя, но малокультурная натура.
– В Тифлисе вывески на русском языке, – говорит Купец, – но фамилии все туземные и как будто располагают к чиханию… адзе… одзе… инцы… анцы… чиритахчирахачианцы… – Купец хохочет, как может хохотать лишь русское, крепкое физическое здоровье…
Действительно, передает он все эти нерусские названия смешно и по-русски беззлобно. Мы тоже смеемся и окончательно настраиваемся на легкий лад.
– В Тифлисе, – говорит в тон Купцу Путешественник, – в гостинице «Северные номера» приносит мне грузин чужой чемодан и говорит: «Жимодан твой?» – Я разозлился: «Варвары, – кричу, – Азия!»
– А дороговизна, – говорит Купец, – рюмка кахетинского двугривенный… Ессентуки дешевле в Москве стоят… Спрашиваю, сколько номер стоит – «рубь тризит пять». – Он опять заразительно хохочет.
– Всюду тайна чужой души, – говорю я, – и все-таки в глазах инородцев нет такой затаенной вражды, которую питает к нам, русским, еврей.
– Мне один отставной солдат сказал, – говорит Надежда Степановна, распоряжаясь одновременно за столом как радушная хозяйка, – я когда в местах народных восстаний против евреев бываю, всегда люблю записывать народные мысли.. Солдат сказал: «Шамиль супротив русского оружия не устоял. Много крови нашей выпил, двадцать лет пил, а не устоял. Так еврей и подавно не устоит».
– Нет, – отвечает Купец, – тут, Надежда Степановна, дело посложней… Еврейский элемент постепенно проникает на Волгу. В Царицыне их уже немало.
– Я отмахал по России пять тысяч верст, – замечает Путешественник своим умным, нервно живым профессорским говорком, – и ни разу не мог убежать от еврейских клопов.
– Если евреи разольются вокруг страшным потоком, вся колонизаторская энергия России пойдет прахом, – говорю я. Эта моя мысль есть краткий тезис речи, с которой я намерен выступить на конгрессе.
– Вся беда в том, – говорит Купец, брезгливо отодвигая от себя блюдо с устрицами, – что наш капитал лежачий. Как писал один литератор, с подвижным капиталом и на окурках можно миллион нажить. Сила еврея в деньгах. Пока деньги у евреев, нижегородские спасители отечества нас, русских коммерсантов, знать не желают. Был бы я, например, еврей, и была бы у меня фамилия, ну допустим, – он поднимает глаза вверх, силясь представить себя евреем и подобрать себе какую-нибудь еврейскую фамилию понеобычней, – ну допустим, Жукенплейш, – озорно выпаливает Купец и хохочет, как всегда смеется русский человек, видя или воображая что-либо еврейское, над которым он чувствует свое превосходство, даже будучи беден и зависим от еврейского богатства, превосходство, которое не покупают, а которое получают в жилы свои от родительской славянской крови, – Жукенплейш, – повторяет Купец, довольный выдумкой, однако, снова став серьезным, он твердо заявляет: – Деньги у евреев надо отнять. На конгрессе господин Генрици правильно об этом говорил.
– Дело не только в деньгах, но и в умении, – говорит Путешественник. – Например, по вину Россия вполне может составить конкуренцию многим. Мы производим двенадцать миллионов ведер вина, но держим его в бурдюках. А если сравнить это с успехами сахарозаводчиков…
– Сахарозаводчики выскочили в люди, связавшись с еврейским капиталом, – покраснев, заявляет Купец.
Нет, русский человек все-таки долго еще не может вести распространенный в Европе легкий, непринужденный разговор. Даже отдых его наполнен проблемами. Слишком тяжелы и многообразны эти наши проблемы. Спор перескакивает с проблемы на проблему и становится сугубо коммерческим, экономическим, по-настоящему понятным лишь Купцу и Путешественнику, который владеет в нескольких местах России доходными имениями.
– Наша русская пшеница, – говорит Купец, – всегда считалась на европейском рынке самой дешевой, а теперь мы ее вынуждены продавать по 35 – 40 копеек пуд. Вот и будьте добры, потеряли заграничные рынки. Конечно, Европа нашла других поставщиков. Теперь извольте отвоевывать рынки. Что в год потеряешь, в десять не вернешь. Дешевле продавать невыгодно, а по такой цене у нас никто не берет.
– Отчего ж так? – спрашиваю я.
– Урожаи в поместьях все хуже, – отвечает за Купца Путешественник, – землю высосали, а агрономией заниматься не хотят… А вы, – обращается он к Купцу, – бросьте торговать пшеницей, займитесь виноградом. Мне прошлогоднее «Каберне» дало 75 тысяч чистого дохода. Вино, как ни мал сбор, дает 20 тысяч рублей чистоганом.
Я, видя, что спор этот скучен для хозяев – Надежды Степановны и Павла Яковлевича, решил перевести разговор в более живое и понятное для всех русло. Тем более что страсти обострились и Купец крикнул Путешественнику:
– Россия – это не вино, а пшеница. Это русский продукт, а чем попало торговать мы не намерены. Лишь бы выгода – это еврейский подход.
– Как насчет торговли вином или пшеницей, – сказал я, улыбаясь, – тут мы с Надеждой Степановной не специалисты, но виноград в Крыму выращивают отменный.
– Да, да, – сказала Надежда Степановна, – Марья Васильевна пишет, она в Ялте только виноградом в основном и питается. Так врачи предписали – виноград и ялтинский воздух.
Однако Купец, распаленный спором, все еще не мог избавиться от желания во всем и всем противоречить и делал это сообразно своей простой, искренней, отчасти даже до бестактности искренней натуре.
– Виноград? – живо переспросил он, точно ожидая, что кто-либо похвалит крымский виноград, и заранее приготовив слова, чтобы его обругать. – Дерут невозможно. Фунт винограда по 15, 18, 25 копеек… Это в сентябре… А в Киеве пуд винограда три рубля.
– Ну как можно сравнивать киевский виноград с крымским? – сказал Павел Яковлевич.
Последние дни он не только сам старался не раздражать Надежду Степановну, но даже трогательно оберегал ее от посторонних раздражений. Позднее я выяснил, что Павел Яковлевич узнал об интересном положении своей гражданской супруги и был очень счастлив. Но Купец вел свою линию.
– Конечно, – говорил он, – в Киеве покислей, попроще, но зато три рубля пуд… Да и вообще в Крыму дерут невозможно, а номеров свободных все равно никогда нет… Ни в «России», ни во «Франции», ни в «Гранд-отеле» номера не найдешь… А почему? Питерские и московские истерички и психопатки приезжают и нанимают себе проводников– татар… А татары все альфонсы. Недаром говорят: в оны времена в Сибири очень модны были обезьяны, а теперь в Ялте татары… Абдулки…
Я видел, что Надежда Степановна нехорошо покраснела и хотела как-то остановить, перебить Купца, но он, что случается с нашим русским торговым простым человеком, вошел в раж.
– И больные цену набивают… Куда ни посмотришь, желчно-геморроидальные или малокровные столичные физиономии… В прошлом году я номер достал только в «Центральной»… Цена два рубля… Маленькая комната, на обоях пятна… Думаю, Господи, может, еще вчера там лежал чахоточный или чахоточная, выплевывая чахоточные палочки вместе с виноградной шелухой… А я теперь этим воздухом дышу…
Сцена, после этого случившаяся, была крайне неприятна. Надежда Степановна встала и заткнув рот кружевным платком, чтоб сдержать рыдания, поспешно ушла вновь из столовой. Однако на этот раз решительно, ибо приняла все сказанное за намек на свою подругу Марью Васильевну. Намека, конечно, не было, но от этого неловко и не к месту сказанные слова не могли исчезнуть. Наступила тишина.
– Тэк-с, – только и произнес Павел Яковлевич, но произнес таким образом, что Купец, все поняв, ответил:
– Ежели я кажусь вам пьяным, то могу уйти.
И, холодно кивнув, вышел.
С этого прискорбного и нелепого, я бы даже сказал, несчастного случая нас, русских делегатов, на антисемитском конгрессе осталось четверо. Купца я как-то видел издали на улице, но он, очевидно, также заметив меня, поспешил ретироваться. Потом он исчез, очевидно уехал назад, в Россию. Но нет худа без добра. С уходом Купца наша делегация русских антисемитов стала более однородной, сплоченной, культурной, и это способствовало дальнейшему успеху наших выступлений на конгрессе.
XI
Между тем конгресс приближался к своему апогею, каковым я, да и многие иные делегаты и публика считают выступление лидера народных антисемитов Виктора Иштоци. Принятием тезисов Штеккера были удовлетворены только консервативные или политические антисемиты. Я слышал, что они на этом хотели и закончить конгресс, но встретили отпор со стороны большинства и по сути превратились хоть временами и в сочувствующих, но в основном в молчаливых зрителей. На первый план выступают народные радикальные антисемиты. Желание политических антисемитов повлиять своей антисемитской пропагандой на правительственные круги нашло свое выражение в хладнокровно обдуманных, строго взвешенных «Тезисах». Стремление антисемитов народных возбудить своими антисемитскими речами народ – в «Манифесте» Иштоци. Эти два документа так же различны между собой, так же непохожи друг на друга, так же противоположны в своем виде и характере, как личный характер и национальный тип их составителей. Тезисы бранденбуржца и проповедника при дворе могли быть прочитаны кем угодно на конгрессе и могут быть читаемы в печати, ничего не теряя и не выигрывая от того, при каких условиях с ними знакомятся читатели или слушатели. «Манифест» производит полное впечатление, только когда читается его автором. Но зато что это за впечатление! Это был поистине великий день на конгрессе, великий день в моей жизни. В этот день я окончательно решил посвятить всю мою жизнь святому делу международного антисемитизма.
– Правительствам и народам христианских государств, которым угрожают евреи! – При этих первых словах «Манифеста» правая рука Иштоци выступила вперед плавным движением, и этот единственный жест оратора-чтеца, исполненный той «грандецци», которая свойственна только испанцам и мадьярам, вызвал бешеные рукоплескания и крики, как будто рука Иштоци потрясала мечом и указывала на врага.
– Как в прежние века, – продолжал Иштоци, – существованию христианских народов угрожали попеременно арабы, татары и турки, народы чуждой расы и религии, которые в свое время были победоносно отражены европейским христианским оружием, так и в наши дни христианской Европе угрожает чуждое племя, не только не менее опасное, но, судя по его целям и средствам, еще более опасное, чем все прежние завоеватели. И это чуждое опасное племя – племя еврейское!
Снова рукоплескания, снова крики.
– Правильный инстинкт европейских христианских народов до самого последнего времени не давал воли этому заклятому наследственному врагу, относительно которого все законодательные меры защиты оказывались всегда недостаточными. Но это положение с началом нынешнего века в большей части государств изменилось радикально. Победившие с Французской революцией идеи свободы, равенства и братства прорвали все преграды, воздвигнутые для защиты христианских народов от евреев. Начало свободы было применено к племени, которого главная мысль и стремление – заковать все другие народы в материальные и нравственные цепи рабства, так как по его религиозным и национальным преданиям все эти народы созданы только для того, чтобы служить евреям. Начало равенства было применено к племени, которое согласно Торе считает себя за избранный Богом народ, остальное же человечество за низшие нечистые существа…»
Это – одна из основополагающих антисемитских формулировок, получившая особое распространение в новейшее время и которую особенно интересно слышать из уст тех, кто объявляется на высшей ступени расовой и иерархической лестницы, помещая на низшую ступень еврея не на основании Торы (шестой век до нашей эры), а на основании научных открытий. Впрочем, уже упомянутый философ действительности из академии общественных наук Бегун (XX век нашей эры) тоже копается в Торе, чтоб сделать современные выводы подобного рода. По странному совпадению, он выдвигает против «сионистов» тот же набор обвинений, буквально слово в слово, мы в этом уже убедились и в дальнейшем убедимся еще более, тот же набор, который «честные» антисемиты всегда выдвигают против евреев. Под словом «честные» в данном случае имеется в виду метод, а не моральные качества. Таким образом, одно из двух: либо свойства евреев вообще перешли ныне к сионистам, либо свойства антисемитов перешли к «интернационалистам» бегунам, прыгунам и прочим идеологическим акробатам. Что же касается формулировки об избранности, то всякое религиозное построение предусматривает возвышение своего народа. В такой же, если не в большей степени это можно обнаружить в мусульманском Коране. Христианство было создано не христианами, а иудеями, которые весь пыл своего богостроительства вложили в Пятикнижие. Но многочисленные многовековые комментарии теологов-христиан наполнены чувством своей богоизбранности и превосходства над не-христианами. Даже магизм и атрибутивизм первобытных или сохранивших свою дикость до наших дней племен ставит свои идолы, дух своих предков и тех, кто им поклоняется, выше всех иных людей. Дело тут не в национально-племенном превосходстве, а в том духовном качестве, ради которого вообще была создана религия, – стремлении выделить себя из стадного бытия. Если приверженец каждой религии чувствовал себя выше других, низших, – а сравнивать себя человек может только с человеком, – то в древнем, лишенном еще гуманистических представлений мире все они чувствовали себя индивидуальностями. Конечно, лишенный всех прав, запертый в гетто, лишенный национальной жизни еврей мог возвращаться мыслями к изначальным религиозным построениям, к мечтам о своей избранности, чтобы хоть как-то утешить душу и почувствовать свою индивидуальность, и поэтому, чтобы в своих целях использовать «еврейский империализм», антисемиты испокон веков обращались к древним религиозным книгам, к научно-философским трудам. Однако практический империализм и колониализм, в частности арийско-христианский и иной, можно обнаружить в обычных учебниках истории или даже в газетах. Поэтому была выдумана всемирными антисемитами и Дюрингом научно обоснованная версия о финансовом закабалении евреями мира, то есть порабощении с помощью денег. Но передадим слово по этому вопросу такому авторитету, как Иштоци.
«…Современный либерализм все более отождествляет себя со стремящимися вперед евреями. Он стал лжелиберализмом и служит ныне евреям послушным орудием для осуществления их замыслов. Евреи повсюду достигли безграничного господства над денежным рынком, они царят на бирже, где они определяют по произволу цену денежных знаков и ценностей, сырых продуктов, мануфактурных изделий и распоряжаются таким образом кошельком капиталистов, как и плодом землепашца и ремесленника. Они владеют банками, открывают путем кредита пути своим соплеменникам и закрывают их по своей прихоти всем, кто не угождает евреям. Обыкновенная тактика, которая наилучшим образом объясняет удивительные успехи евреев, состоит в беспощадном преследовании раз обиженного ими человека, обиженного ими христианина. Опасаясь мщения с его стороны, они травят его, не выпускают из своих когтей, пока он не предастся им совсем, на их волю или не погибнет материально и нравственно. Естественное последствие этой травли есть монополизирование денежного рынка. В результате крупный землевладелец, крестьянин, фабрикант, купец, рабочий пришли в материальную зависимость от евреев и сделались покорнейшими слугами тех, прихоти которых должно подчиняться их существование. К сказанному присоединяется еще то обстоятельство, что евреи дают в банковых, железнодорожных и других учреждениях должности с большим жалованием людям, преимущественно влиятельным в обществе или в администрации, которые таким образом поступают к евреям на содержание, становятся их вассалами и действуют в законодательных учреждениях и в правительственных кругах как верноподданные слуги еврейского господства. Венец этого экономического и финансового здания составляет ротшильдовская династия, сделавшаяся кредитором всех государств, нуждающихся в кредите, и без согласия которой вряд ли можно было бы вести войну… Да, господа, еврейский капитал является источником всех современных войн, и, пока он существует, мир на земле невозможен»
Снова раздался гром аплодисментов, хотя я видел, что правые антисемиты во главе со Штеккером проявляют нервозность. После слов Иштоци о виновности еврейского капитала в войнах молчавший до этого, но много записывающий, как и я, и, очевидно, желающий, как и я, издать о конгрессе книгу американец из Канады Голдуин Смит, длинноносый блондин, заявил:
– Нам известно, что евреи агитировали против освободительных войн славян на Балканах. Еврейская пресса в Вене постоянно занимала антиславянскую, протурецкую позицию.
Тут не выдержала милая Надежда Степановна. Американец из Канады Голдуин Смит коснулся ее больного места. Вскочив, она горячо произнесла:
– Турки раненого русского офицера обвертели соломой и сожгли… Вот истинная смерть славянского мученика… А Европа, окаянная ненавистница славян, в то время поддерживала антихристиан турок…
Последних слов Надежды Степановны я, естественно, не перевел, и немцы не поняли. Но Иштоци, по-моему, смысл их понял, ибо дух русского языка гораздо ближе мадьярам, чем немцам. Поэтому, когда Иштоци едва заметно, интимно кивнул Надежде Степановне, а она улыбнулась ему в ответ, милый Павел Яковлевич беспокойно заерзал и ревниво поморщился. И действительно, в тот момент только женщина с ледяным сердцем не влюбилась бы в Виктора Иштоци, стройной богатырской фигуре которого недоставало только лат да рамы, чтоб быть принятым за портрет средневекового витязя.
– Всякая война, – продолжал он, – увеличивает еврейские капиталы, миллиарды Ротшильда и эксплуатирует даже национальное несчастье, все более и более сосредотачивает богатство европейских народов в руках еврейского племени. Чем же объясняется абсолютное бездействие правительства в еврейском вопросе и его как бы враждебное отношение к интересам собственных народов в угоду евреям? – В этом месте Иштоци, говоривший негромко, медленно, каждую минуту борясь с трудностями произношения мало ему знакомого языка, но нисколько этим не смущаясь, в этом месте Иштоци повысил голос. – Правительства отдельных задолжавших государств упали до значения простых еврейских агентов, органов взимания налогов в пользу евреев… До агентов золотого еврейского интернационала…
Среди всеобщего шума и аплодисментов слов Штеккера вначале не было слышно, и потому Пинкерту пришлось приложить усилия, чтобы восстановить тишину.
– Я повторяю, – сказал Штеккер, – от себя и от имени правых политических антисемитов, что подобные заявления приведут к разрушению международного антисемитизма как культурной силы… Поэтому мы, правые антисемиты, не можем взять на себя подобной ответственности и покидаем конгресс.
Тут, желая, очевидно, выступить примирителем, пастор Толлора заявил:
– Прежде всего, как христиане мы должны дать себе отчет, в чем источник бедствий самих евреев. В манифесте господина Иштоци ошибочно названа Тора. Не Тора, а Талмуд, утвердивший еврейскую религию как единственную.
– Нет, – ответил Иштоци, – не Талмуд, а Тора, особенно Пятикнижие, утвердившее в евреях веру прежде всего в избранность их народа, а не в избранность их религии…
В этот спор антисемита-поэта Иштоци и антисемита-теолога Толлора вмешался антисемит-философ, антисемит-ученый Генрици.
– Первый и самый радикальный теоретик антисемитизма Дюринг, – заявил он, – желает очищения религии, как и жизни арийских народов, от всякого семитического влияния. Этому стремлению обязано движение своим именем. Оно направлено не против религии, а против расы. Поэтому вы, господин, Штеккер, и вы, господин Толлора, не имеете права называть себя антисемитами. Организуйте свое движение, не антисемитское, а антиеврейское, антииудейское, это будет правильно, это будет отвечать вашей сути.
– Нет, это вы, господа Иштоци и Генрици, не имеете права называть себя антисемитами, – бросил в ответ Штеккер, – ибо придаете естественно возникшему антисемитизму, как мирному разумному способу объединить все культурные силы христианских народов против евреев, варварские черты…
Сказав это, Штеккер во главе кучки его сторонников покинул конгресс…»
Судьба Штеккера – яркий пример бесплодия всякой умеренности в радикальном по своей сути движении. В данном случае бесплодия «антисемитизма с человеческим лицом». Рано или поздно перед такими «умеренными» ставится дилемма: или отойти от движения, или встать на радикальные позиции. Но где же вообще источник так называемой умеренности в радикализме, как возникает конфликт внутри радикального движения и откуда берутся в данном случае «антисемиты с человеческим лицом»? Либеральный антисемитизм изучен гораздо менее радикально, а между тем он играет значительную роль в антисемитизме, хотя и заранее обречен на поражение от своего более ясного собрата. Антисемитизм вообще привыкли рассматривать как явление однородное, а между тем с момента придания ему современных идейных черт внутри его постоянно велась и ведется борьба, так же как она велась и ведется внутри всякого современного идейного движения. Примером такой борьбы может служить предреволюционный русский антисемитизм. В одной из статей о предреволюционном русском периоде сказано: «Дело в том, что антисемитизм, чтоб не потерять своего влияния, должен все время подогреваться. А между тем все возможное в этом отношении уже сделано».
И действительно, даже на разбираемом нами международном антисемитском конгрессе, где собрались личности глубоко кровно заинтересованные в проблеме, где собрался цвет международных антисемитов того времени, речи ораторов удивительно однообразны и в разных вариациях повторяют одно и то же. В том же заколдованном круге фольклорного и научного антисемитизма вращаются и такие современные философы действительности, как Бегун, напяливший «интернациональный маркизет» на голое тело дюрингианца. Конечно, некоторую помощь антиеврейским аргументам, некоторую возможность придания антисемитской мифологии хоть какой-то опоры на факт оказывают сами евреи, ибо евреи тоже «живые люди». Мы выделяем эту формулировку, ибо позднее убедимся, что в одной из известнейших современных антисемитских кампаний она играла важную роль. «Живые люди» действительно всегда содержали и будут содержать множество дурных черт, и специфических, и общечеловеческих. Чрезмерный меркантилизм, национально-общинная замкнутость, религиозно-бытовые пережитки и прочие свойства еврея создавали для антисемитов дополнительные возможности. Но ведь дурные свойства, например, немца или русского при подобном подходе могли с полным основанием дать повод для «окончательного решения» немецкого или русского вопроса. Дело, значит, тут не в дурных свойствах той или иной нации, а в ее беззащитности. Однако для того чтобы еврей стал полностью беззащитным в современном мире, так называемая «коренная» нация должна до основания разрушить свои собственные правовые нормы. Поэтому те антисемиты, которые сохранили элементарный здравый смысл, понимали, что для «окончательного решения» еврейского вопроса надо стать не только на антисемитские, но и на антигосударственные, по сути, позиции, ибо всякое государство сильно своим правом, своим незыблемым законом. С другой стороны, у радикалов-антисемитов появляется еще один опасный враг – закон своего собственного государства. Таков основной конфликт внутри антисемитского движения. И действительно, если вернуться к цитированной уже нами статье о предреволюционном русском антисемитизме, то там сказано: «Антисемитская пропаганда в рассматриваемый период приняла совершенно патологический характер. Всякое чувство меры, стремление хотя бы к тени правдоподобия и логики было начисто потеряно. Изуверство и глупость превзошли все мыслимые пределы. Неизбежным результатом такой политики была ее полная дискредитация даже в глазах правоверных антисемитов, не потерявших еще брезгливости и элементарного понимания действительности».
Но, отделяя себя от антисемитов-радикалов, умеренный антисемит пытался стать на позиции «антисемитизма с человеческим лицом», или «асемитизма». Такими «асемитами» в России были, в частности, писатель Чириков или деятель кадетской партии Струве.
«Асемитизм гораздо более благоприятная почва для решения еврейского вопроса, – писал Струве. – Евреям полезно увидеть открытое национальное лицо той части русского конституционного и демократически настроенного общества, которое этим лицом обладает и им дорожит. И наоборот, для них совсем не полезно предаваться иллюзии, что такое лицо есть только у антисемитского изуверства». Сказано достаточно ясно и насчет иллюзий к месту. Однако иллюзии здесь как раз и состоят в стремлении противопоставить внееврейские националистические тенденции антиеврейским тенденциям. Радикальный антисемитский нигилизм, как всякий радикальный идеологический нигилизм, имеет свои внутренние законы, и он не оставляет для умеренных деятелей место в своей среде. Либо он их вытесняет, либо он их постепенно обращает в свою веру. Примером этому служит речь Виктора Иштоци, не оставившая на конгрессе умеренным антисемитам никаких возможностей.
«Холодное равнодушие, с которым некоторые правительства взирают на борьбу своих народов с еврейством, – продолжал Иштоци, – лишний раз подтверждается тем, что в вопросах печати правительственные чиновники становятся на сторону евреев, позволяют захватывать им в свои руки все средства борьбы, так что свобода прессы, право сходок и ассоциаций и свобода речи делаются монополией евреев. Я не буду подробно касаться засилия евреев в печати и культуре, ибо об этом специально скажет Иван Шимони, замечу лишь, что именно путем прессы подкапываются евреи все более и более под христианскую религию, сделавшуюся особою, расовою, я подчеркиваю, расовою религией европейско-арийских народов. Христианство вообще возникло как могущественная реакция против еврейских и вообще семитских замыслов, и потому понятно, что евреи сделались заклятыми врагами не только основателя христианской религии, но и всех его последователей».
Тут снова встал пастор Толлора и заявил:
– Как миссионер, посвятивший свою жизнь обращению евреев в христианство, я не могу согласиться с объявлением христианской религии расовой и замкнутой, ибо это противоречит учению Христа. Я согласен, что евреи, стоящие на ложных позициях своей иудейской религии, являются врагами христиан, но картина возникновения самой христианской религии антиисторична.
Тогда снова вскочил Шредер, председатель антисемитского форейна саксонских сапожников, и крикнул пастору Толлоре под общий смех:
– Вы еще не ушли?! А я думал, что на нашем конгрессе нет больше ни одного оппортуниста…
Даже Пинкерт, который всячески старался сохранить объективность, не мог сдержать улыбки, когда Толлора под смех и шутки публики и даже некоторых делегатов начал пробираться к выходу. А Шредер, подойдя к Иштоци, крепко пожал ему руку, и гром рукоплесканий скрепил это великое рукопожатие. В этом рукопожатии поэзия антисемитизма и его мускулатура подали друг другу руки.
– Еврей-космополит, – вдохновенный поддержкой, продолжал Иштоци, – не может быть патриотом, не может с преданностью стоять на земле, не может ее возделывать в поте лица. Даже если еврей там и сям занимается сельским хозяйством, то это не что иное, как хищническое хозяйство, которое вырубает леса, истощает производительность почвы и делает ее бесплодною. Но еврей-барышник не берет в руки плуг или косу. Его орудие труда – это деньги. Поэтому деньги должны быть изъяты из еврейских рук, так же как мы выбивали оружие из рук турок или арабов.
– Читайте Дюринга, – бросил с места Генрици, – только социалистическая система хозяйства может отнять деньги у евреев. Жизнь показала, что надежда на ныне существующие правительственные меры в этом направлении есть пустые мечты.
И вновь в который раз под сводами пивного зала прозвучали аплодисменты, разгоняя клубы дыма от дешевых сигар…
XII
Как же представляет себе Евгений Дюринг проблему денег после того, как они отняты будут из рук евреев и оевреившихся капиталистов, и какова, по Дюрингу, связанная с проблемой денег проблема распределения в будущем социалитате?
«Стоимость есть цена», – утверждает Дюринг. Энгельс по этому поводу замечает: «Если б Гегель не умер уже давно, он бы повесился». Однако опять, в который раз Энгельс не учитывает Робинзона со шпагой, а вернее Пятницу с револьвером. При экономическом уродстве практического социализма стоимость товара действительно равна цене, которая устанавливается не путем свободного рынка, а путем политического насилия над экономикой. «Закон, на котором покоится стоимость, – утверждает Дюринг, – выражающая ее в деньгах цена зависят только от производства, но не зависят от распределения, которое вносит в понятие стоимости лишь второй элемент».
«Распределение, но мнению г-на Дюринга, – пишет Энгельс, – определяется не производством, а простым актом воли». Таким образом, Дюринг переходит к плановому хозяйству: «Все отдельные хозяйственные коммуны заменят мелкую торговлю вполне планомерным сбытом… Даже если кто-либо действительно имел бы в своем распоряжении избыток частных средств, то он бы не был в состоянии найти для этого избытка никакого капиталистического применения».
«Таким образом, – пишет насмешливо Энгельс, – хозяйственная коммуна как будто благополучно сконструирована. Посмотрим теперь, как она хозяйствует». И после некоторых экономических цифровых расчетов Энгельс поясняет, что в конце года, как и через сто лет, такая коммуна г-на Дюринга будет не богаче, чем в самом начале. И что «в течение всего этого времени она не будет даже в состоянии предоставлять г-ну Дюрингу умеренную прибавку для нужд потребления, если она не хочет затронуть для этого фонд своих средств производства. Накопление совершенно забыто». А какой же выход? Выход есть, и Энгельс его сам подсказывает для того, чтобы его тут же с негодованием отбросить. Но многое, что создается и отбрасывается социализмом Маркса-Энгельса как социалистический брак, социализмом Дюринга заботливо подбирается и пускается в дело.
«Или же, – пишет Энгельс, – шестичасовой труд каждого члена коммуны будет оплачиваться продуктом не шестичасового труда, а меньшего количества часов, скажем четырех. То есть вместо двенадцати марок коммуна будет платить восемь марок, оставляя цены товаров на прежней высоте. В этом случае коммуна прямо накапливает открытую Марксом прибавочную стоимость, оплачивает чисто капиталистическим способом труд своих членов ниже произведенной им стоимости, расценивая в то же время по полной стоимости товары, которые они могут приобретать только у нее. Таким образом, хозяйственная коммуна только в том случае может образовать резервный фонд, если она разоблачит себя как облагороженную truck system на самой широкой коммунистической основе». И, делая сноску, Энгельс поясняет: «Truck system называется в Англии хорошо известная также и в Германии система, при которой фабриканты сами являются владельцами лавок и заставляют рабочих приобретать нужные им товары в этих лавках». В данном случае коммуна заменяет фабрикантов еще в более широком плановом масштабе, так что производителю, он же и потребитель, деваться некуда.
А как же деньги, это основное орудие еврейского и оевреившегося капитала, орудие порабощения евреями человечества? Деньги, отнятые у евреев и оевреившихся капиталистов, «останутся в социалитате, но в обмене между коммуной и ее членами они отнюдь не будут функционировать в качестве денег, – пишет Энгельс, – они служат всего лишь рабочими квитанциями или, говоря словами Маркса, они лишь констатируют «индивидуальную долю участия производителей в общем труде и долю его индивидуальных притязаний на предназначенную им для потребления часть общего продукта» и в этой своей функции «имеют с деньгами так же мало общего, как, скажем, театральный билет». Одним словом, и в обмене между хозяйственной коммуной и ее членами деньги функционируют просто как оуэновские «рабочие деньги», единицей которых служит часть труда… Будет ли марка обозначаться количеством выполненных «производственных обязанностей» и приобретенных за них «прав на потребление», клочком бумаги, жетоном или золотой монетой – это для данной цели совершенно безразлично. Обмен является натуральным».
Далее Энгельс показывает, что подобная подмена дает повод к злоупотреблению и эксплуатации большинства членов коммуны ее меньшинством, ибо деньги, принимаемые коммуной в уплату за жизненные средства, становятся опять тем, чем они являются в современном обществе – общественным воплощением человеческого труда, действительной мерой труда, всеобщим средством обращения. «Все «законы и административные нормы в мире» так же бессильны изменить это, как не могут они изменить таблицу умножения или химический состав воды, – пишет Энгельс. – Господа, захватившие в свои руки производство и самые средства производства, хотя бы эти последние продолжали фигурировать номинально как собственность хозяйственной и торговой коммуны, становятся также господами самой хозяйственной и торговой коммуны… Под их контролем и для их кошельков коммуна будет самоотверженно изнурять себя работой, если она вообще когда-нибудь возникнет и будет существовать». Ну, последняя фраза для нас, которые старше Энгельса на сто лет, уже несущественна, так же как и его извинения: «Впрочем, пусть читатель все время не упускает из виду, что мы здесь отнюдь не занимаемся конструированием будущего. Мы просто принимаем условно предположения г-на Дюринга и только делаем неизбежно вытекающие из них выводы… Робинзон со шпагой или Пятница с револьвером могут отнять деньги, но они не могут изменить природу денег, которые в отличие от оуэновских трудовых марок Дюринг вводит как действительные деньги, но хочет запретить им функционировать иначе как в качестве трудовых марок». И тогда «прокладывает себе путь имманентная, не зависящая от человеческой воли природа денег: деньги добиваются здесь свойственного им нормального употребления наперекор тому злоупотреблению, которое г-н Дюринг хочет навязать им в силу своего собственного непонимания природы денег». Из всего вышесказанного Энгельс делает вывод, что Дюринг «хочет сохранить современное общество, но без его отрицательных сторон».
Можно, однако, и продолжить этот вывод Энгельса, сказав, что Дюринг путем политического и идеологического насилия хочет упразднить положительные стороны капитализма, а отрицательные стороны капитализма объявить положительными сторонами социализма. При капитализме работодатель на рынке труда платит за труд деньгами и взимает за продукты труда тоже деньгами. Противоречие состоит лишь в том, что капиталист стремится заплатить за труд поменьше, а за продукты труда взять побольше. При социализме Дюринга, при котором рынок труда и капитала отсутствует, работодатель за труд платит талонами в форме денег, но за продукты труда берет подлинные деньги. Это значит, что цену за труд предлагает только покупатель, а цену за продукты труда только продавец. Но, как известно, при социализме Дюринга и покупатель труда, и продавец продуктов труда есть одно лицо, которому Дюринг дает наименование хозяйственной коммуны.
Теперь, когда со слов социалиста Генрици нам ясно, из чьих рук должны быть деньги отняты, а со слов вождя расового социализма Дюринга ясно, в чьи руки они должны быть переданы, мы можем продолжить слушание оратора от народных антисемитов Иштоци.
«Граждане различных государств, особенно угрожаемых евреями, – продолжал Иштоци, – по званию своему члены парламентов, духовные, офицеры, чиновники, адвокаты, медики, ученые, профессора, художники, журналисты, сельские хозяева, фабриканты, ремесленники, купцы – все те, которые имели случай изучать годами еврейский вопрос в теории и испытать на себе его бедственное влияние в практической жизни, – собрались в большом количестве в сентябре 1882 года на международный конгресс в городе Дрездене, где они сделали еврейский вопрос предметом обстоятельного обсуждения и, между прочим, решили в качестве сведущих в этом вопросе людей обратиться к правительствам и народам приведенных евреями в опасность христианских государств с этим нашим воззванием. Мы взываем к правительствам, то есть к христианским советникам христианских государей, дабы они не ставили искусственных препятствий к легальной самозащите их народов против еврейства, а напротив, поддерживали в ней свои собственные народы, плоть от их плоти, кровь от их крови. К христианским же народам, более или менее утесняемым евреями, взываем мы, дабы они повсюду начали и организовывали свою законную самозащиту против евреев. В парламентах, в окружных и общественных собраниях и советах, в печати и в публичных собраниях надо развернуть живую антиеврейскую агитацию. В городах и селах надо создавать оборонительные союзы. Для руководства же последними пусть образуют в каждом государстве центральные комитеты, которые бы установили общую связь и учредили бы для борьбы с Alliance Israelite Universelle – Alliance Chretienne Universelle. И если этот наш призыв не останется гласом вопиющего в пустыне, то в скором времени будет смыто с чела девятнадцатого века постыдное пятно материальной и нравственной тирании семи-восьми миллионов антикультурного еврейского племени над 450-миллионным арийским или посредством христианства ариизированным – расою, которая призвана вследствие ее физического и умственного превосходства распространить свое семя вместе с выработанной ею цивилизацией на все пять частей света. За работу, христианские братья!»
Когда Иштоци кончил и утихли аплодисменты, овации, восторги, все присутствующие одним возгласом потребовали, чтобы он читал еще раз. Но поскольку оратор читал более часу, то желание это могло быть исполнено только на другой день, и те же самые слушатели присутствовали другой раз, испытывая впечатление, совершенно подобное первому. Никогда в жизни моей, ни в каком собрании публичном или частном не видел я такого успеха! Эти строки представляют очень слабый отголосок пережитых тогда всеми нами минут, отголосок возникшего у нас впечатления о силе противоеврейского движения и о значении Виктора Иштоци, его международного вождя. Слышавшему Иштоци однажды трудно не сделаться антисемитом на всю жизнь!
В сильном возбуждении мы, делегаты русских антисемитов, покинули пивной зал на Johannisstrae и принялись бродить по городу, чтобы как-то остыть и успокоиться. Надежда Степановна, почему-то стыдливо кашляя в кулак, как влюбленная девушка, сказала мне:
– Я знаю, вы лично знакомы с господином Иштоци, передайте ему, что благодарю его с улыбкой и слезой. Подобный душевный восторг я испытала в последний раз в прошлом году во время крестного хода от храма Спасителя, еще даже не оконченного, но уже прекрасного, в Кремль.
– Именно, – сказал Путешественник, – я тоже испытываю легкий озноб от сильного нервного возбуждения, как при посещении храма Спасителя.
Мы шли мимо ярких витрин роскошных дрезденских магазинов, гуляли по центральной городской площади, вышли к набережной, освещенной ровной цепочкой фонарей.
– Мне кажется, – сказал Павел Яковлевич, – что после речи Иштоци все споры на конгрессе утихнут. Как же теперь можно спорить, когда сказана такая объединительная речь и когда еврейский общий враг так ярко обозначен.
– Да и вообще, – сказал Путешественник, – все эти споры кажутся мне не более чем разговорами о стиле. Они напоминают мне споры между сторонниками Владимирского собора и Андреевской церкви в Киеве. Византийцы называют Андреевскую церковь беседкой или киоском, рококисты – Владимирский собор сахарницей или чайницей. А я в искусстве оппортунист.
– Ну уж, – улыбнулся Павел Яковлевич, – вы и оппортунист.
– Да, – сказал Путешественник, – там, где творчеству дана воля, где оно самобытно, оригинально, все стили хороши. Так же как и в общественно-политических движениях. Потому я и в антисемитизме оппортунист.
– Нет, дорогой Путешественник, – сказал я, – настоящий оппортунизм – не многообразие стилей, а примирение с дурным стилем. Если бы подлинные оппортунисты от антисемитизма не вынуждены были бы покинуть наш конгресс, вряд ли Иштоци удалось бы так успешно прочесть свой манифест и вряд ли он был бы встречен так единодушно. А сейчас, господа, мне пора, чтоб по свежим следам отредактировать стенограмму, ибо считаю своим национальным долгом русского антисемита как можно полнее передать это историческое выступление русской публике.
Однако, очутившись у себя в номере отеля, я понял, какой тяжелый труд мне предстоит. Пораженный глубиной мысли и силою чувств «Манифеста», я не сообразил, что «Манифест» попросту немыслим без читающего его Иштоци, как сам Иштоци немыслим для меня теперь без исторического документа, в который он вложил свою душу. Передо мной, правда, были корректурные листы «Манифеста», которые я заранее взял у самого Иштоци и которые за свой счет в миллионах экземпляров намеревался издать берлинский книгопродавец Шульце. Но вот уж когда можно было вспомнить итальянскую пословицу «Traduttore – traditore» (переводчик – изменник). В переводе «Манифест» написан таким варварским слогом, что сам автор и его немецкие и венгерские друзья исправляли этот слог, приведя в отчаяние немецких стилистов. Мне оставалось лишь одно: выбрать из различных корректур, а также из того, что я успел записать вслед за Иштоци. Конечно, я понимал, что не в состоянии передать этого пламенного чувства человека, целая жизнь которого привела его к антисемитским убеждениям, изложенным в этом охлаждаемом и ослабляемом всякой передачей документе. Поэтому, невзирая на то что Иштоци был утомлен своим чтением, я осмелился обратиться к нему, благо он жил в том же отеле, что и я. Вернее, я специально остановился в отеле Stadt Berlin, хоть он несколько дороговат, узнав, что там же остановился и Иштоци.
Иштоци принял меня радушно, хоть и был действительно утомлен, даже опечален, как я узнал позднее, не без веской причины. Этот всемирный человек, этот страшнейший из врагов, каких имеют евреи, в домашней обстановке производил впечатление кроткое, даже какое-то провинциальное. Трудно было поверить, что еще несколько часов назад его слова воспламеняли и объединяли несколько сотен людей. Действительно, это был сейчас средневековый рыцарь на отдыхе, снявший латы и надевший домашние туфли и стеганый халат.
– Виктор, – сказал я ему, – я понимаю, что ваш «Манифест» есть продукт чисто венгерской мысли и жизни, но значение его общеевропейское, а может, и общечеловеческое. К счастью, мы, славяне, не только ближе, чем немцы, чувствуем мадьярское национальное сознание – язык наш, образ мыслей более способен выразить дух мадьяр, нежели немецкий язык. Поэтому я не буду бороться с немецкой конструкцией, не стану ее распутывать, а хочу передать главным образом то, что записал с ваших слов.
– Да, – сказал Иштоци, – немцы уже раз десять изнасиловали мой Манифест. О, эти немецкие стилисты. Они все время хотят втиснуть мой бедный Манифест в грубые формы немецкой грамматической конструкции… Только, я надеюсь, вы не передадите этот наш разговор доктору Генрици… Это замечательный человек, но он пруссак, берлинец, и этим все сказано. Мне кажется, пруссаки вместе со своим умом и порядком вносят в антисемитизм слишком много мещанства… Впрочем, дело сейчас совсем в другом, – с печалью в голосе сказал Иштоци и протянул мне газету.
Это была местная газета Dresden Nachrichten.
– Они опять стреляют в народ, – тихо и гневно сказал Иштоци.
– Кто? – растерянно спросил я.
– Жандармы Франца-Иосифа стреляют в венгерский народ, поднявшийся на защиту против еврейского насилия… Читайте… Это, правда, написано оевреившимся правительственным агентом, но тем не менее вы поймете, о чем речь и что происходит.
Я развернул газету и прочел:
«Антисемитские беспорядки в Пресбурге. 27 сентября вечером на некоторых населенных евреями улицах стали появляться многочисленные толпы народа, перебившие окна в некоторых еврейских домах. Беспорядки были вскоре прекращены полицией. На следующий день вечером огромная толпа народа с криками “Да здравствует Иштоци!” начала появляться в предместьи Цукер Мантель и направляться оттуда на еврейские улицы. Отряд полицейских, пытавшихся разогнать толпу, был вскоре окружен со всех сторон и забросан камнями, так что пришлось вызывать на помощь войска. Прежде чем подоспели солдаты, толпе, насчитывающей несколько тысяч человек и над которой реяли национальные венгерские и красные социалистические флаги, удалось разбить окна и полоать оконные рамы в синагоге. Отсюда толпа направилась на другие улицы, разбила все окна в домах и выломала во многих лавках двери. Войска, подоспевшие к тому времени, стали действовать штыками и оцепили некоторые улицы. Тем не менее толпа продолжала бить окна и буянить. Некоторое время спустя появился городской голова, уговаривавший толпу разойтись. Толпа разошлась, однако с целью возобновить буйство в других кварталах. Около полуночи все окна в еврейских домах были перебиты. В некоторых местах толпа врывалась в дома и уничтожала все, что попадало под руки. Сильнее всего буйствовали поляки в предместье Блументаль. Беспорядки произвели панику среди евреев. Многие семейства покинули город и спаслись в Вену, Пешт и другие города. Члены муниципального совета подверглись оскорблениям со стороны буянов. Беспорядки явно напоминают социалистический бунт, связанный с грабежами. Стало известно, что с железнодорожного склада украден ящик динамита. Говорят о задержании иностранных агитаторов-немцев и об изъятии антисемитских социалистических прокламаций. Император Франц-Иосиф отдал распоряжение о применении огнестрельного оружия для восстановления порядка».
– Вот что значит, – сказал Иштоци, когда я кончил чтение, – пресса в руках евреев. Евреям удалось забрать непосредственно в свои руки большую часть ежедневной печати или поставить ее под свое влияние. Пресбург – родной город Ивана Шимони, и там только Ungarische Post осмеливается сказать им и их покровителям правду об антиеврейском народном восстании.
– То же и у нас в России, – сказал я. – Всякая против евреев восходящая жалоба, как бы основательна она ни была, каждая статья, даже издали опасная для еврейского господства, кладется под сукно. Но теперь как будто положение меняется к лучшему.
– Мы не двинемся вперед, пока не отнимем у евреев прессу, – сказал Иштоци. – Об этом и будет говорить Шимони в своем докладе. Это очень важно… В принципе нам бы надо выехать на родину и быть среди восставшего народа и вместе с ним подвергать себя опасности. Я венгр.
– Вы не только венгр, – сказал я дрогнувшим от волнения голосом, – вы вождь международного антисемитизма. Простите, если я говорю пышно, но это так. Вы должны быть там, где решается судьба не только Венгрии, но и всего мира.
– Не хотите ли пройтись, – помолчав, сказал Иштоци, – я чувствую, что в эту ночь мне не заснуть.
Мы вышли под моросящий дождь. По улицам двигалось факельное шествие по направлению к театру, где, согласно сообщениям газет, император вручал орден Черного Орла одному из саксонских министров. Перед театром молодежь с красными фонариками в руках выстроилась, изображая букву W.
– Генрици прав, – тихо сказал мне Иштоци. – Еврейский вопрос не может быть решен, пока не будет уничтожен существующий порядок.
– Читальня уже закрыта, – сказал я. – Но давайте зайдем в Italienisches Dorfchen. Там получают много иностранных газет. Мне интересно, как пишут о событиях в Пресбурге русские газеты… Ну и заодно выпьем рейнвейна.
В «Московских ведомостях» Каткова в маленькой заметке сообщали:
«Императорский комиссар Экельфалуши принимает меры для предотвращения новых беспорядков в Пресбурге. В беспорядках принимали участие и крестьяне, прибывшие из соседних деревень в целях грабежа. Драгунам отдан приказ в случае нужды применять огнестрельное оружие. Одна еврейка умерла от побоев. Сто пятьдесят бунтовщиков арестовано».
– И этот человек смеет называть себя русским патриотом-националистом, – сказал я. – Катков занимал такую же по сути проеврейскую позицию и во время восстания в прошлом году против евреев в русских губерниях, где еврейское засилье особенно сильно, оправдывая это требованием соблюдения законов государства… Иное дело другой наш известный издатель – Суворин, в котором русский патриотизм сочетается с элементами критики существующих порядков, унаследованных от разночинцев, из среды которых он вышел, и от пламенной страсти Белинского, горячим сторонником которого он был… Это все качества, которые необходимы русскому антисемиту.
– Члены конгресса, – сказал Иштоци, – имеют довольно темное понятие о происходящем в России. Я, может, более других знаю русские проблемы, но ведь и я знаю не слишком много. Тем не менее, по аналогии мы понимаем, что народ одной с нами расы – арийской – и одной религии и культуры – христианской должен много страдать от присутствия на его земле большинства всего еврейского племени, и эти страдания, доведенные до крайней степени, необходимо должны были вызвать народную реакцию, так же как и у нас сейчас в Пресбурге.
– О русских народных антиеврейских выступлениях лучше всего расскажет Надежда Степановна, – сказал я, – это первая сознательная женщина-антисемит… Она специально посещала места народных выступлений.
– Завтра, – сказал Иштоци, – после второго чтения Манифеста, я внесу резолюцию о международном сочувствии русским христианским братьям в их борьбе с евреями.
– От этих ваших слов, Виктор, – сказал я, не в силах скрыть волнение, – меня еще больше охватывает радость и счастье от того, что я русский, ариец, христианин, ваш брат по расе, – и в едином порыве мы горячо пожали друг другу руки, как бы благословляя друг друга на спасительную антиеврейскую миссию, которую каждый должен был выполнить в своей стране и в христианском мире в целом.
XIII
И действительно, следующий день конгресса можно с полным правом назвать русским днем. Окончив вторично чтение «Манифеста», выждав, когда стихнут аплодисменты, такие же горячие, как и после первого чтения, Иштоци не ушел с трибуны, а сказал:
– Господа, мы, антисемиты средней Европы, верим, в противоречие с почти всей печатью своих стран, что антиеврейские беспорядки в России произошли не от злокачественности или варварской жестокости русского народа и не от возбуждения их русскими общественными патриотическими деятелями, как это твердит либерал со слов еврейских журналистов и ораторов, а от действий самих евреев. Вчерашние события у нас в Пресбурге только подтверждают это…
Тут же Генрици, пламенный трибун, ученый-философ, внес в эти замечательные слова Иштоци конкретность и окончательную ясность.
– Если мы не примем меры, – сказал он, – чтоб сделать евреям пребывание среди нас неприятным и неприбыльным (ungemtlich und unrentabel), то нам всем, подобно венграм, придется последовать примеру наших русских братьев, которые вынуждены открытою силою отвоевывать от евреев свою родную землю!
При этих словах вся зала потряслась от рукоплесканий и восторженных возгласов. Мы, делегаты русских антисемитов, встали, несколько растерянные и смущенные, но полные гордости за свою отчизну и свой народ, которому аплодирует Европа, приветствуя его самоотверженность в борьбе с общим еврейским врагом. У Павла Яковлевича и Путешественника на глазах были слезы, Надежда Степановна открыто плакала от восторга, даже я, человек более остальных рациональный, хладнокровный, приложил платок к углам глаз.
– Господа, – начала свое выступление Надежда Степановна, – при посещении мест народных выступлений во всех четырех губерниях еврейского царства нам пришлось столкнуться с большими трудностями, о которых я хочу сообщить делегатам конгресса и публике. Сотни арестов, произведенных властями, кладут печать молчания на людские рты. Люди словно забыли, отчего пороли еврейские перины и почему евреи так противны и ненавистны им. Дело в том, что власти воспользовались антиеврейскими выступлениями народа, чтоб расправиться с теми, кто им не угождает и перед ними не раболепствует. Признаюсь, мне самой пришлось покинуть пределы дорогой моей русской отчизны именно после этой поездки и открытого заявления протеста губернатору… Вот записи разговоров и впечатлений, сделанные прямо по свежим следам, – Надежда Степановна развернула клеенчатую тетрадь и прочла:
– Разговоры в народе: «Ну, Ивана схватили, несдобровать молодцу, жиды его давно недолюбливают… Петрова под арест взяли. Вспомнили, как два года назад исправнику нагрубил, Пинскому, богатому жиду, свиное ухо показал».Так власти сами рвут связ с народом и вселяют в народ недоверие к себе… Хлеб и вода в остроге, сечение гуртом, военный суд – вот чем ответили власти христианам в их борьбе с евреями… Если пройти по городу, где произошли бескровные расправы с евреями и кровавые с народными бунтовщиками, то услышишь всякое. Одни говорят: «Бесполезно разорять жидов, они убытки втрое взыщут». Другие говорят: «Разве дома еврейские виноваты? Жидов, вот кого надо бить». Третьи шутят: «Глупый мы народ, даем жидам случай новые перины шить». А есть шутники, которые говорят: «Просто совестно за наш город. Везде бьют, а у нас тихо, точно мы глупее других».
Когда я перевел эти народные слова, приведенные Надеждой Степановной, в зале раздался смех и веселые аплодисменты. Вдохновленная подобным приемом, Надежда Степановна продолжала чтение своих записок:
– Еду на извозчике. Возница со смехом указывает на один из домов с выбитыми окнами: хозяйскую дочку вместе с фортепьяной выбросили… Это гинзбурговские… Тут такая музыка шла… Ай, жги, говори… Перины пороть – дело привычное, а жидовскую фортепьяну в окно – это, скажу по совести, удовольствие… Гинзбург обманом взял у солдата закладную… – Значит, солдат и привел? – спрашиваю. – Зачем, – поясняет извозчик, – все знают, как этот дом Гинзбургу достался… А вон тот, где крыша рухнула, жиды зажигать хотели. Зуб за зуб по-жидовски, значит… Татарина-огородника дом… Жиденята у него овощи крали, он их высек, они его и спалили… – А почему же не судили еврея за поджог, – спрашиваю. – Их осудишь, – с недоверием говорит извозчик, – да и доказательств не было. – Так, может, не евреи спалили, – задаю испытывающий вопрос. – Ну как же не евреи, если ночью загорелось… С сарая загорелось… – Значит, татарин привел? – Нет, татарин уехал в свою сторону. Мы сами жидам этот грех вспомнили. Старый жид плакать. Вот смех. А ему в ухо да в ухо…
Когда Надежда Степановна закончила чтение своих записок, встал Павел Яковлевич и сказал:
– Из всех приведенных здесь фактов, господа, не следует делать вывод, что русский народ – враг царя и властей. Он выступает против тех или иных правительственных чиновников лишь там, где эти чиновники, связанные взятками с еврейскими гешефтмахерами, действуют в защиту своих антинародных интересов вместе с евреями. Но и тогда народ помнит о государе. Известен такой случай: когда толпа ворвалась в дом богатого еврея, где висел портрет покойного государя Александра II, то она стала громить лишь после того, как портрет был снят со стены и передан на хранение дворнику. К тому ж сообщения о грабежах преувеличены. Толпа громила, но не крала. Надо, однако, признаться, что бабы действительно шли за толпой и брали… Когда им активисты пытались разъяснить неправильность поведения, они отвечали: зачем зря добру пропадать… Конечно, повторяю, мы не одобряем положения, когда каждый, взяв в руки палку, становится капралом. Но войск было мало, а юнкера были заняты экзаменами. Тем не менее во время особенно, казалось, сильных беспорядков избито было не более тридцати человек, убито пять. Незначительное количество избитых и убитых объясняется тем, что евреи, благодаря своей пантофельной тайной почте и всемирному своему израильскому союзу, были заранее предупреждены и мгновенно прятались, кто в погреб, кто на чердак, кто вовсе выбирался из города. А теперь, когда все стихло, вернулись и опять запрудили улицы… Что касается еврейских детей, то они практически не пострадали. Дети с чрезвычайной осторожностью выводились и выносились из домов с помощью родителей, прежде чем имущество евреев, да и самих евреев-родителей, начинали бить и громить…
Надо заметить, что если выступление Надежды Степановны был пламень, то выступление Павла Яковлевича – лед, как это вообще водится в их взаимоотношениях. Выступление Павла Яковлевича было более умеренным, но и менее живым и ясным. Чувствовалось, что говорит он с чужих слов либо по несвежим своим впечатлениям. Тем не менее оба выступления дополнили друг друга и позволили сделать Генрици вывод:
– Слушая русских делегатов, лишний раз убеждаешься в справедливости слов Дюринга, что насилие вообще и насилие против еврейского врага в частности только тогда по-настоящему плодотворно, когда оно отказывается от анархической бессистемности, как бы искренни ни были народные стремления, и опирается на твердые понятия социалистической морали и социалистического права…
Шестнадцать лет спустя, когда салонный французский антисемитизм со своим национальным запахом смоченных дорогими духами потных подмышек вырвался на парижские мостовые и толпа орала: «Смерть Дрейфусу! Готовьте виселицы для Израиля! Смерть Золя!» – один из французских социалистов сказал: «Золя – буржуа. Нельзя же нашей партии идти на поводу у буржуазного писателя». Тогда социалист Жюль Гед с горечью ответил своему коллеге по социалистической партии: если мы когда-нибудь возьмем власть, сможем ли мы что-либо сделать с опустившимся народом, развращенным существующими порядками…
Жюлю Геду было от чего прийти в отчаяние, ибо он понял, что антисемит-погромщик является составной частью революционной массы, на которую приходится опираться социализму любого направления. И действительно, как бы ни пытались классовые социалисты и либералы-гуманисты каждый со своей стороны представить рост антисемитизма в России, например, в 1881 или в 1905 году, главным образом как реакцию правительства на революционные выступления масс и попытку отвлечь эти массы от революции, в действительности рост антисемитизма является как раз составной частью революционных масс и антисемитизм всегда растет вместе с революционным энтузиазмом толпы. Правительство может лишь использовать этот энтузиазм в своих интересах. Это, кстати, соответствует весьма точному определению, которое дал антисемитизму Энгельс: «народное суеверие». Выступление рабочих и крестьян, особенно в западных губерниях, как правило, было связано с антисемитскими погромами.
Всякая устойчивая власть по своей сути консервативна, народ же по своей сути революционен, но процесс этот взаимосвязан. Чем более консервативна и твердолоба власть, тем более революционен народ, и наоборот, чем консерватизм более гибок, тем народ менее революционен. Идет борьба. Либо власть путем умелой, гибкой политики распространяет консерватизм на народ, либо народ революционизирует твердолобую власть, делает ее менее устойчивой, более авантюристической. Такая революционно-авантюристическая власть воцарилась в России накануне революции. Это можно проследить по ряду ее действий, но если уж держаться нашей темы, то это видно по изменившемуся взаимоотношению между властью и народом во время антисемитских погромов. Ярким примером может служить совершенный на «святую православную пасху» кишиневский погром 1903 года, или, как его назвал Толстой, «злодейство, совершенное в Кишиневе». Вот что пишет Л. Толстой:
«Я понял весь ужас совершившегося и испытал тяжелое смешанное чувство жалости к невинным жертвам зверства толпы, недоумение перед озверением этих людей, будто бы христиан, чувство отвращения и омерзения к тем так называемым образованным людям, которые возбуждали толпу и сочувствовали ее делу, и главное, ужас перед настоящими виновниками всего – нашим правительством со своим одуряющим и фантазирующим людей духовенством и со своей разбойничьей шайкой чиновников…»
Кишиневский погром ясно продемонстрировал, на что способен опустившийся народ, развращенный существующими порядками. Разорванные пополам младенцы, гвозди, вбитые во лбы жертв, языки, отрезанные у жертв и вставленные им в расстегнутые штаны, и прочие народные фольклорные фантазии… Все это совершалось при попустительстве власти, полиция и чиновники которой выступали в роли зрителей кровавой оперетки и при активном руководстве так называемых «образованных людей», вызывающих у Л. Толстого омерзение. И действительно, руководство погромом взял на себя православный разночинец-интеллигент. Студенты, учителя и чиновники, гимназисты на велосипедах объезжали погромные толпы, руководя ими и создавая общий тактический план. Это было уже ближе к замыслам г-на Дюринга, это был шаг вперед от патриархальных наивных погромов 1881 года, когда погромщики, прежде чем начать бить родителей, помогали родителям выносить в безопасное место детей. Но все-таки это еще не соответствовало подлинным идеям социалистического насилия. Ибо практические насилие Дюринга требует опоры на теоретически обоснованные мораль и право. Ну а труд по обоснованию такой морали и такого права, разумеется, Дюринг берет на себя. Но создание всякой теории, в том числе и теории погромов, как мы знаем, требует метода. Каков же метод расового социалиста Дюринга?
«Метод его, – пишет Энгельс, – состоит в том, чтоб разлагать каждую группу объектов познания на их якобы простейшие элементы, применять к этим элементам столь же простые, якобы самые очевидные аксиомы и затем оперировать добытыми таким образом результатами».
«Вопросы из области общественной жизни следует решать аксиоматически, – заявляет Дюринг, – на отдельных простых основных формах, как если бы дело шло о простых формах математики». «И таким образом, – иронизирует Энгельс, – применение математического метода к истории, морали и праву должно и здесь обеспечить нам математическую достоверность добытых результатов, должно придать этим результатам характер подлинных, неизменных истин».
И действительно, отрезанные языки и вбитые в живое тело гвозди еще могут опираться на расхожие эмоциональные лозунги, но отравление в камерах газом миллионов уже не может обойтись без «подлинных неизменных истин». Кто же помогает найти Дюрингу эти истины и передать их в дальнейшее пользование немецким и прочим философам действительности? Два мужа, о которых мы уже упоминали и которые служат Дюрингу простейшими элементами в его арифметических расчетах морали и права.
«Эти два призрака, – пишет Энгельс, – должны, разумеется, делать все, что от них потребует их заклинатель». То есть г-н Дюринг. В первом своем арифметическом расчете Дюринг вполне в духе человеколюбия, гордости человеческим званием и прочими побрякушками, которыми любят позванивать подобные господа, доказывает идею полного равноправия «обеих воль», «общечеловеческой суверенности», «суверенности индивида». Мы не будем останавливаться на этих расчетах, подобные которым можно найти в любых декларациях современного общественного гуманизма, отправной точкой которого служит величие человека. Итак – «человек – это звучит гордо», как сказали г-н Дюринг и Максим Горький. Более того, «итак, мы все теперь совершенно равны и независимы, – как добавляет Фридрих Энгельс, – все ли? Нет, все-таки не все». Дело, оказывается, не в теореме, где Дюринг крайне гуманен, но крайне неоригинален и стоит в одном ряду со знаменитыми гуманистами, обожествившими человека. Дело в отступлениях от теоремы, то есть не в правилах, а в исключениях, которые и создают моральную и правовую основу теории насилия г-на Дюринга.
Отступление номер один. «Там, где в одном лице соединены зверь и человек, можно поставить от имени второго вполне человеческого лица вопрос, должен ли его образ действия быть таким, как если бы друг другу противостояли, так сказать, только человеческие личности… Поэтому наше предположение о двух морально неравных лицах, из которых одно причастно в каком-то смысле к собственно звериному характеру, является типической основной формой для всех тех отношений, которые могут, согласно этому различию, встречаться внутри человеческих групп и между такими группами».
Прочтя это отступление номер один, Энгельс спрашивает у Дюринга: «Как далеко может пойти человечный человек против человека-зверя, как далеко может он применять по отношению к последнему недоверие, военную хитрость, суровые и даже террористические средства, а также обман, – нисколько не поступаясь при этом обыкновенной неизменной моралью?» Так спрашивает Энгельс. Но нам, которые старше Энгельса на целый век, не о чем спрашивать г-на Дюринга.
Отступление номер два. «Если один поступает сообразно с истиной и наукой, а другой сообразно с каким-либо суеверием или предрассудком, то… как правило, должны возникнуть взаимные трения… При известной степени неспособности, грубости или злых наклонностях характера всегда должно последовать столкновение… Насилие является крайним средством не только по отношению к детям и сумасшедшим. Характер целых естественных групп людей и целых культурных классов может сделать неизбежной необходимостью подчинить их враждебную, вследствие своей извращенности, волю с целью ввести ее в рамки общежития. Чужая воля признается равноправной и в этом случае, но вследствие извращенного характера ее вредной и враждебной деятельности она вызывает необходимость выравнивания, и если она при этом подвергается насилию, то пожинает лишь отраженное действие своей собственной несправедливости».
По этому поводу Энгельс замечает, что социалист Дюринг таким образом оправдывает любые колониальные зверства «вплоть до зверств русских в Туркестане, когда генерал Кауфман летом 1873 года напал на татарское племя иомудов, сжег их шатры и велел изрубить их жен и детей». При этом «Политиздат» очень мягко, деликатно косвенно несколько поправляет Энгельса, указывая в примечаниях, что «основным источником, из которого Энгельс заимствовал данные об этих событиях, явилась, очевидно, книга американского дипломата в России Юджина Скилера «Туркестан. Заметки о путешествии в русский Туркестан – Коканд, Бухару и Кульджу»». Энгельс, естественно, продолжает полемику не со своим посмертным издателем – «Политиздатом», а по-прежнему с г-ном Дюрингом. «Но только он (Кауфман) не был настолько жесток, чтоб вдобавок еще глумиться над иомудами и говорить, что истребляет их в целях морального выравнивания».
В этом существенная разница между насилием старым, берущим свое начало от Каина, и насилием новым, современным, берущим свое начало от философов действительности конца XIX – начала XX века.
«В этом конфликте, – пишет Энгельс, – люди избранные, поступающие якобы сообразно с истиной и наукой, – следовательно, в конечном счете философы действительности, – призваны решать, что такое суеверие, предрассудок, грубость, злые наклонности характера, а также решать, когда именно необходимы насилие и подчинение в целях выравнивания. Равенство, таким образом, превратилось теперь в… выравнивание путем насилия, и первая воля признается равноправной второй путем ее подчинения». И наконец, в отступлении номер три Дюринг, как пишет Энгельс, «сам разрушает столь аксиоматически установленное равенство… Он, ухитрившись построить общество с помощью двух мужей, вынужден, однако, для конструирования государства привлечь еще третьего, ибо, – вкратце излагая дело, – без этого третьего не могут состояться никакие постановления большинства, а без таких постановлений, следовательно, также без господства большинства над меньшинством – не может существовать государство… Он (Дюринг) сворачивает в спокойный фарватер конструирования своего социалитарного государства будущего, где мы еще будем иметь честь навестить его в одно прекрасное утро».
Эти последние строки Энгельса относятся ко времени, когда он еще не успел посетить хозяйственные коммуны, социалистическое планирование и прочие элементы социалитата. Мы, согласно нашему изложению, благодаря Энгельсу там уже побывали. Тем не менее мы будем ждать новых встреч и с другими важными элементами социалистического государства будущего, с его культурой, с его конституционным устройством, с его представлениями о социалистической семье. Разумеется, Энгельс, как классовый социалист и диалектик, заявляет, что вслед за «буржуазным требованием уничтожения классовых привилегий выступает пролетарское требование уничтожения самих классов», и тут же попадает в ловушку, которую готовит всякому диалектику Абсолют. «Требование равенства, – пишет Энгельс, – сводится к требованию уничтожения классов. Всякое требование равенства, идущее дальше этого, неизбежно приводит к нелепости. Мы уже привели примеры подобных нелепостей, и нам придется еще указать немалое число их, когда мы дойдем до фантазий г-на Дюринга относительно будущего».
Энгельс, однако, не указывает нам (и как диалектик не может указать), где та точка, на которой могут остановиться требования классового равенства, то есть где они могут остановиться как процесс, не приведя к материализации «фантазии г-на Дюринга». Тем более что сам Энгельс несколько ранее указывает нам на опасное идеологическое орудие, с помощью которого г-н Дюринг и прочие философы действительности могут миновать (а мы знаем, что даже миновали) эту благоразумную точку классового равенства, на которой призывает остановиться Энгельс.
«Сперва из предмета, – пишет Энгельс, – делают себе понятие предмета. Затем переворачивают все вверх ногами и превращают отражение предмета, его понятие, в мерку для самого предмета. Теперь уже не понятие должно сообразовываться с предметом, а предмет должен сообразовываться с понятием». Далее Энгельс задает вопрос: «Что происходит, когда подобного рода идеолог конструирует мораль и право не из действительных общественных отношений окружающих его людей, а из понятий, или из так называемых простейших элементов «общества»?» Мы на этот вопрос ответ знаем. Мораль подменяется понятиями г-на Дюринга и прочих философов действительности о морали, право – их понятиями о праве, социализм – их же понятиями о социализме. Конечно, всякая идеология и всякая политическая система не свободна от извращений и подмен предмета понятием о предмете. Но именно поэтому Энгельс указывает на важнейшие достижения буржуазного развития, которое является наиболее эффективным способом борьбы с подобными подменами понятий, где бы они и при какой бы политической системе ни происходили. «Требование равенства, – пишет Энгельс, – приняло всеобщий, выходящий за пределы отдельного государства характер. Свобода и равенство были признаны правами человека». Причем «права человека» Энгельс выделяет курсивом. То есть свобода и равенство есть не то, что устанавливает для человека то или иное государство или общество, как было при феодализме, а то, что принадлежит человеку независимо от того, в каком государстве или в каком обществе он бы ни жил, как принадлежит ему собственное тело и собственная душа. Это величайшее достижение буржуазного общества, величайшее достижение буржуазной революции, и само буржуазное общество, невзирая на все свои извращения, неспособно это изменить. Таким образом, теперь, когда у нас сложилось более или менее полное впечатление о той социалистической морали и социалистическом праве, которые имел в виду г-н Генрици, мы можем вернуться в зал конгресса и послушать на этот счет новые соображения наших антисемитов.
XIV
Кульминацией русского дня конгресса, его выдающимся актом послужила резолюция, которую от имени Постоянного комитета конгресса зачитал Пинкерт.
«Конгресс выражает полное согласие и сочувствие, – торжественно произнес Пинкерт, – всем русским деятелям, которые защищают христианское население от эксплуатации евреев. Конгресс выражает соболезнование страданиям русских братьев, сочувствует попыткам ограждения их от эксплуатации евреями и сожалеет о недостаточности и непрочности этих попыток. Конгресс намерен разослать это заявление всем генерал-губернаторам и губернаторам губерний, населенных евреями, или тех губерний, где они пытаются поселиться».
Я выступил с ответным словом от имени русской делегации. Прежде всего я внес в резолюцию поправку, предлагающую разослать заявление конгресса о России не только генерал-губернаторам и губернаторам, но в особенности земствам тех губерний, где проживают евреи. После того как поправка эта была принята единогласно, я заявил:
– Для того кто жил по нашу сторону русской границы, особенно в последнее время, выражение теплых чувств к России само по себе представляет предмет удивления, которое увеличивается еще тем, что огромное большинство членов конгресса принадлежит к народу, уже давно и систематически натравливаемому евреями на Россию, – германцам. Остальные же – австро-немцы и мадьяры, при помощи евреев господствующие над славянами и воспитанные в потомственной ненависти к России. Можно сказать, что ни в средней, ни в западной Европе не нашлось бы никакого собрания от дипломатического до народного, которое почувствовало бы потребность и возымело смелость решиться на заявление сочувствия России. Это сделали германские, австро-немецкие и мадьярские националисты-патриоты. Это показывает столь же их силу убеждения, как и самостоятельность характера и нравственное мужество. От имени русской делегации я хочу заявить: первый антисемитический международный конгресс действительно чувствует себя международным, и он оказался на высоте своего призвания…
Выступление мое было встречено долгими теплыми аплодисментами, которые еще раз подчеркнули международную европейскую поддержку нашей русской борьбе с еврейскими эксплуататорами. После меня с краткой речью-справкой выступил Путешественник. Он сказал:
– Первое избиение евреев в Киеве было в 1092 году, то есть почти восемьсот лет назад. И за восемь веков это отношение к евреям не изменилось. То, что ранее могло быть названо суеверием и народной дикостью, повторяется в культурных странах: и у нас, и в Австрии, и в Германии.
Председатель антисемитского форейна портных Лацарус напомнил о событиях, не так давно произошедших в Германии.
– С наступлением маневров германской армии, – сказал он, – выступление народа против евреев всегда возобновляется, так как города остаются без гарнизонов. В городе Штольце толпа рабочих и подмастерьев собралась на рыночной площади с криком:
– Juden, raus!
– Они кинулись на еврейские лавки, которые считают источником своих бедствий… Но, очевидно, по предложению своих еврейских советников правительство Бисмарка специально оставляет в городах воинские команды… Войска дали залп. Площадь покрылась убитыми и ранеными. Среди убитых, господа, было несколько женщин. Вмешательство войска и пролитие христианской крови произвело самое ободряющее действие на евреев. Они начали кидать в толпу из окон чем попало, обливали народ помоями, издевались… В ответ возникали баррикады, взвились красные флаги… Так в Штольце войска императора и евреи сражались против христианского населения…
– Только социализм, – в который раз, не боясь повторений, бросил с места Генрици, – может успешно справиться с еврейской проблемой.
– Но социалистами у нас в России, – заявил я, – ошибочно считают интеллигентов, прошедших курс политических наук в кафе и ресторанах Парижа и Вены и напяливших на себя штаны цивилизованного человека… Нет, социалисты не они, социалисты мы, русские патриоты-антисемиты. Разве мы не горюем о голоде крестьян, о рабочих в сырых подвалах, о бедствиях чиновничьей мелкоты…
Это мое выступление весьма содействовало моему личному сближению с Генрици, и вскоре между нами состоялась плодотворная частная беседа. Хотя, надо признаться, при всем моем глубоком уважении к этому выдающемуся деятелю международного антисемитизма, люди мы разные и никогда б не могли так коротко сойтись, как я сошелся с Виктором Иштоци. Кстати, об Иштоци и о его манифесте у нас и был разговор.
Встретились мы с Генрици случайно и в месте весьма любопытном. Заседания конгресса происходили иногда в первой, иногда во второй половине дня, и свободное время каждый делегат использовал по своему усмотрению. Я уже успел несколько раз посетить королевскую картинную галерею с ее великолепной «Сикстинской Мадонной» Рафаэля… С радостью останавливался я всякий раз также перед картинами Мурильо, Корреджо, Баттони, Рембрандта, Ван Дейка. Несколько раз в картинной галерее я встречал Ивана Шимони, друга Иштоци, большого ценителя искусствa, многосторонне образованного человека и редактора крупнейшей антисемитской газеты Венгрии.
– Когда-нибудь, – шепнул он мне, восторженно глядя на шедевр Тициана «Христос с монетой», – когда-нибудь все это будет принадлежать народу…
Но Генрици я ни разу в картинной галерее не встречал. Встретился я с ним в зале Дрезденского суда на весьма любопытном процессе. Должен сказать, что судебная медицина и психастения (psychasthenia) являются моим давним увлечением, и я был рад, что с доктором Генрици у нас обнаружился общий интерес, который помог нам сблизиться. Сидя в зале суда, доктор Генрици делал какие-тo зарисовки, чертил схему и вел записи своим быстрым мелким почерком. Видно было, что здесь он человек свой. С ним здоровались судебные чиновники, и он подолгу беседовал в перерыве с судебным экспертом, строгим, выхоленным господином, своей важностью напоминающим мне почему-то наших русских провинциальных провизоров.
Процесс был не только любопытен, но, я бы сказал, уникален. Преступник – мальчик двух лет девяти месяцев. Малютка Альфред обвинялся в убийстве ребенка моложе его на одиннадцать месяцев. Еще раньше в нем была замечена страсть мучить маленьких детей. На сей раз он зашел так далеко, что напал на свою жертву на улице, повалил ее и убил куском свинца, проломив череп. Детская курточка этого калибана в миниатюре, забрызганная кровью, фигурировала в качестве вещественного доказательства. Мать призналась, что у него дурные свойства и у нее нет сил с ним управляться, хотя он говорить еще не умеет. Суд признал, что малютка слишком мал, чтобы на него была возложена ответственность. Во время судопроизводства этот малютка внезапно схватил протокол осмотра трупа и швырнул его на землю. Весьма вероятно, что умственное состояние этого юного чудовища отнюдь нездоровое. Нельзя без ужаса подумать о его будущем, так как он носит зародыш болезненной страсти к убийству.