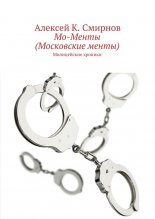Солдат великой войны Хелприн Марк

— Ничего.
— У тебя нет еды?
— Еды? — Юноша подпрыгнул и сделал в воздухе полный оборот, показывая, что ничего не скрывает. — Я не ношу с собой еду. А вы?
Старик сошел с обочины и присел на валун.
— А я ношу. — Он открыл «дипломат». — Хлеб и по полкило прошутто, сухофруктов и полусладкого шоколада. Нам понадобится много воды. Жарко.
— В городах, — предположил Николо.
— По пути лишь несколько городов, но между ними будут родники. Мы найдем воду, как только доберемся до холмистой местности.
— Нам не нужна еда. Как только придем в город, сможем поесть там.
— До ближайшего города пятнадцать километров, — возразил старик, — и хожу я медленно. Когда мы туда придем, на небе уже появятся звезды, а все окна и двери мы найдем плотно закрытыми. Хотя мы не сможем поесть в городах, этой еды нам вполне хватит. Ты бы удивился, узнав, как много калорий сгорает при ходьбе.
— А где мы будем спать? — поинтересовался Николо.
— Спать? — переспросил Алессандро, и одна кустистая седая бровь поднялась так высоко относительно другой, что на миг возникло впечатление, будто он попал в автомобильную аварию, да так до конца и не поправился.
— Мы что, не будем спать ночью?
— Нет.
— Почему нет?
— На семидесятикилометровом марше нет необходимости.
— Необходимости, может, и нет, но почему бы не поспать? Кто говорит, что не надо спать?
— Если ты спишь, значит, настроен недостаточно решительно. Тебя унесут сны, ты пропустишь грезы и просто оскорбишь дорогу.
— Не понимаю.
— Смотри, — Алессандро сжал запястье Николо. — Если я решаю, что иду в Монте-Прато, в семидесяти километрах этот город или нет, я иду в Монте-Прато. Ничего нельзя делать наполовину. Если любишь женщину, так любишь всем сердцем и душой. Отдаешь все. Не сидишь в кафе, не занимаешься любовью с другими женщинами, не принимаешь ее как само собой разумеющееся. Понимаешь?
Николо помотал головой, показывая, что нет. У него возникло ощущение, что совместного похода со стариком, скорее всего, не получится, что старик, возможно, сбежал из дурдома или, что еще хуже, каким-то образом до сих пор избегал дурдома, где ему самое место.
— Бог одаривает все свои создания, — продолжал Алессандро, — независимо от их положения и обстоятельств их жизни. Может дать невинность безумцу и небеса — вору. В отличие от большинства теологов, я всегда верил, что даже у червей и ласок есть души, и спасение касается их в полной мере. Бог не дает только одного, того, что надо заработать, того, о чем человек ленивый никогда даже не узнает. Называй это пониманием, благодатью, возвышенностью души… называй, как хочешь. Это приходит только с работой, жертвенностью и страданием. Ты должен отдавать все, что у тебя есть. Любить до изнеможения, работать до изнеможения, шагать до изнеможения. Если я хочу дойти до Монте-Прато, я иду в Монте-Прато. Я не топчусь на месте, как какой-нибудь говнюк с десятком чемоданов, который едет на воды в Монтекатини. Такие люди постоянно подвергают душу смертельной опасности, представляя себе, что они вправе это делать, тогда как в действительности единственная смертельная опасность для души — слишком долго оставаться без нее. Этот мир полон огня.
Поучения Алессандро принесли результат: Николо начал проникаться идеей. Внезапно подхваченный вихрем эмоций и мечтами, он за пару минут определился со своей судьбой и заявил, что пойдет в Сант-Анджело, и в Монте-Прато, и готов идти даже вдвое, втрое дальше, пока не загонит себя чуть ли не до смерти. Его лицо, смуглое, широкое, с волчьими глазами, изогнутыми губами и острым носом, напряглось от решимости.
Алессандро отпустил его запястье и поднял палец.
— Конечно, нельзя забывать об отдыхе. — Тень проскользнула по лицу юноши, его словно выбросило из транса. — Существует время для сна, бездельничанья, мечтаний, недисциплинированности, даже летаргии. Ты сам узнаешь, когда это заслужишь. Такое время обычно наступает, когда ты уже совершенно разбит. Я говорю о беспомощном спокойном состоянии перед великим пришествием зари.
— Зари?.. — в недоумении повторил Николо.
— Да, — кивнул Алессандро, — зари. Скажи, какие у тебя стопы?
— Стопы?
— Да, стопы, которыми заканчиваются твои ноги.
— У меня обычные человеческие стопы, синьор.
— Разумеется, но существует два типа стоп. Каждая армия это знает, но не признает из страха потерять призывников. Ты можешь быть высоким, красивым, умным, элегантным и одаренным, но, если у тебя стопы отчаяния, ты все тот же карлик, который чистит обувь на виа дель Корсо. Стопы отчаяния слишком нежные и не могут дать отпор. При долгой атаке сдаются. Кровоточат. Инфицируются и распухают за какие-то полчаса. Я видел, как люди снимали высокие ботинки после марша, продолжавшегося менее дня, и их стопы напоминали окровавленную губку, мягкую и бесформенную, прямо как тушки освежеванных животных. И есть стопы неуязвимости. Самый яркий пример — крестьяне, живущие в горах Южной Америки. Стороннему наблюдателю может показаться, что на них старые запылившиеся сапоги, но на самом деле они ходят босиком. Стопы неуязвимости уродливые, но они не страдают, и их ничто не берет: они возводят укрепления, когда их атакуют, меняют цвет, форму, перестраиваются, пока не обретут сходства с бульдогами. Они не кровоточат и не чувствуют боли. В первые же дни, попав в армию, ты осознаешь, что люди делятся на два класса, какими бы ни были их отличия. Так какие у тебя ноги?
— Я не знаю, синьор.
— Сними ботинки.
Николо уселся на землю и развязал шнурки. Снял ботинки, потом носки, улегся на спину и поднял ноги, чтобы Алессандро мог осмотреть его ступни.
Старик сначала сосредоточился на подошве, коснулся кожи у пятки, перешел к пальцам.
— Если объективно, стопы у тебя отвратительные и неуязвимые. Обувайся.
— А ваши стопы, синьор? Неуязвимые?
— Чего спрашивать?
Николо действительно мог бы и не спрашивать, потому что заметил, что у Алессандро шрамы даже на ладонях.
Потом Алессандро провел инвентаризацию «дипломата». Первые предметы Николо совсем не порадовали: это были лямки, которые цеплялись к «дипломату», чтобы нести его на спине, как ранец.
— Возьми. — Голос Алессандро звучал буднично, без просительных интонаций. — Понесешь до Сант-Анджело. Ты молодой. — Затем появился карманный нож, очень острый и очень старый, с кремнем в рукоятке. — Кремень, как видишь, вынимается, — пояснил Алессандро. — Если ударить им по торцу рукоятки, высечется искра. На время отдыха нам, возможно, понадобится костер, чтобы не замерзнуть.
— В августе? — удивился Николо.
— Чем выше поднимаешься в горы, тем холоднее, даже в августе.
За свертками с едой последовала карта. Алессандро пояснил, что наличие карты местности, куда он направляется, давно уже стало для него навязчивой идеей. Ему нравится знать, в какой точке мира он находится и что его окружает. Карта, заявил он, для него что Библия для священника, книга для интеллектуала и т. д.
По карте среди гор, рек, равнин и поселений, слишком маленьких, чтобы их названия попали на карту, они нашли четыре города, расположенных вдоль дороги, которые могли послужить для них маяками. Алессандро знал, что ночью они будут сверкать и сиять. В кромешной тьме их редкие огни, простые и чистые, будут приносить куда больше пользы, чем объединенная фосфоресценция мегаполиса.
Здесь, стал он показывать по карте, они смогут остановиться и поесть, если проголодаются и не поедят раньше. Отсюда увидят Рим, оставшийся далеко позади, расположенный ниже и сверкающий огнями. Тут не увидят городков, не увидят спрятанного горными склонами Рима, будут смотреть только на звезды и на луну, которая не просто взойдет в эту ночь, но будет сиять во всей красе, потому что сейчас полнолуние. А здесь они свернут с шоссе и по горной дороге направятся к Сант-Анджело и к расположенному еще дальше Монте-Прато.
Алессандро сказал, что идти им предстоит всю ночь, весь следующий день, еще одну ночь и начало утра. Погода обещала быть ясной, и луна послужит им фонарем.
Для Николо Сант-Анджело и Монте-Прато уже превратились в нечто большее, чем горные городки на маршруте троллейбуса-автобуса. Теперь они казались далекими, прекрасными и загадочными. Прежде чем добраться до них, Алессандро Джулиани с Николо предстояло долго-долго шагать, миновав по пути Ачерето, Ланчиату и, возможно, еще пять-шесть городов с красивыми названиями, окруженных плодородными полями и рощами деревьев, кроны которых будут покачиваться на фоне голубого неба. Они двинулись по пустынной дороге и, возможно, потому, что мир вокруг них затих, тоже молчали.
Алессандро Джулиани был убежден: если в путешествии все гладко и хорошо, побудительная сила и спокойствие пешего хода или поездки затеняют то, что осталось позади или ждет впереди. Отсутствие задержек само по себе повод для эйфории.
Однажды на лекции он мимоходом озвучил эту мысль и нарвался на резкий вопрос студента, который хотел знать, считает ли уважаемый профессор, что человек, приговоренный к смерти и совершающий последний путь к виселице, может ощущать эйфорию.
— Не знаю, — ответил тогда Алессандро. — Обычно путь к виселице недостаточно долог, чтобы считаться путешествием, но давайте предположим, для примера, что приговоренного к смерти везут из одного конца страны в другой, где его должны казнить, и его путешествие займет несколько дней или даже недель.
— Такое бывает? — спросил студент.
— Да, — кивнул Алессандро. — Да, такое бывает. И в этом случае, — продолжал он, — человек может ощутить самую сильную эйфорию и самое жестокое отчаяние… то есть, до того как обрести вечность в раю или аду, он получит представление и о первом, и о втором.
— Не понимаю. Эйфория у человека, приговоренного к смерти?
— Радость, безумная радость, видения, эйфория… — Последовала долгая пауза, студенты застыли, словно их взяли на мушку невидимые стрелки, а профессор не мог продолжать лекцию из-за нахлынувших воспоминаний, заставивших его забыть, где он и что делает.
Даже прогулка по городу приносила маленькие радости и горести, которые, правда, не шли ни в какое сравнение с тем, что он испытывал в путешествии, длящемся дни или недели, но тем не менее как-то с ними соотносились. Масштаб мог меняться, но характер этих радостей и горестей — нет. Николо ожидал, догадался Алессандро, что этот пеший поход станет в общий ряд сложностей жизни. А почему бы и нет? Несмотря на разнообразие впечатлений, личный опыт раз двадцать показывает четырнадцатилетнему подростку, что жизнь ошеломительная и сложная, и только он, этот опыт, является великой силой, которая движет его вперед и придает энергию, которая потребуется ему до конца жизни, и обеспечивает необходимую стойкость к ударам судьбы, к которым приводит юношеская глупость и неумеренность. Николо бежал бы за автобусом не только до Ачерето, но, если бы не догнал его там, до Ланчиаты, а, возможно, и до Сант-Анджело. Он полагал, что мир совершенно однороден.
Николо бы горько разочаровали промедления и затруднения, но Алессандро научился любить их, пожалуй, даже сильнее, чем любил быстроту и легкость. Ему казалось, что первые не так уж далеко отстоят от вторых, более того, они заключили тайный союз и пожимают друг другу руки под столом.
Николо еще не мог знать всего этого и, скорее всего, тревожился бы все сильнее по мере того, как дорога становилась темнее и круче. Алессандро не нравилось, что они отправились в путь, окруженные таким великолепием: чуть покачивающимися деревьями, напоминающими океанские волны, яркими в предвечернем освещении цветами, когда садящееся солнце превратило восток в лишенное тени совершенство ровно пульсирующего света, легкой дымкой, какая появляется с приближением вечера, сухой и обещающей прохладу пшеницей, которую ветер шевелил медленно, будто корабль в арктических водах, нахлынувшими воспоминаниями, вызванными этой красотой, звенящей и поющей, пока внезапно во всем своем исступленном множестве не растворились в невероятно ярком свете, смотреть на который было уже просто невозможно.
Николо понятия не имел, что все не так уж и хорошо. Он не ожидал ничего, кроме прекрасной погоды, ровной дороги, солнца, бившего в спины. Его удивляло молчание Алессандро, он с самого начала предполагал, что дорога будет устлана словами, раз уж старик вышел из автобуса ради него. Да и с первых фраз он разжег любопытство Николо, упомянув про поход по ледяным полям. А старики, хотя и перескакивают с одного на другое, да и капризны, иногда рассказывают отличные истории. И этот, с гривой роскошных седых волос, в отлично сшитом костюме, с тонкой бамбуковой тростью и благородной осанкой, какую Николо видел только… ладно, никогда не видел… несомненно, мог бы много чего рассказать.
Ему хотелось, чтобы Алессандро говорил без остановки и потчевал его историями, которые произошли до его появления на свет. Он бы слушал с живым интересом, и не потому, что представлял себе, о чем старик будет вещать. Наоборот, он понятия не имел, что можно услышать от этого человека, который хромал рядом с ним по дороге в Сант-Анджело и Монте-Прато.
Николо и не подозревал, что Алессандро знал, чего именно ждет от него молодой человек, и (до того, как Николо каким-то образом намекнул на свои пожелания) счел эти ожидания оскорбительными.
В конце концов, Алессандро Джулиани заплатил более чем достаточно за право говорить и писать, когда ему самому захочется. С чего это юноша решил, что он будет болтать без умолку? Почему он думает, что старик, столько повидавший, всю жизнь сражавшийся с великими силами и доживший до столь почтенного возраста, тонко чувствующий и познавший красоту как природы, так и женщин, вообще захочет что-то ему говорить? Так что много километров они прошагали по прямой дороге в абсолютном молчании.
Николо с трудом верилось, что Алессандро не может идти быстрее, возможно, потому что мельтешение трости и подпрыгивающая походка создавали иллюзию, будто идет он быстро-быстро. На продвижение вперед Алессандро тратил столько энергии, казалось, мог обогнать газель. На самом деле он шел медленно.
Николо, от которого ходьба вообще не требовала усилий, хотелось бежать или карабкаться по отвесному склону.
— Что это? — спросил он, указав на земляной холм посреди поля. И тут же помчался к нему с «дипломатом» за плечами, перепрыгивая через ирригационные канавы. Потом вернулся по маленькой дамбе, у которой плескалась вода.
— К чему отклоняться от курса? — поинтересовался Алессандро.
Николо пожал плечами.
— Знаешь, когда-то у меня была собака, — продолжал старик. — Большой черный английский пес по кличке Франческо. Всякий раз, когда я брал его на прогулку, он пробегал раза в три больше, чем я.
— Зачем вы мне это говорите? — удивился Николо.
— Сам не знаю, — ответил Алессандро и всплеснул руками, как бы демонстрируя недоумение. — Вдруг вспомнилось.
— Этот пес до сих пор у вас?
— Нет, это было очень давно. Он умер, когда я жил в Милане, но иногда я думаю о нем, а на занятиях часто привожу в пример.
— Вы учитель? — спросил Николо, которому стало явно не по себе: в школу он никогда не ходил, а учителей считал опасной разновидностью монахов.
Алессандро оставил вопрос без ответа. Солнце висело совсем низко, окрасив мир в теплые золотистые тона, а от Ачерето их все еще отделяли десять километров. До наступления темноты оставалось не так уж много времени. Старик не хотел растрачивать энергию, он начал согреваться, ощущая силу и спокойствие. И не хотел их спугнуть, потому что спокойствие понесло бы его вперед, будто он находился в трансе.
Они шли молча, пока Николо не начал пританцовывать.
— У тебя так много энергии, что ты не можешь сдержаться, да?
— Не знаю.
— Превосходно. Мне бы твою силу, так я объединил бы Европу за полторы недели.
— Вы тоже были молодым, — напомнил Николо. — Почему же тогда не объединили Европу?
— Слишком много времени отнимали мысли о девушках и еще альпинизм.
— И где вы лазали по горам?
— В Альпах.
— С веревками и все такое?
— Ну да.
— И как вы это делали? Однажды я видел фильм, в котором парень упал. Вы бросали веревку, чтобы зацепиться за скалу, или как?
— Нет. Все было иначе, но, если я попытаюсь объяснить, начну задыхаться при ходьбе.
— Вы учитель. Учителя должны объяснять.
— Только не на длинном марше.
— А чему вы учите?
— Эстетике.
— А кто они такие? — спросил Николо. Ему послышалось «эстетики», и он предположил, что это послушники в каком-то монашеском ордене.
— Ты хочешь спросить, что это. Второй человек задает мне сегодня этот вопрос. Ты уверен, что хочешь услышать ответ? Если я скажу, твой кальмар умрет.
Николо снова подумал, что старик тронулся умом.
— Его привезли аж из Чивитавеккьи. — Алессандро повернулся к юноше и встретился с ним глазами. — Марко… водяная курица.
— Не надо рассказывать мне о Марко, водяной курице, — перебил его Николо. — Что такое эстетика?
— Философия и наука о красоте.
— Что?
— Что? — эхом отозвался старик.
— Этому учат?
— Я этому учу.
— Глупость какая-то.
— Почему же глупость?
— Во-первых, чему тут учить?
— Ты спрашиваешь или утверждаешь?
— Спрашиваю.
— Я объяснять не стану.
— Почему?
— Уже ответил, в книге. Купи ее и оставь меня в покое. А еще лучше, почитай Кроче[1].
— Вы написали книгу?
— Да, и не одну.
— О чем?
— Об эстетике, — ответил Алессандро, закатывая глаза.
— Как вас зовут?
— Алессандро Джулиани.
— Никогда о вас не слышал.
— И тем не менее я все еще существую. А кто ты?
— Николо Самбукка.
— И чем ты занимаешься, синьор Самбукка?
Николо ответил нервно, точно новичок, которому еще предстоит долгая учеба:
— Я делаю пропеллеры.
Алессандро остановился и глянул на Николо Самбукку.
— Пропеллеры. Естественно! Я собираюсь пройти семьдесят километров с мальчишкой, который делает пропеллеры!
— А что плохого в пропеллерах? — удивился Николо.
— В пропеллерах ничего плохого нет, — ответил Алессандро. — Они нужны, чтобы поднимать в воздух самолеты. И где же ты их делаешь, позволь узнать? Уж разумеется, не дома.
— На АЗИ. Правда, сам я их не делаю, только помогаю. В следующем году стану учеником, а пока только помощник. Подметаю опилки, стружку, поддерживаю порядок в инструментах, приношу обед, перевожу от станка к станку большие рамы для транспортировки пропеллеров. На изготовление одного пропеллера уходит много времени. Его надо испытать. У нас есть аэродинамические трубы. Мне пока не разрешают прикасаться к пропеллерам. Даже пальцем.
— Ты закончил школу?
— Даже не начинал, — признался юноша. — Когда я был маленьким, мы переехали сюда из Джирифалько — это в Калабрии. Когда подрос, стал продавать сигареты.
— А что делает твой отец?
— Устанавливает сушилки для белья со стальными стойками, ну, вы знаете, такие, около дома.
— Полезная вещь.
— Я вас совсем не понимаю, — воскликнул Николо.
— И правильно. Мы только сегодня встретились, совсем ничего друг другу не рассказали. Я рад, что меня окружает аура загадочности.
— Да, но вы учитель.
— И чего ты не понимаешь?
— Не сходится.
— Что не сходится?
— Многое, и учителя этого не делают.
— Чего не делают?
— Не ходят по снежным полям, укрываясь от вооруженных солдат.
— На войне многие делают то, что делать не привыкли.
— Вы воевали с англичанами?
— Иногда, но они были на нашей стороне.
— Я думал, мы воевали с ними и американцами. Нет, мы любим американцев, но они были на другой стороне.
— Ты говоришь про Вторую мировую войну. Для нее я был слишком стар. Мог только сидеть на земле, пока меня забрасывали снарядами и бомбили. Я знал, как это делается: напрактиковался на предыдущей.
— А что, была еще одна? — удивился Николо.
— Да, — кивнул Алессандро, — была.
— Когда же? Впервые об этом слышу. С кем мы воевали? Вы уверены?
— Как ты думаешь, почему Вторая мировая война называется Второй?
— Логично. Может, я глупый, но о Первой я ничего не знаю. Большая была война? Долго длилась? Что вы там делали? Сколько вам лет?
— Ты сразу задал слишком много вопросов.
— Ну да.
— Если я начну отвечать, тебе придется слушать до самого Сант-Анджело. Не могу я одновременно идти и все объяснять. Дыхания не хватает. Эти холмы слишком круты для меня, чтобы читать лекцию на ходу. Есть много книг о Первой мировой. Если хочешь, я дам тебе список.
— А есть книга о вашем участии в этой войне?
— Разумеется, нет. Кто стал бы писать книгу обо мне на той войне? С какой стати кому-то захочется об этом знать, и да и кто что может знать? — Алессандро с неодобрением глянул на юношу. — Скажем там, я и сам знаю о себе недостаточно, чтобы написать автобиографию, а если бы кто-то попытался, я бы ему сказал: «Забудь обо мне, расскажи историю о Паоло, Гварилье и Ариан».
— Кто это такие?
— Неважно.
— Вы говорите со мной, синьор, как в цеху, где делают пропеллеры. Здесь не цех.
Алессандро посмотрел на него и улыбнулся.
Почти стемнело, шагая по дороге, они едва различали лица друг друга. Вновь замолчав, они слушали постукивания трости Алессандро и наблюдали, как на темном небе появляется звездный авангард, прокладывая путь для более скромных звездочек, которым в самом скором времени предстояло вспыхнуть и улыбнуться этому миру.
Они видели искры от костров, на которых сельскохозяйственные рабочие, занятые на уборке урожая, готовили ужин. А большое число падающих звезд в августе, по словам Алессандро, компенсировало отсутствие дождя.
За несколько километров от Ачерето, когда они не могли еще видеть огней города, Алессандро вновь нарушил молчание:
— Мы поедим у фонтана в Ачерето. Может, найдем какое-нибудь открытое кафе и выпьем горячего чая, но я что-то сомневаюсь.
Они шли и шли.
— Чтобы понять Первую войну, надо немного знать историю. Ты знаешь?
— Нет.
— И чего я спрашиваю? Ты же tabula rasa[2].
— Я что?
— Неважно.
Они молчали еще минут десять. Потом Алессандро повернулся к Николо, как поворачивался уже, когда Николо упомянул о пропеллерах.
— Или все-таки важно. Может, я смогу все коротко суммировать.
— Мне без разницы, — ответил Николо. — Я лишь надеюсь, что мы выпьем чая или кофе в Ачерето. Можно мне сейчас взять кусочек шоколада, чтобы продержаться до того времени, когда мы поедим?
— Во-первых, — начал Алессандро, не обращая внимания на вопрос Николо, — во-первых, ты должен понимать, история является результатом как правильного, так и ошибочного истолкования проявления чувств. Что я под этим подразумеваю. Это сложно, но, возможно, тебе стоит послушать.
— Я не историк. Мои коллеги, возможно, почувствуют себя оскорбленными до глубины души из-за того, что гуманитарий вторгся на их поле, и будут лаять, как собаки, выгоняя меня на мою территорию.
— Точно так же и на АЗИ, — вставил Николо. — У нас был инженер, Гвидо Кастильоне. Возглавлял отдел технического контроля и пытался контролировать все, проводя проверки везде, во всех цехах. Это, конечно, правильно, вылавливать ошибки на самой ранней стадии. Но начальники цехов, вроде Кортезе из корпусного или моего босса из пропеллерного, Гаравильи, устроили против него заговор. Нельзя отнимать хлеб у другого, так мой отец говорит. Короче, Гвидо Кастильоне больше не работает на АЗИ. То же самое с помощниками. Если кто-то должен подметать и увидит другого с метлой, заказывай панихиду.
— Да, и мы такие же, — кивнул старик, — только у нас панихида — слова, которые говорят за спиной. У историков свой метод, как в любой профессии, и они ревниво его оберегают, однако «Илиада» посрамит любую историю Греции, а Данте на голову выше всех медиевистов, вместе взятых. Разумеется, медиевисты этого не знают, в отличие от всех остальных. Как путь, ведущий к истине, точность и методология по большому счету в подметки не годятся проницательности и вдохновению. Я не собираюсь утверждать, что мои слова — истина в последней инстанции, история — не моя профессия, но у меня есть кое-какие представления о временах, свидетелем которых я стал. Прости меня, если я буду говорить не столь мудрено и тонко, как бы мог.
— Что? — переспросил Николо.
— Это было вступление, предупреждающее, что данная тема лежит за рамками моей профессиональной компетенции.
— Вы с ума сошли! Перестаньте извиняться, — воскликнул Николо. — Вы не сделали ничего плохого. Просто расскажите мне историю. Я так и вижу, как вы заказываете хлеб и кофе. Подходите к человеку, стоящему за прилавком, и говорите: «Простите. Я не пекарь и приехал не из Бразилии. Более того, я не работаю в ресторане, но, хотя я и не принес с собой микроскоп, пожалуйста, вы можете дать мне капучино и рогалик?»
Алессандро кивнул.
— Ты прав. Причина моих колебаний — не мои академические манеры. Я никогда не придавал значения академическим манерам. Все потому, что однажды события обрушились на меня гигантской волной, лавиной, и долгое время я находился словно в забытьи, не мог ни двигаться, ни говорить, а мир проходил мимо меня. Но теперь это позади. Я просто расскажу тебе историю войны. Не буду отклоняться от цели. Обо мне в ней не будет ни слова.
— Хорошо, — кивнул Николо. — Я слушаю. Начнете, когда сочтете нужным.
— Хотя Италия с трех сторон ограничена морем, а на севере — горами, — начал Алессандро, — и хотя наша древняя история — иллюстрация к успеху централизованной власти, эта страна — пример разделения и раздробленности. Конечно же, для искусства и развития души нет ничего лучше множества отдельных и неприступных замков. Разнообразие, чувство перспективы, наблюдательность, характерные для такой среды, привели к достижениям, каких не сыскать нигде в мире. Но вот политический аспект — совсем другое дело.
Николо слушал внимательно, изо всех сил пытаясь понять. Никто и никогда не говорил ему ничего подобного.
— Парадоксально, но страны с открытыми и уязвимыми границами — Франция, Германия, Польша, Россия, Венгрия, — где население не было однородным по языку, национальности, религии, нашли в себе силы и средства, чтобы объединиться и действовать как нации, гораздо раньше, чем мы. Возможно, потому что их подталкивали к этому именно различия, которые им пришлось преодолевать. Мы были и остаемся политически слабыми. Их политика в отношении других стран оставалась достаточно постоянной в силу внутренней политической гармонии, мы же всегда напоминали семью, которая ждет гостей, а ее члены ссорятся до того самого момента, как эти гости постучат в дверь. А если гости приходят с дурными намерениями? Как ведет себя семья перед лицом угрозы? Если гости с мечом в руке, семья забывает про внутренние раздоры и сражается как единое целое. Девятнадцатый век, однако, по праву считается веком дипломатии. Сложилась прекрасная система — или могла бы сложиться, если б не рухнула в девятьсот четырнадцатом, — когда никто ни на кого не шел с мечом. Государства действовали тоньше. Входя в дверь, они осматривали все, что есть в доме, но вели себя как воры, нацелившиеся на драгоценности, а не как вандалы. В атмосфере международной корректности мы находились в крайне невыгодном положении, потому что не было сколько-нибудь серьезных угроз, способных отвлечь нас от внутренних распрей.
К этому моменту, несмотря на все его попытки вникнуть в смысл, глаза Николо начали стекленеть, но Алессандро бесстрашно сгибал зеленую трость, зная, что она едва ли сломается.
— Помни, происходило это — даже если ты не согласен, — по двум причинам. Во-первых, фракционный паралич ослаблял Италию на международной арене. Во-вторых, он усиливал нашу несостоятельность в решении внутренних проблем. Ты следишь за моей мыслью?
— Да, — отозвался Николо.
— Хорошо. Основная причина, почему сохранялся мир в Европе после Венского конгресса[3], в том, что европейские державы занялись завоеванием колоний и управлением ими. Это смягчало многие острые моменты, которые в другой ситуации могли привести к войне, и обеспечивало ресурс благосостояния и пространства, снижавший внутреннюю напряженность в Европе. Кое-какие маленькие войны привлекали внимание общественности — благодаря экзотическим местам, где они происходили, но на настоящие войны они не тянули. Знаешь, если возникает ссора с другом и дело доходит до кулаков, первым делом устанавливают правила, по которым пойдет драка. Никаких ударов в лицо, никакого оружия и обязательно на улице, чтобы не поломать мебель в доме. Так вот обстояли дела в девятнадцатом веке. Ведущие государства установили четкие и ясные правила, и Европе хватало места вне дома — для этого был весь остальной мир, — чтобы драться, не круша обстановку. Италия в этом участия не принимала. У нас под боком были собственные слаборазвитые регионы — на юге страны. Все попытки копировать Англию, Францию, Германию, Голландию и даже Испанию выглядели жалкими. Смешными. В начале двадцатого века Италия отчаянно пыталась вернуть утраченные территории. Начиная с восемьсот девяностых годов мы начали мстительно поглядывать на Африку. Построили военно-морские базы в Аугусте, Таранто и Бридзини и ждали случая восстановить свой престиж в Европе захватом кокосовых орехов и алмазов. Почему бы и нет? В древности вся Северная Африка принадлежала нам. Наши колониальные неудачи заставили нас почувствовать себя вечно опаздывающими на пароход. В следующий раз мы не могли позволить себе опростоволоситься. Нет, в следующий раз, как бы опасно это ни выглядело, какой бы от этого не веяло глупостью, мы намеревались победить. В следующий раз мы хотели поквитаться за Кустозу, Лиссу и Адуву.
— Это что? — спросил Николо.
Алессандро с негодованием вспоминал такие давние унижения, что Николо даже не слышал о них.
— Это сражения, которые закончились нашим поражением. В Кустозе — в горах, у Лиссы — на море, а в Адуве, что в Эритрее, нас разгромила толпа африканцев.
— Хотел бы я там оказаться, — вздохнул Николо.
— Правда? — спросил Алессандро. — Ты мог бы помочь нам и в Капоретто[4].
— Просто расскажите мне о войне.
— Нет смысла рассказывать о войне, если ты не знаешь, как она началась.
— Это скучно.
— Только для человека, который ничего не знает. Когда становишься старше, любые битвы не так интересны, как причины, которые к ним привели, и их влияние на дальнейший ход событий. Я знаю, знаю. У меня три копыта на пастбище, а одно уже в могиле, но мне есть что сказать, прежде чем я отправлюсь в адское пламя. Тройственный союз, когда-нибудь слышал о нем?
— Естественно, нет.
— Это был наш союз с Австро-Венгрией и Германией, в котором мы подошли к балансу сил в Европе со своими мерками, опробованными внутри страны, взяли на себя роль слабака с непомерными амбициями. С одной стороны, мы оставались в Тройственном союзе, с другой — заигрывали с Францией, Англией и Россией, создавая впечатление, будто итальянский хвост виляет большими собаками Европы. Урок, который мы могли выучить по нашей внутренней политике, по истории, по человеческой природе, остался неусвоенным. Если ты играешь то на одной стороне, то на другой, рано или поздно наступит момент, когда эти стороны, объединившись, тебя раздавят. В конце концов, нам надоело это лавирование, потому что оттяпать Альто-Адидже у австрийцев нам хотелось больше, чем Корсику у французов. Действительно, на что нам эта Корсика? У нас хватало проблем и с Сардинией. Позволь мы нашей культуре амортизировать удары дурной политики, и нам удалось бы удержать нестабильность под контролем. Почему нет? Мы же не Гренландия. Тысячу лет мы подменяли политику культурой, и ведь получалось. Но в годы, предшествующие девятьсот пятнадцатому, мы вели себя как все. Отсутствие твердых этических норм, соответствующих тому периоду человеческой истории, развитие техники, закат романтизма, закончившего свое долгое и плодотворное существование… кто знает? Какие бы факторы тут ни повлияли, в какую бы комбинацию они ни сложились, в итоге все пришли к убеждению, что наши верования ложные, все разваливается, Бог нас покинул и во всем мире не осталось ничего прекрасного. Полдесятилетия разлада, и философы всех мастей принимаются утверждать, что свет мира угас навсегда. Все это прошло мимо меня, потому что в молодости я ни на миг не сомневался в доброте мира, его красоте и абсолютной справедливости. Даже когда меня сокрушали, как иногда сокрушают людей, даже когда я падал, я всегда поднимался, более сильный, чем прежде, и красота, если можно так все это назвать, которую я так любил, потускневшая при моем падении, сверкала еще сильнее. Чуть ли не каждый раз после того, как я падал и тьма окутывала меня, она упрямо представала передо мной, уже не такая, как прежде, а гораздо ярче. Словно забыв, что история — это постоянная череда темного и светлого, люди исполнились отчаяния и пессимизма, а такие моменты — благо для безумцев и дураков. Напоминает тебе фракционную политику и Тройственный союз? Это одно и то же. Когда крупные игроки бездействуют, маленькие фракции учиняют бучу. Как и в других деморализованных странах, безумцев у нас хватало. Движение «футуристов» возглавлял натуральный псих по фамилии Маринетти[5]. В девятнадцать лет, прочитав его манифест, я пришел в ужас. А ведь ужаснуть девятнадцатилетнего юношу практически невозможно. Тебя что-нибудь ужасало?
— Нет, — покачал головой Николо.
— Какие-то отрывки я до сих пор помню. Могу процитировать: «Мы намерены воспеть любовь к опасности. Мужество, отвага и бунт — элементы нашей поэзии… Мы за агрессивное движение, лихорадящую бессонницу, смертельные прыжки и удары кулака… Наша хвала человеку у руля… Теперь красота может быть только в борьбе. Ни одно произведение, лишенное агрессивности, не может быть шедевром, и, таким образом, мы прославляем войну». Лихорадящая бессонница? Смертельные прыжки? Может показаться смешным, если отбросить их влияние на страну. Когда люди пишут на городских стенах ожесточенную дикость, город тоже становится ожесточенным и диким. Ты, вероятно, незнаком с одами Фольгоре[6] углю и электричеству, да тебе это и ни к чему. Можно представить, что кто-то способен написать пристойную оду углю или электричеству, но эти лишены даже тени юмора, какие-то маниакальные, ужасающие примеры поэзии, правда, они хорошо согласуются с соцреализмом другой стороны политического спектра.