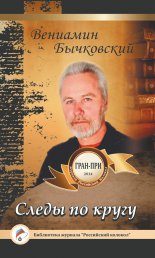Смерть в апартаментах ректора. Гамлет, отомсти! (сборник) Иннес Майкл

– Что я поступил так, как вы бы поступили на моем месте, – продолжил Эмпсон, – если бы до этого додумались. Вот в каком положении я оказался. По чистой случайности я сделался вовлеченным в тщательно продуманный план, по которому Хэвеленд и я в той или иной мере выставлялись виновными. У меня не было причин полагать, что, просто подняв тревогу, я мог бы помешать исполнению замыслов Титлоу. Я едва ли тешил себя надеждой, что полиция сможет распутать клубок, столь искусно закрученный подобным субъектом. Никто, по-моему, и помыслить не мог, что к нам прибудет блюститель закона, сравнимый по своей проницательности с мистером Эплби.
Так вот, у меня созрел план, такой же, какой Титлоу составил против Поунолла в своем увлекательном рассказе, который он только что нам поведал. Необходимо немедленно сделать совершенно ясным, что Титлоу убил Амплби. С этого постулата я и начал. Если я не мог явно представить Титлоу убийцей Амплби, мне было по силам, как я думал, представить его избегающим любой связи с убийством. Я мог «высветить» его фальсифицирующим свое алиби. Если бы я смог «сдвинуть» убийство Амплби на тот момент, когда Титлоу будет в коридоре вместе с дворецким, и устроить все так, что подлог наверняка бы открылся, я бы достиг своей цели.
Затем я вспомнил случай, произошедший ровно год назад. Титлоу исполнял обязанности декана и имел возможность конфисковать пиротехнику у одного из студентов. И эта пиротехника, как мне казалось, все еще лежала в ящике его стола… Через пару секунд я понял, что мой план сложился.
Я выскользнул из кабинета, затем прошел через калитку и прямо в профессорскую, взял огарок свечи из стоявшего на столе канделябра. С ним я быстро вернулся к себе и стал ждать, оставив дверь приоткрытой, чтобы слышать передвижения Титлоу. Как я и надеялся, вскоре он вышел: собирался инсценировать свой обычный визит к Амплби. Как только он спустился по лестнице и исчез из виду, я вошел к нему и через мгновение обнаружил то, что искал: обычную петарду. Затем поспешил за Титлоу и вернулся в кабинет, прежде чем он успел дойти до западной калитки. Это давало мне минуты полторы. Я быстро прошел в дальний угол комнаты, зажег свечу, закрепил ее на вращающемся книжном шкафу, предварительно прикрыв томами, снятыми с полки. Потом просто ждал, пока не услышал, как дворецкий открыл входную дверь, поджег от свечи фитиль петарды, который впоследствии наведет на мысль о примитивном, но надежном запале, спрятал петарду за книгами и как можно быстрее выскочил из комнаты… Не знаю, совершил я ошибку или нет.
– Мистер Поунолл, – произнес Эплби.
IV
– Все мои действия во вторник вечером, – начал Поунолл, – мотивировались только одним: моим твердым знанием того, что Амплби убил Хэвеленд и попытался переложить вину за преступление на меня.
Дейтон-Кларк чуть не застонал. Барочо одобрительно кивнул. Кёртис проснулся и понюхал табаку. Неторопливо, на удивление тихим голосом, чуть склонив голову набок и сцепив пальцы рук, Поунолл рассказал свою историю.
– Эмпсон в своей хаотично перемешанной версии событий упомянул о том, как можно столкнуться с чем-то странным и, если ничего не подозреваешь, не очень-то об этом задумываться. Именно таким образом начались мои приключения во вторник вечером. Как всем вам известно, я привык ложиться спать очень рано, часто около половины десятого. Во вторник это произошло чуть позже: примерно в десять часов я вышел из комнаты, чтобы принести из кладовки горячей воды. В это время я услышал, как кто-то звонил по телефону из комнат Хэвеленда, расположенных напротив моих. Я лишь разобрал, как чей-то голос спросил: «Это вы, ректор?» – после чего отправился дальше. Однако голос принадлежал Эмпсону, и я слегка удивился, что он звонит от Хэвеленда. Я пробыл в кладовке с полминуты, и вестибюль все это время находился у меня в поле зрения. По возвращении к себе я ничего не слышал, поскольку дверь у Хэвеленда была закрыта. Однако я заметил нечто, что сразу же озадачило меня и должно было показаться мне весьма любопытным. Входя к себе, я взглянул наверх и увидел Эмпсона собственной персоной. Он спускался вниз к небольшой лестничной площадке, скорее всего, затем, чтобы взять угля из бункера. Я удивился, как это он смог вернуться наверх, а я не заметил, однако не удосужился вникнуть, что для него это было физически невозможно.
Я сразу отправился спать и, как обычно, тотчас же уснул, однако не переставал думать об этом странном инциденте, и, полагаю, он мне приснился. Мне снилось, что кто-то говорил странным, неестественным голосом, и в этот сон вплелся звук, который, как я сейчас полагаю, был звуком выстрела, убившего Амплби. Потом мне снилось, как кто-то или что-то хватает меня за запястья. Тут я проснулся с чувством, как я уже объяснял мистеру Эплби, что у меня кто-то побывал.
Я не стану пытаться объяснить историю, рассказанную нам Титлоу, однако вскоре я обнаружил в гостиной то, что он упомянул: пятна крови и сожженные странички из ежедневника. Затем, выбежав на улицу, обнаружил тело ректора… Вам известно, с какой ясностью иногда можно вспомнить голос? В тот самый момент я точно припомнил то, что слышал чуть раньше, и с полной уверенностью осознал, что слышал голос не Эмпсона, а Хэвеленда, пытавшегося сымитировать голос Эмпсона. Стало ясно, что с помощью этой уловки Хэвеленд выманил ректора из кабинета в Садовый сквер. После этого он застрелил его и попытался с помощью неизвестных мне средств свалить вину на меня.
Убийцей был Хэвеленд. И тут я вспомнил одну примечательную вещь, которую рассказал мне Эмпсон. Вчера вечером мы все это слышали. В каком-то сумасбродном порыве Хэвеленд заявил Амплби, что хотел бы, чтобы того замуровали в жутком склепе. И тут я понял, как смогу избежать обвинений и в то же время содействовать свершению правосудия.
Я побежал к Хэвеленду. Его у себя не было. Я схватил кости, бегом спустился в кладовку и положил их в кресло для мытья. Затем я выкатил кресло в сад, втащил на него тело, обернул мантию Барочо вокруг головы трупа и вернулся со всем этим к себе в гостиную. Я едва успел. Через несколько секунд я услышал, как возвращался Хэвеленд. Как только он закрыл за собой дверь, я снова выскочил и поспешил с креслом и всем остальным к кабинету ректора. Вы догадываетесь, что было дальше. Через шесть минут после обнаружения тела Амплби и открытия злого умысла против себя я соорудил в кабинете ректора весьма убедительную версию воплощенного желания его реального убийцы, когда тот говорил о жутких склепах. Мне она казалась вполне сносной.
В профессорской снова воцарилось молчание, которое нарушил декан:
– Мистер Эплби, вы можете пролить какой-нибудь свет на это нагромождение противоречий? И где Хэвеленд? Я его здесь не вижу.
Все машинально посмотрели на другой конец стола, где позавчера напротив Эплби сидел Хэвеленд. Однако теперь там восседал Рэнсом, отозвавшийся на пытливые взоры встревоженным «Послушайте же!». Эплби спокойно выслушал вопросы Дейтона-Кларка.
– Господин декан, никаких противоречий нет. Из уст всех говоривших мы услышали правду и ничего, кроме нее. Обстоятельства сложились таким образом, что некий член колледжа, волею случая оказавшийся в Садовом сквере, стал свидетелем действий, полностью совпадающих со всем сказанным здесь. Именно сведения, предоставленные этим господином, и позволили мне потребовать сделать заявления, которые вы только что слышали.
Господин декан, таковы факты. Повторяю, что все правдиво излагали то, что им известно. Однако все действовали на основании противоречивых взглядов на то, что произошло на самом деле. Противоречивых мнений, во-первых, касательно умысла убийцы и, во-вторых, по поводу первого рокового предположения мистера Титлоу… Вы спрашиваете о мистере Хэвеленде. Хэвеленд, убийца вашего ректора, сегодня вечером покончил с собой во время попытки его задержания.
V
– Хэвеленд убил Амплби, – продолжал Эплби, – однако он вовсе не намеревался подписываться под этим деянием. Профессор Эмпсон был готов это заявить, опираясь на свои научные данные. Однако профессор Эмпсон, сокрушаясь по поводу того, что он считал подлым сговором против Хэвеленда, не был готов обсуждать «нормальность» Хэвеленда с точки зрения общепринятой практики. Он ясно осознавал, что подобная дискуссия скроет от непрофессионала один научный постулат, который он считал существенным: Хэвеленд был не из тех, кто мог бы намеренно выдать себя. Но это, в конце концов, не главное. Главное состояло вот в чем: Хэвеленд страдал таким психическим расстройством, при котором сохраняется тонкая грань, отделяющая его от здравого смысла. Возьмем его мотив. Он являлся, как я узнал от вас, господин декан, вероятным кандидатом на пост ректора. Так же, как я заключил из переданного мне инспектором Доддом замечания профессора Кёртиса, как и профессор Эмпсон. Когда Хэвеленд задумал убить Амплби и обвинить в этом Эмпсона (в этот состоял изначальный замысел), он был движим моральной нечистоплотностью в сочетании с четкой логикой, что характерно для подобных расстройств.
Он обладал поразительной способностью к мимикрии: позавчера вечером прямо здесь он шокировал вас неожиданной имитацией голоса мистера Дейтона-Кларка. Этого оказалось достаточно, чтобы навести заинтересованное лицо на определенные мысли… Так вот, в десять вечера он, прикинувшись Эмпсоном, позвонил Амплби через коммутатор в привратницкой, чтобы звонок отложился в памяти у привратника. Амплби пришел в профессорские апартаменты (как он думал, на встречу с Эмпсоном) сразу после половины одиннадцатого. План Хэвеленда был предельно прост. Он скрывался в саду до появления ректора, а потом воспользовался той же уловкой. Изменив голос (на сей раз прикинувшись Поуноллом), заманил Амплби в темноту. Под рев машин на Школьной улице он застрелил его, оставив револьвер рядом с трупом. На револьвере, что я могу вам продемонстрировать, были тайно взятые им отпечатки пальцев Эмпсона. После этого Хэвеленд направился прямо к декану, чтобы нанести ему свой обычный визит, длившийся примерно десять минут, а затем вернулся к себе. Преимущества его плана, как я уже говорил, заключались в его предельной простоте.
В десять сорок мистер Титлоу обнаружил труп и, к несчастью, заключил, что убийца – мистер Поунолл. Поэтому он предпринял нечто из ряда вон выходящее, дабы гарантировать, что Поунолл не избежит наказания. Однако этими действиями он разбудил Поунолла. А тот, убедившись, что произошло убийство, пришел к двум выводам. Первый и правильный состоял в том, что убийца – Хэвеленд. Второй и ошибочный – Хэвеленд пытается свалить вину на него, Поунолла. Он верно угадал, так сказать, подоплеку услышанного им телефонного звонка, однако и не подозревал о вмешательстве Титлоу в это дело. Быстро действуя в соответствии со сложившимся у него планом, он до десяти пятидесяти успел подложить в кабинет тело и кости. И в этот момент его заметил профессор Эмпсон. А Эмпсон, видевший, как Титлоу втаскивал тело в профессорские апартаменты, встревожился, узнав о ложном телефонном звонке. Он заключил, что Титлоу убил Амплби и пытается свалить вину на Хэвеленда и, возможно, на него. Поэтому он решил разоблачить Титлоу, который, тем не менее ворвавшись в кабинет ректора, обнаружил устройство для имитации выстрела и успел уничтожить почти все следы, свидетельствовавшие о его существовании.
В результате всех этих перипетий, – сухо закончил Эплби, – следствие столкнулось с некоторыми сложностями. Перекрестное дознание и экспертизы подтвердят, что причиной смерти доктора Амплби стали действия невменяемого субъекта… Считаю, что вышесказанное не нуждается в дополнении.
Воцарилось тягостное молчание, самое долгое на памяти всех присутствовавших. Затем Дейтон-Кларк кивнул Титлоу, а тот нажал кнопку звонка. Открылась дверь в малую профессорскую.
– Кофе подан!
Глава 18
Было уже поздно. Желтый «Бентли», присланный в знак признания заслуг после недавнего рапорта об успешном раскрытии дела, ждал у ворот. Эплби, уже накинувший пальто, Додд, все еще смущенный, и Готт, благодарный за оказанную честь, пили бренди из больших бокалов в гостиной наставника. Эплби подводил итоги.
– Амплби убили сразу после замены ключей от входов в Садовый сквер. Другими словами, в таких условиях, когда доступ к нему ограничился небольшой группой лиц. У этого обстоятельства несколько возможных объяснений. Первое – условия доступа были не такими, как казались на первый взгляд: убийца обладал тайными средствами доступа и использовал явные средства как отвлекающий момент. Второе – он все устроил, словно для развлечения: он являлся одним из членов группы, подпадавшей под условия доступа, и тем самым давал нам нечто вроде «честного старта». Третье – он был членом группы, желавшим переложить это преступление на другого члена и сделавшим первый шаг, чтобы ограничить число подозреваемых этой самой группой. Разумеется, ключом к раскрытию дела оказалась теория «подстроенного» убийства. Все всплывшие факты укладывались в нее – вот только всплыло слишком много.
Сначала возникли веские доводы, что все подстроено против Хэвеленда. Вскоре я стал связывать эту версию с именем Поунолла. Поунолл все время указывал на Хэвеленда. Он указал на него во время сцены, которая впоследствии высветила модель всего дела. Он указал на Хэвеленда чуть позже, когда сочинил историю, чтобы объяснить свое странное поведение. Вполне разумно было заподозрить, что во всей этой истории Поунолл изощренно переворачивал факты с ног на голову. Согласно его версии, Хэвеленд убил Амплби и попытался обвинить в преступлении Поунолла, в припадке сумасшествия поставив под содеянным свою подпись в виде костей лишь после того, как его план провалился. На самом же деле (как я тогда предполагал) Поунолл убил Амплби и свалил вину на Хэвеленда. Когда стало очевидно, что время и место убийства сфальсифицированы, я смог разгадать вероятный мотив обеих фальсификаций. «Сдвинув» время, Поунолл обеспечивал отсутствие у Хэвеленда алиби. «Сдвинув» место, он пытался обставить все так, чтобы это выглядело наглядным исполнением безумного желания, которое Хэвеленд когда-то высказал.
Я позволил себе разрабатывать эту более-менее простую версию против Поунолла. Однако она рассыпалась. Начнем с того, что появилась веская улика – револьвер. Я приготовился к тому, что над ним каким-то образом «потрудились», дабы предоставить еще одно звено в цепи аргументов против Хэвеленда. Напротив, на нем оказались отпечатки пальцев Поунолла. Если Поунолл застрелил Амплби из этого оружия, то он, казалось, проявил просто невероятную беспечность. И вновь у меня создалось стойкое впечатление после разговора с Поуноллом, что вся его история представляет собой сложную смесь правды и лжи. Эта запутанность и многое другое, казавшееся мне имеющим отношение к произошедшему, до сих пор не вписываются в мою теорию.
Например, я был убежден, что так или иначе в деле замешаны Титлоу и Эмпсон. С ними обоими я провел довольно содержательные беседы. Титлоу, довольно эксцентричный тип, навязчиво цеплялся за мысль о вине некоего конкретного субъекта. Он довольно любопытно связал это с историей философии. Очевидно, он находился в необычайном смятении мыслей, но суть его высказываний сводилась вот к чему. Если было что-то невероятное в посыле о том, что Икс убил Амплби, то он, Титлоу, облечен неким долгом… Затем он дал мне странную отсылку к Канту: мне предстояло опровергнуть тезис, что верность правде превалирует над обязанностью оградить общество от убийцы.
Здесь заключалось нечто, что теория криминалистики должна объяснить и тем обогатить свою базу. И это соображение подтвердилось результатами моей беседы с Эмпсоном. Он тоже рассматривал некоего Икс и был потрясен тем, что Икс, вопреки научным прогнозам и практическому опыту, убил Амплби. По крайней мере, именно это я заключил из его рассуждений. И этот его Икс был, конечно, не Хэвеленд. Он чуть ли не страстно отстаивал свою уверенность в невиновности Хэвеленда. Следует отметить еще два момента. Узнав, что выстрел, раздавшийся в кабинете, мог быть подстроен, он с жаром принялся расспрашивать, обнаружены ли этому какие-либо доказательства. Таким образом, он пытался узнать, каковы свидетельства против Титлоу. Второе – его замешательство по поводу телефонного звонка. Это оставалось загадкой, пока не обнаружился револьвер с отпечатками Эмпсона и Поунолла, что, разумеется, позволило предположить: Эмпсона стараются опорочить, и ложный телефонный звонок вписывался в версию как еще одна ложная улика против него. Почему Эмпсон почти отрицал, что сделал звонок, если знал, что привратник подтвердит этот факт? Ответ: потому что он знал, что звонок был сделан, чтобы представить Эмпсона как злодея, и он чуть было это не сказал… Тогда же я понял, каким образом пальчики Эмпсона могли оказаться на револьвере. Я вспомнил, что как только увидел револьвер, мне показалось, что тот пытался мне что-то «сказать», если можно так выразиться. Это был небольшой пистолет с изящной рукояткой из слоновой кости, поразительно похожей на рукоятку трости Эмпсона. И я представил себе, что револьвер могли привязать к рукоятке какой-то другой трости и на мгновение подсунуть ее Эмпсону в одном из темных вестибюлей, сразу же ее убрать, а потом извиниться за ошибку. В результате, скорее всего, останутся смазанные и плохо различимые отпечатки, гораздо хуже тех, что Титлоу тайком взял у спавшего Поунолла. Однако очень нечеткие отпечатки, след сухого пальца на гладкой поверхности, в наше время поддаются идентификации. Кстати, пример того, как достижения современной криминалистики использовались в одном деле целых два раза, что являет собой прогресс в области так называемого «научного» сыска.
Затем появилась перекрученная проволока, которую Келлетт обнаружил в водостоке. Вы могли бы и догадаться, Додд. Она оказалась подобием того приспособления, которое я на ваших глазах соорудил для защиты отпечатков пальцев на револьвере. Помещенный в такую клетушку револьвер можно переносить и стрелять из него, не смазывая старые отпечатки.
К тому времени накопилась масса противоречивых улик в пользу возможных или вероятных фальсификаций. Против Хэвеленда: кости. Против Эмпсона: пальчики и ложный телефонный звонок. Против Поунолла (если отчасти верить его рассказу): пятна крови, страницы из ежедневника и снова пальчики. Из всех обитателей профессорских апартаментов только против Титлоу не было никаких подлогов. Поэтому я рассматривал его в качестве единственного подозреваемого. Я выдвинул рабочую версию: он пытался подставить под удар всех своих соседей по профессорским апартаментам. Затем, зайдя с другой стороны, я постарался рассмотреть, как Титлоу обеспечил собственное алиби. Сопоставил слова Эдвардса о пиротехнике и виденную мной каплю воска на книжном шкафу. Однако версия не пришлась мне по душе, и вскоре (полагаю, ради завершенности схемы) я подумал, что воск, возможно, единственное свидетельство фальсификации против Титлоу. Я продвинулся до того, что счел ложный выстрел одним из средств компрометации Титлоу. И тут понял всю зыбкость аргументации.
В результате у меня получилось, что четверо обитателей профессорских апартаментов вовлечены в некую странную цепь событий. Я начал выяснять, в каком направлении тянется эта цепь. Несколько раньше я сказал, что в самом начале Поунолл указал на Хэвеленда. Это случилось в профессорской в первый вечер после убийства. Однако тогда произошло кое-что еще. Не будет преувеличением сказать, что воздух сотрясался от инсинуаций. Анализ сказанного вслух и прозрачных намеков дал следующее: Поунолл указывал на Хэвеленда, Хэвеленд указывал на Эмпсона, Эмпсон указывал на Титлоу, а Титлоу указывал на Поунолла. Нагляднее некуда: вырисовывалась явная цепочка и направление, в котором она тянется. Где искать отправную точку? Существовала ли связь между тем, куда направлены обвинения, и тем, что известно или можно вычислить касательно того, на что указывают фальшивые улики? Я видел лишь одну связь: обвинения Хэвеленда были направлены против Эмпсона. Я вполне резонно рассматривал Хэвеленда и как вероятного имитатора голоса Эмпсона (у него был к этому талант), и как субъекта, «поместившего» пальчики Эмпсона на револьвер (он живо интересовался, нашли ли орудие убийства).
Умозрительно я начал оттуда. Хэвеленд убил Амплби и попытался свалить вину на Эмпсона. Это подтвердилось. Однако из этого я сделал вывод, оказавшийся ложным. Титлоу подозревал, что Хэвеленд виновен, и подбросил кости с целью окончательно уличить его. Он вполне обоснованно переживал по поводу морального аспекта своих действий и изо всех сил искал доказательства своей правоты. Но вскоре мне пришлось отказаться от этой версии, поскольку инсинуации Титлоу были направлены не на Хэвеленда, а на Поунолла…
Но от чего я не был готов отказаться сразу же, коль скоро я так далеко продвинулся, так это от вероятной виновности Хэвеленда. Поскольку, как это ни парадоксально, постулат о том, что кто-то фальсифицирует дело против Хэвеленда, являлся главным аргументом в пользу того, что Хэвеленд на самом деле виновен. Сфальсифицированное против Хэвеленда дело в действительности защищало его, поскольку фальсификация была неубедительной: Хэвеленд, по заявлениям Эмпсона, был не из тех, кто подобным образом расписывается в своих деяниях.
Хэвеленд же всегда представлялся вероятным убийцей. Каждому сыщику известно, что при поиске убийцы внутри любой группы лиц следует помнить о важности фактора психической нестабильности. В реальной жизни убийцы в большинстве своем встречаются отнюдь не среди начальников отделений полиции или членов кабинета министров. Они встречаются среди менее психически устойчивых групп населения. Столкнувшись с убийством, любой поведет себя более или менее аномально, но совершение убийства является… м-м-м… особым разделом психиатрии. Полагаю, Дейтон-Кларк распознал в Хэвеленде убийцу и тотчас же преподнес сам себе этот факт, как сказал бы Эмпсон, как представляющий научный интерес. Первое высказанное мне Дейтоном-Кларком спонтанное замечание «высветило» подсознательный ход его мыслей. Между Амплби и Хэвелендом существовала неприязнь…
Отсюда до разгадки было рукой подать. Идя по цепочке Хэвеленд – Эмпсон – Титлоу – Поунолл – Хэвеленд, я мог яснее представлять себе факты, вполне мог выведать у людей неприглядные подробности. Однако в одном я был почти убежден. Я не должен допустить того, чтобы Хэвеленд или кто-то еще из этой публики оказался на скамье подсудимых. К чему бы ни стремились эти четверо, они заварили между собой такую кашу, которую не расхлебает ни один защитник.
Эплби поднялся и поставил бокал на стол.
– Я частично рассчитывал на показания Титлоу, однако мой неназванный наблюдатель в Садовом сквере оказался тем «счастливым билетом», сведения, полученные от него, позволили мне потребовать подробных объяснений у других актеров. А выбранный Хэвелендом выход из создавшегося положения оказался во благо всем нам. Здесь не разгорится скандал. Казначейство получит значительную экономию, а на долю занятого по горло полицейского выпадет меньше бессонных ночей.
Эплби хлопнул Додда по плечу и направился к двери. На полпути он обернулся и улыбнулся Готту.
– Надеюсь, мы еще встретимся. А пока что хочу сделать вам подарок на прощание.
– Какой подарок?
– Название книги, которую вы никогда не сможете написать: «Семь подозреваемых».
Гамлет, отомсти!
Часть первая
Пролог
- Актеры прибыли, милорд…
- И пьесу мы увидим завтра.
1
Если вам случится провести летний отпуск в окрестностях местечка Хортон, обязательно «совершите восхождение» на небольшую гору Хортон-Хилл. Это не составит особого труда, а оттуда вам откроется прекрасный вид. Гора является одновременно цитаделью и форпостом. К северу от ее вершины простираются невысокие холмы, куда переходит ее подножие, характерные для английского пейзажа. К югу тянется низменность, где на небольшом отдалении видна серебристая лента моря. В семи с небольшим километрах за пологими холмами скрывается торговый городок Кингс-Хортон. За возвышенностью спряталась близлежащая деревенька Скамнум-Дуцис, о существовании которой свидетельствуют голубовато-серые дымки. Прямо под горой, за торжественным великолепием лужаек, сада и оленьего парка располагаются вычурные и в то же время неброские постройки имения Скамнум-Корт. Возможно, это не самая роскошная из английских родовых вотчин. Однако весьма большое поместье: в одном из соседних графств располагается нечто вроде его младшего брата – Бленхеймский дворец.
И все же с вершины Хортон-Хилл Скамнум выглядит почти игрушечным. Аскетичные линии фасадов, яркая зелень газонов, тщательно ухоженные сады, окруженные знаменитыми висячими живыми изгородями, словно перенесенными из Шёнбрунна, – все это одновременно создает впечатление полета фантазии и некой строгости, ограничивающей экстравагантность обитателей. Кажется, что Скамнум говорит: здесь находится средоточие гордости имущих мира сего, но тут и смиренная сдержанность, свойственная умудренным опытом. Мистер Эддисон, проживи он на несколько лет дольше, с одобрением бы отнесся к этой величественной громадине. Мистер Поуп, хоть и отправился сочинять язвительные эпиграммы, тайно приезжал сюда, чтобы насладиться видом. А доктор Джонсон, когда ездил на чай к третьему герцогу, надевал свой лучший сюртук. Ибо что означают эта упорядоченная величественность, строгие пилястры и ухоженные цветники, как не воплощение главного морального постулата восемнадцатого века: величие жизни есть богатство в сочетании с благовоспитанностью.
Вот вкратце история Скамнума и его владельцев.
За тридцать лет до рождения Шекспира Роджер Криппен, едва сводивший концы с концами под соколиным гербом в Чипсайде, сделался сподвижником Томаса Кромвеля. Обладавший острым умом и недюжинным талантом замечать ошибки в гроссбухах – или фабриковать их в случае нужды, – этот человек поднялся одновременно с падением изживших себя религиозных устоев. Его сыновья унаследовали его способности. Его внуки выросли в атмосфере строгости и скрупулезности финансовых операций. Когда Елизавета взошла на трон, Криппены уже владели торговыми домами в Париже и Амстердаме. Когда король Яков отправился на юг, Криппены обладали большим влиянием в унаследованном им королевстве.
Началась Гражданская война, и семейство приняло сторону короля. В поместье Хортон расплавили столового серебра на тысячи фунтов стерлингов, а Хамфри Криппен, третий барон Хортон, сражался бок о бок с принцем Рупертом Пфальцским, когда тот опрокинул кавалерию «круглоголовых» в битве при Нейзби. Однако банкирам нельзя поддаваться восторгам: Криппены также управляли десятками тысяч фунтов, лившимися из Голландии через Ла-Манш в Лондон и в частности в Парламент. И во время конфискаций в период диктатуры Кромвеля они не потеряли ни пенса. Тогда же – нарочито отойдя от дел – они тайно финансировали королевский двор в изгнании, и в период Реставрации глава семейства Криспин получил титул герцога. Со времени посвящения Роджера Криппена в рыцари прошло около ста тридцати лет.
«Криспин» осталось названием банковского дома. И именно на банковские дивиденды в течение всего времени строился и расширялся Скамнум-Корт. Хортон воссиял с присоединением обширных пастбищ на севере и с прибавлением богатых пахотных угодий на юге. «Нельзя, – туманно намекал нынешний герцог, – держать яхту на суше». И яхта, и огромный дом на Пиккадилли, и имение Кинкрей в Морейшире, и вилла в Рапалло стали дополнением к величественной громадине Скамнума. («Управлять Скамнумом с помощью толпы горничных? Ну же, ну же!» – воскликнул герцог, когда закрыл его во время войны.) Однако все это являло собой лишь часть богатств, которыми управляли потомки Роджера. Ибо Криспин стоит за промышленными гигантами Рура. Криспин прокладывает железные дороги в Южной Америке. В Австралии можно целыми днями ехать по овцеводческим фермам Криспина. Продается ли живописное полотно в Париже или соболья шкурка в Сибири – Криспин извлекает свою выгоду. Если в Лондоне вы покупаете автобусный или театральный билет, Криспин прямо или косвенно получает свою долю.
И отсюда, с овеваемой ветрами вершины Хортон-Хилл, путник может наблюдать венец этого могущества и составить мнение о нем соответственно своим философским или политическим взглядам, а также руководствуясь своим воображением. Внизу лежит Скамнум, некая сокровищница, охраняемая лишь мраморными богами и богинями, молчаливо стоящими на широких террасах или, подобно Нарциссу, склонившимися над изящными рукотворными водоемами. Скамнум беспечный и неиспорченный символ порядка, благополучия и главенства закона, возвышающийся над сонным сельским пейзажем. В огромном восточном крыле помещается картинная галерея: там висит знаменитый хортонский Тициан и «Аквариум» Вермеера, за которого отец нынешнего герцога заплатил в Нью-Йорке целое состояние. Там находится скандально известный небольшой пейзаж Рембрандта, который отец нынешней герцогини, еще живя в Дублине, купил за десять шиллингов в захудалой книжной лавке рядом с улицей Лиффи. За него десять лет спустя он послал изумленному книготорговцу тысячу фунтов. В противоположном, западном крыле располагается оранжерея. Иногда летними вечерами там устраиваются балы, и свет льется на темные лужайки из длинной череды распахнутых створчатых окон. И любопытный труженик со своей подругой, увидев длинную вереницу въезжающих в парк автомашин, взберутся на вершину холма, вытянутся на ковре из клевера и станут смотреть на мир, столь же далекий, как на картинах Вермеера: на крохотные фигурки, украшенные драгоценностями, словно по волшебству парящие над террасами. Время от времени ветер доносит до холма отголоски музыки. Иногда это странная музыка, чарующая и волшебная. Но иногда она кажется знакомой, когда-либо услышанной по радио или на пластинке, – и тогда парень с подругой вдруг чувствуют неловкость и смущение. Скамнум уже давно сохранял собственный мир в неприкосновенности и под покровом загадочности. Многие герцоги Хортонские ужинали за столами землепашцев, многие герцогини смеялись и болтали на улицах Скамнум-Дуцис. Однако все они знали, что прежде всего нужно стремиться к тому, чтобы на них взирали издалека, что их сила в том, чтобы оставаться предметом мечтаний и фантазий тысяч людей: далекими, украшенными драгоценностями и окруженными волшебным ореолом. Мы все герцоги или герцогини Хортонские – и в этом парадокс, – пока вокруг нас играет достаточно необычная музыка.
С вершины Хортон-Хилл можно увидеть часть огромного внутреннего двора Скамнума и одно из его архитектурных излишеств. Здесь в девятнадцатом веке один из герцогов, запоздалый ревнитель рыцарских идеалов, возвел причудливый готический памятник в виде зала с накатным потолком. Его постройка окутана какой-то страшной тайной: кроме вершины холма, зал можно видеть только из некоторых внутренних окон дома, и, взирая на него, остается лишь сожалеть об уничтоженном фонтане, некогда стоявшем на его месте. В семействе его иногда называют Причудой Питера, а гораздо чаще – со скрытой иронией, которую Криспины усвоили вместе с аристократизмом, – банкетным залом. Там довольно сыро, пахнет плесенью, и все буквально усеяно витражами. Его никогда ни для чего не использовали. Точнее, не использовали до тех пор, пока герцогине не пришла в голову одна мысль. Мысль, неожиданно привлекшая к Скамнуму внимание всей Англии, после чего к подножию Хортон-Хилл устремились потоки автобусов с любопытными экскурсантами.
Вот и теперь по всему видно, что готовится нечто необычное. Однако безоблачный июньский день пока ничего об этом не знает. Из голубятни над садом доносится самый безмятежный из всех звуков доброй старой Англии. Ему лениво вторят галки, скрывающиеся под сенью вязов на старинной аллее. Где-то вдалеке, там, где расположены конюшни, колокол бьет четыре. Скамнум дремлет. На холме нет туристов с биноклями в руках, гоняющих щиплющих травку овец или размышляющих о том, что происходит в Скамнуме. Никому и в голову не придет узнать герцога в небольшого роста человеке в коротких бриджах, остановившемся поговорить с садовником у пруда с лилиями. Никто бы не узнал в молодом человеке в изящных рейтузах и жокейских сапогах, прогуливающемся у конюшни, Ноэля Айвона Мериона Гилби, наследника титула. Никто бы не догадался, что высокий мужчина, идущий по дорожке, – его давний наставник Джайлз Готт, признанный специалист по елизаветинской драме. Что красивая девушка, задумчиво глядящая на него с террасы, – леди Элизабет Криспин. Никто не знает, что беспокойный человек с черным ящиком не королевский фотограф, а американский филолог. Никому не известно, что в «Роллс-Ройсе», приближающемся к южной сторожке, едет лорд-канцлер Англии, прибывший сюда, чтобы пошутить и развеяться в обществе своей давней подруги Анны Диллон, нынешней герцогини Хортонской.
В настоящий момент Скамнум, безусловно, занимает умы многих людей. В Ливерпуле серьезные молодые люди изучают планы его горизонтальной проекции. В Берлине знаменитый искусствовед читает лекцию о его художественном собрании. Его «жизнь», красочно описанная в вечерних газетах, бойко продается на улицах Бредфорда, Морли и Лидса. Скамнум всегда присутствует в рубрике «Это интересно». Вскоре он переместится в «Новости».
«Роллс-Ройс» ныряет под причудливый мостик, соединяющий сторожки-близнецы, и с тихим урчанием едет по подъездной дорожке.
– И ее светлость, – с достоинством объявил Макдональд, – получит столько роз для банкетного зала, сколько соизволит заказать.
– Хорошо, – ответил герцог, скрывая радость неожиданной победы. – Теперь посмотрим-ка, – он сверился с надписями на конверте, – ага, душистый горошек. Его хватит, чтобы заполнить все вазы эпохи Мин в большой гостиной.
– В большой гостиной! – ужаснулся Макдональд.
– В большой гостиной, Макдональд. Большой прием, знаете ли. Прямо-таки событие.
– Я прослежу за этим, – сказал Макдональд суровым тоном.
– И вот еще что. Ужин подадут в длинной галерее…
– В длинной галерее!
– Ну же, ну же, Макдональд. Большой званый ужин, сами знаете. Нечто необычное. Примерно на сто двадцать персон.
Макдональд задумался.
– С вашего позволения, сэр, это больше похоже на салон лайнера, чем ужин в благородном доме на современный манер.
Макдональд представлял собой одну из достопримечательностей Скамнума. «Вы видели нашего прагматичного шотландца?» – любила спрашивать герцогиня, после чего обласканный вниманием гость удостаивался чести быть представленным старшему садовнику и осторожного разговора с ним. Тем не менее герцог считал, что иногда Макдональд мог утомить кого угодно.
– Как бы там ни было, – произнес герцог, подсознательно прибегнув к коронной фразе своей знаменитой речи, произнесенной им в палате лордов в 1908 году, – как бы там ни было, Макдональд, поставим гвоздики.
– Если вашей светлости угодно, – сурово ответил Макдональд, – я подумал, что можно и гвоздики.
– Гвоздики. В длинной галерее поставят один длинный стол, и из кладовой уже принесли тридцать серебряных ваз…
– Тридцать, – машинально повторил Макдональд, словно лихорадочно что-то вычисляя.
– …которые наполнят красными гвоздиками.
– Хортон, – твердо заявил Макдональд, – так нельзя!
Когда Макдональд прибегал к такому жуткому средневековому обращению – безусловно, совершенно уместному в его родных краях, – значит, дело дошло до критической точки. Да и сам герцог целый день ждал чего-то подобного.
– Так нельзя, – продолжал Макдональд с мрачной убедительностью. – Вы можете подумать, что если у вас в длинной галерее соберется сто двадцать человек гостей, то потом эти сто двадцать душ пойдут гулять по моим теплицам. И вы подумаете, что спрос уже велик: все гостевые комнаты и сорок спален, не говоря уже о дворецких, которые закрутят с моими горничными у меня за спиной! Мое же мнение таково, – закончил Макдональд с напором, оставив аргументы, – что цветам вообще не место в доме. Им расти под чистым небом и ярким солнцем, пуская сильные корни.
– Ну же, ну же, милый Макдональд…
– Я не говорю, что выхода нет. Возможно, вашей светлости знакома книга миссис Хантер «Полевые цветы Шекспира»?
– М-м-м, не знаю…
– И не надо. Она не претендует на ученость. Однако книга есть в библиотеке, и, возможно, она убедит ее светлость…
– Ну же, ну же, Макдональд!
– …что полевые цветы Шекспира на длинном столе будут смотреться куда более к месту, нежели мои гвоздики. Вам стоит лишь распорядиться, ваша светлость, и мои девчонки пойдут в лес от южной сторожки и нарвут сколько надо. В тридцати серебряных вазах, – с жаром добавил Макдональд, – они и вправду украсят стол!
Уклончивый ответ герцога свидетельствовал о том, что он колеблется:
– Честное слово, Макдональд, вот уж не знал, что вы знаток Шекспира.
– Шекспир, ваша светлость, был весьма искушен в садоводстве, и хорошему садовнику надлежит знать Шекспира. В пьесе, которую скоро покажут, садовые предметы упоминаются одиннадцать раз.
– Одиннадцать раз! Боже мой!
– Да, одиннадцать. Трава, фиалка, роза, червоточина дважды, шипы, прививка на стволе, плод с дерева, пальма и подрезанный в цвету – чего делать нельзя. Это все есть в новой книге профессора по фамилии Сперджен.
– Ах да, – неосторожно обронил герцог. – Сперджен… неглупый парень.
– Это очень талантливая дама, – сказал Макдональд.
Механизм империи Криспинов продолжал работать – мощно, точно и вездесуще. Мог ли Макдональд, победоносно завершив этот разговор, ощутить своим склонным к метафизике шотландским умом глубокую иронию, осознавая (несмотря на всем известную инертность герцога) присутствие всевидящего ока Криспинов?
Макдональд вышел на тропинку и направился к южной сторожке.
«Роллс-Ройс» резко затормозил. Лорд Олдирн поднялся во весь рост позади неподвижного шофера и театральным жестом приветствовал приближавшегося Джайлза Готта.
– Похоже, это замок Барклофли, ведь так?
Готт пожал ему руку и поклонился – ровно так, как кланяются малознакомым людям, имеющим влияние на короля. Затем он рассмеялся:
– Вон замок, сразу за деревьями.
– Одних только слуг с три сотни там, я слышал?
– Скоро туда съедутся три сотни гостей, насколько мне известно. В руках герцогини все обретает огромные масштабы.
– Садитесь, – с привычной властностью сказал лорд-канцлер. Когда «Роллс-Ройс» тронулся, он вздохнул: – Я боялся, что именно так все и выйдет. Анне всегда нужен большой холст. Это ошибка, которую никогда не совершал ее отец.
– А разве она не управляла стариком Диллоном?
– Думаю, да – как умная женщина может направлять гения. Она ограничивала его портретами, выбирала нужный момент для «капитуляции» перед Академией художеств и так далее. – Лорд Олдирн умолк. – По-моему, свою роль я знаю. А какая роль у вас?
– Я постановщик. И я построил сцену наподобие елизаветинской.
– Боже праведный! Где?
– В банкетном зале.
– Заплесневелая, сырая дыра. Значит, все очень серьезно: дерзкая постановка и трактовка Шекспира и все такое. Набежит толпа вашей ученой братии, а?
– К ночи слетится целая стая. Американец, кажется, уже там. Герцогиня никогда не серьезна до конца, но работает на удивление много.
– Анна всегда этим отличалась. Неделями работала взаперти, чтобы достичь сиюминутного совершенства – или, возможно, сиюминутного абсурда. Именно так она сюда и попала. Чем она занимается, костюмами?
– Ничего подобного. Она штудирует тексты. Раздобыла второе хортонское кварто и взяла у кого-то первое фолио. Ужасаюсь, если она в азарте начнет делать заметки на полях. Она также изучает сценическую традицию. На нее огромное впечатление произвели рассказы о Гаррике, особенно как он ведет первую сцену с тенью отца. Она чуть ли не наставляет Клэя по этой сцене.
– Наставляет Клэя! – хмыкнул лорд Олдирн. – Это пойдет ему на пользу. Добиться шумного успеха в роли Гамлета в Лондоне и Нью-Йорке – а потом получать наставления от какой-то женщины в любительской постановке. Зачем ему все это?
Этот неожиданный вопрос заставил Готта задуматься.
– Наверное, он поддался величию Скамнума, – наконец предположил он.
– Хм! – недоуменно произнес лорд-канцлер и тут же добавил: – А Элизабет? Как ей все это нравится? Наверное, лестно играть рядом с Клэем?
– Без всякого сомнения, – ответил Готт.
Какое-то время они молчали. Машина мчалась по подъездной дорожке. Им встретился Макдональд, учтиво приложивший руку к шляпе.
– А Тедди? – продолжил «допрос» лорд Олдирн. – Что думает Тедди об этом чрезвычайно разросшемся мероприятии?
Лицо Готта выразило неуверенность.
– Не совсем понимаю, что думает герцог по этому или иному поводу. Я ведь, как вы знаете, дальняя родня Диллонов, так что герцогиню я более или менее могу «просчитать». Но вот герцог ставит меня в тупик. Не хотел бы я вставлять его в роман, даже как второстепенного героя. Он вполне мил на средней дистанции, но весьма утомителен на ближней.
Ответом лорда Олдирна стало молчание. Затем он задал еще один вопрос:
– Вы разве пишете романы?
«Вот черт, – подумал Готт, – недаром ты выдвинулся из всех адвокатов Англии». Ответил он вежливо, но твердо:
– Под псевдонимом.
Однако не так-то легко было отделаться от любопытного лорд-канцлера.
– Под каким же? – не отставал он.
Готт сказал.
– Черт подери, детективы! Ну, полагаю, они вполне соответствуют вашей кропотливой и въедливой работе. Как, впрочем, и моей. И что же пишете сейчас? Вставите в роман описание любительской постановки в Скамнуме?
– Думаю, едва ли это потянет на детектив, – ответил Готт.
Он подумал, что лорд Олдирн был далек от того, чтобы вести себя дерзко. Он просто столкнулся с любопытством, свойственным всем старикам. Однако Готт не любил разговоров о своем хобби. Возможно, стараясь переменить тему, он наклонился и протянул руку к закатившемуся в угол бумажному шарику.
– Что это? – спросил лорд Олдирн.
Готт развернул бумагу и недоуменно уставился на три машинописных строки, красовавшихся на четвертушке листа.
– Опять Шекспир, – ответил он, – вроде наших приветствий пару минут назад. Только это не «Ричард Второй», а «Макбет».
В лорде Олдирне снова проснулось любопытство.
– Читайте, – сказал он.
Готт прочел:
- Охрип и ворон,
- Тот, что прокаркал с моих стен
- О Дункана зловещем появлении.
«Роллс-Ройс» остановился у нависавшей над ним громады Скамнума.
– Любопытно, – произнес лорд Олдирн.
* * *
Половина восьмого вечера. Ноэль Гилби сидел на восточной террасе, поочередно глядя на коктейль, роман «Хендли Кросс» и на своего прежнего наставника, присевшего рядом с кратким «Привет, Ноэль» и с несколько неодобрительной рассеянностью воззрившегося на занимавшийся закат.
– Двенадцатого августа к открытию охотничьего сезона в Кинкрее устраивают небольшое торжество, – нарушил молчание мистер Гилби. – В прошлом году тетя Анна закусила удила, и вересковые пустоши заполнились охотниками, словно туда выехал весь Корпус военной подготовки. Но нынче дядя Тедди настоял на своем.
– Даже так, – отозвался Готт.
– Он вас приглашает, – продолжил Ноэль, повернув книгу, чтобы рассмотреть иллюстрацию. – Поедете?
Готт покачал головой.
– Полагаю, что я буду в Гейдельберге, – мрачно ответил он.
– Хм! – Ноэль явно перенимал манеры лорд-канцлера, подсмотренные за чаем. После паузы он добавил: – Мне подарят новое ружье двенадцатого калибра.
Среди сверстников-технократов Ноэль выделялся своим «эстетизмом». Обычно он только и говорил что о молодых поэтах. Он издавал для них журнал и писал передовицы с обсуждением Андре Бретона и Марианны Мур. Ходили слухи, что он был на чаепитии с мистером Эзрой Паундом. Однако атмосфера Скамнума, казалось, вернула его к «истокам». Он проникся местным колоритом – или тем, что представлялось колоритом его резвому воображению. Он читал Сёртиса и Бекфорда, писал заметки о винтовке Фергюсона. Он говорил со старшим конюхом об уходе за лошадьми. Он часами пропадал в арсенальной, беседуя с ее одноглазым куратором.
– Наверное, какая-нибудь игрушка, – сказал Ноэль и, видя, что эта тема не вызвала интереса, добавил: – Почему вы не взяли коктейль?
– Привычка, – ответил Готт. – Старики в колледже Святого Антония не пьют коктейли перед ужином, и это вошло у меня в привычку. – Он снисходительно улыбнулся своему бывшему студенту. – Я уже в том возрасте, Ноэль, когда привычки берут свое.
Ноэль посмотрел на него с серьезным видом.
– Полагаю, что вы стареете, – сказал он. – Сколько вам лет?
– Тридцать четыре.
– Слушайте! – воскликнул Ноэль. – Вам же скоро сорок.
– Совсем скоро, – холодно ответил Готт.
– Знаете, – начал Ноэль, – по-моему, вам надо…
Он осекся, заметив в дальнем углу террасы фигуру в смокинге.
– Вот идет ваш приятель Банни. Оставляю ученых мужей наедине. Разговор о пунктуации Шекспира пойдет вам на пользу.
– Мой приятель кто?
– Банни. Доктор Банни из Освего, США. Ему не терпится познакомиться с настоящим членом Британской академии. Полагаю, – невинным тоном добавил Ноэль, – что для тридцати четырех лет это неплохо, а? Ну, пока-пока, папуля Готт.
С этими словами мистер Гилби удалился.
Готт подозрительно смотрел на приближавшегося доктора Банни. Тот нес в руках довольно большой черный ящичек, который он поставил на стол перед тем, как обменяться рукопожатием с Готтом.
– Доктор Готт? Рад познакомиться. Меня зовут Банни, Банни из Освего. Мы с вами коллеги в одной большой области. Пусть процветает знание.
– Здравствуйте. Именно так, – ответил Готт, и его лицо приняло улыбчивое, заинтересованное и настороженно-понимающее выражение, являющееся защитой, к которой англичане прибегают в подобных случаях. – Вы приехали из-за пьесы?
– Из-за фонологии пьесы, – поправил доктор Банни. Он повернулся и щелкнул выключателем на черном ящичке. – Скажите «на дворе трава», – тихо произнес он.
– Что-что?
– Ничего. На дворе трава.
– О! На дворе трава.
– А теперь «бежит безвозвратное время».
– Бежит безвозвратное время, – произнес Готт со скрытым негодованием доброго пуританина, принужденного к богохульству.
– Спасибо.
Банни повернулся и щелкнул еще одним выключателем. Черный ящичек тотчас затараторил: «Скажите на дворе трава что что ничего на дворе трава о на дворе трава а теперь бежит безвозвратное время бежит безвозвратное время спасибо».
Банни расплылся в улыбке.
– Это высокоточный диктофон Банни. Позже, разумеется, – вкрадчиво пояснил он, – все переносится на бумагу.
– На бумагу. Конечно же.
– Переносится на бумагу и анализируется. Доктор Готт, примите мою благодарность за дружеское содействие, без которого невозможно развитие науки. Словами окрыляются умы. Напитки подают?
– Херес и коктейли в библиотеке.
Когда доктор Банни исчез из виду, Готт решил попрактиковаться в скороговорках.
– Колпак! – сказал он. – По-колпаковски колпак переколпаковать!
– Джайлз, что это вы кудахчете, яйцо снесли или что?
На террасу выплыла леди Элизабет Криспин, держа сморщенную вишню на коктейльной соломинке.
– Всего лишь пытался сказать кролику, что о нем думают лягушки, – туманно ответил Готт, с трудом подыскивая жалкое академическое объяснение. – Аристофан…
– Аристофан! Вам разве Шекспира мало?
– В самый раз. Аристофан, Шекспир, а между ними Банни.
– Так это Банни, да? Вы говорили ему в черный ящик?
– Да. Банни, выбитый из бани. Как он сюда попал?
– Мама познакомилась с ним на каком-то приеме. Она сказала пару слов в его черный ящик и пришла в совершенный восторг. Он упрячет в свой ящик всю пьесу, а когда вернется домой, прочтет лекцию о гласных, согласных, фонемах и всем прочем. Только мама думает, что в нем есть что-то зловещее.
– Зловещее?
– Шпион в черном или что-то такое. Государственные тайны исчезают в черном ящике. Скушайте вишенку, Джайлз.
Готт разжевал вишню. Леди Элизабет уселась на широкую каменную балюстраду.
– Еще один жуткий закат, – сказала она.
– Да уж! – воскликнул Готт, ободренный подобным единомыслием. Однако Элизабет вернулась к американцу:
– Полагаю, Банни цитировал вам античных классиков и распространялся о развитии науки, так?
– Да.
– А вы смотрели на него с вежливым интересом профессора Святого Антония?
– Да… То есть, конечно, нет.
– Дорогой Джайлз, наверное, вам ужасно скучно разменивать Шекспира на пятаки для устройства праздника варварам. Вы же все это прекрасно знаете.
– Никакой это не размен. Все на удивление серьезны. А мне хочется увидеть Мелвилла Клэя на некоем подобии елизаветинской сцены. И в особенности мне хочется видеть вас.
Элизабет изящно переменила позу, чтобы получше рассмотреть свои золотистые домашние туфли.
– Лучше бы эти триста гостей меня не видели. До чего же у мамы изощренный ум, словно она живет лет двадцать назад! Вам не кажется?
– Время не властно над ней, – ответил Готт.
– Да, знаю. Она просто чудо. Однако только ее современники могут додуматься до того, чтобы отпраздновать совершеннолетие дочери, нарядив ее в белый атлас, чтобы она выслушивала ругань некоего героя-любовника, а потом ее похоронили на радость всей округи и высоколобых снобов.
После этого страстного монолога она едва сдерживалась. Готт искренне удивился: