Фату-Хива: Возврат к природе Хейердал Тур
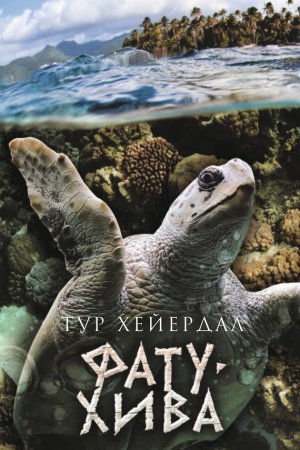
Энергичная мадам Хамон обладала незаурядным организаторским талантом. Увидя наши ноги и услышав, где мы провели ночь, она взорвалась.
— Это скандал! Вы находитесь во французской колонии и сегодня будете спать на приличной кровати, хотя бы мне пришлось уступить вам свою!
Выяснилось, что им предоставили бывший дом губернатора, который обычно стоял под замком. К Бобу они приходят только есть. Как только «Тереора» погрузит копру, двинутся обратно на Таити.
— А с Таити — прямиком во Францию! — радостно воскликнул тощий фотограф. — Сто тысяч пальм за иголку хвои под снегом.
Мы взяли курс на жандармерию, но в это время показался сам Триффе. Окруженный толпой островитян, он выступал так, словно спал на ходу. Мадам Хамон подмигнула нам и ураганом обрушилась на бедного жандарма. Он поспешил вынуть из карманов обе руки и поздороваться с нами.
И вот уже его смуглые помощники волокут кровати, матрацы, белые простыни и половые щетки. Нас провели в коттедж рядом с тем, в котором расположились французские гости. Теперь он пустовал, а когда-то в нем жил местный врач. С некоторых пор должность врача и губернатора исполнял один человек, он поселился на Нуку-Хиве, на севере архипелага, а на южные острова ему практически не на чем было добираться.
Оставив в коттедже свое имущество, в том числе драгоценное ружье, мы со всей доступной нам скоростью заковыляли к единственной на всю долину бамбуковой хижине. В ней помещалась больница, которой заведовал чрезвычайно симпатичный и приветливый, стриженный ежиком санитар с Таити. Его звали Тераи, и он принадлежал к ставшим редкостью среди таитян чистокровным полинезийцам. Лицом, могучим телосложением и гордой осанкой он напомнил мне Терииероо, только помоложе возрастом. Услышав, что мы усыновлены вождем и получили имя Тераи Матеата, он горячо пожал руку своему тезке. Так у нас появился на Хива-Оа еще один друг.
В двадцать с небольшим лет, при среднем росте Тераи весил добрых сто килограммов, что не мешало ему быть страстным охотником и великолепным наездником. У себя на Таити он не один год проработал в больнице Папеэте. И явно не тратил время впустую. Бросив один взгляд на наши ноги, он сразу определил тропическую язву. Явись мы на несколько недель позже, объяснил Тераи, у Лив инфекция дошла бы до кости, и не миновать ей ампутации. В самом деле, бедная жительница Фату-Хивы, которая не отважилась плыть на шлюпке ни с патером Викториной, ни с нами, поплатилась за это одной ногой.
В окружении терпеливых островитян, пораженных всевозможными недугами — от зубной боли и безобидных порезов до венерических заболеваний, мы по очереди простерлись на лежанке, предоставив коренастому Тераи колдовать пинцетами и ланцетами.
Через какую-нибудь неделю нас уже не пронизывала острая боль от макушки до ступни при воспоминании о первом визите в бамбуковую больницу. Тераи поработал на совесть. Он резал, скоблил, удалял ногти, чтобы уберечь от инфекции кости, мазал нас желтовато-зеленой мазью из огромной банки. И нам стало заметно лучше.
Часть продуктов, купленных у Боба, перекочевала из нашей резиденции в домик еще одного нового друга, китайца Чинь Лу. За ширмой в его экзотической кухне уместился своего рода ресторанчик. Мы были единственными посетителями, но семейство Чиня составило нам компанию и потчевало вкуснейшими блюдами.
По истечении недели мы услышали, что «Тереора» снимается с якоря и по пути на Таити посетит ФатуХиву. Однако Тераи не разрешил нам возвращаться на свой остров. Дескать, необходимо продолжать лечение, если мы не хотим остаться без ног. Мы проковыляли на скалистый мыс, чтобы хоть поглядеть на «Тереору» и помахать капитану Брандеру, который никогда не сходил на берег. Заодно проводили друзей. Рыжая шевелюра француженки буквально искрилась от переполнявшей эту маленькую женщину энергии. Держась за руку обвешанного камерами фотографа, она крикнула нам «оревуар», и они прыгнули со скалы в качающуюся шлюпку, где их приняли в свои объятия Вилли и наши смуглые товарищи по плаванию.
Подняты паруса, «Тереора» выходит в море. Вилли, Иоане и другие фатухивцы стояли на палубе; на этот раз можно было не сомневаться, что они благополучно доберутся до дома с провиантом. Старая шлюпка Вилли с новыми заплатами плясала на буксире за кормой белой шхуны. Наши мысли летели быстрее ветра, и, сидя на скале, мы на миг представили себе, что любуемся чудесным видом из окна нашей собственной бамбуковой хижины в долине Омоа. Но тут же в памяти возникли жгучие комариные укусы и бамбуковая пыль, мы прогнали воспоминания и побрели на перевязку в больницу Тераи.
Между тем до Триффе наконец дошло, что в день приезда я стоял перед его домом с ружьем на плече. И встретив меня на дороге, он попросил предъявить документ, разрешающий носить оружие.
Я сходил в коттедж и гордо предъявил ему наш драгоценный экспонат. Объяснил, что на прикладе есть резьба Гогена, мы купили старое ружье как изделие искусства, у меня даже патронов нет.
Но для жандарма ружье — старое или новое — оставалось ружьем, хоть бы приклад украсил сам Рембрандт. У меня есть оружие и нет разрешения.
Ружье было конфисковано. Жандарм обещал вернуть его, как только я получу надлежащую бумагу от властей на Таити. Но «Тереора» уже ушла, а это означало, что раньше чем через год мой запрос не обернется.
Триффе приготовился куда-то запрятать мой драгоценный сувенир, но тут меня вдруг осенило. Попросив отвертку, я на глазах у пораженного жандарма отвинтил приклад. После чего, держа в одной руке деревянный приклад, в другой — ржавый ствол с замком, спросил, что считается оружием.
Триффе, не задумываясь, показал на железку.
— Держите оружие, а я оставлю себе дерево, — сказал я.
Жандарм разинул рот, и я зашагал обратно, унося свое сокровище.
Мои подозрения оправдались. Несмотря на многолетнюю переписку, я так больше и не увидел металлические части Гогенова ружья. Скорее всего какой-нибудь менее знаменитый мастер вырезал новый приклад, и не исключено, что старый «винчестер» по-прежнему стреляет в горных коз на Маркизах.
Ближайшие недели не были богаты событиями. Мы бродили от бамбуковой будки Тераи до занавешенного уголка в кухне Чинь Лу, где нас обслуживали с истинно китайской учтивостью и закармливали лакомыми блюдами, приготовленными по китайским рецептам из содержимого банок Боба совокупно с плодами тучной земли Хива-Оа.
Большие расстояния и отсутствие приличной лодки не позволяли Тераи посещать другие острова архипелага. Однако раз в месяц он седлал коня и отправлялся обследовать соседние долины Хива-Оа. Несмотря на изрядный вес, он был искусным наездником, и его маленький маркизский конь развивал такую скорость, словно нес на себе воздушный шар.
Тераи вообще не ходил пешком. Конь всегда стоял наготове, привязанный к бамбуковому колышку. Бросил ему на спину мешок вместо седла, и скачи с визи— том к больному.
Когда пришла пора совершить очередную инспекционную поездку, Тераи раздобыл еще двух коней и резные деревянные седла. Нам удалось-таки уговорить его, чтобы взял нас с собой. Ноги заживали, и в походе Тераи мог продолжать лечение.
Задолго до восхода приступили мы к крутому подъему на извилистые гребни, ведущие к далекой долине Пуамау в восточной части острова. Снова испытали мы счастливое чувство от встречи с девственными дебрями, наполняя легкие чистым, прохладным горным воздухом. Внизу, зеленея пальмами, простирались широкие долины. В сердце острова одна за другой вырастали могучие лесистые пирамиды, соединенные острыми, как лошадиная холка, перемычками. Тропа петляла по этим перемычкам, так как отвесные кручи не позволяли двигаться вдоль побережья. Как и на Фату-Хиве, вся береговая линия здесь была источена тысячелетним прибоем, который превратил склоны вулкана в вертикальные стены, а древние кратеры преобразил в глубокие, чаще всего серповидные долины, зажатые между нависающими скалами. Далеко внизу под нами на фоне синего моря и синего неба парили, словно вырезанные из бумаги, белые птицы; сплошная лента прибоя белой змеей окаймляла берег, обозначая грань между крохотным островком и необъятным океаном. Дикие петухи кукарекали в глубине темных долин, куда еще не проникло утреннее солнце; на освещенных склонах им откликались другие. Лошади весело ржали, стуча нековаными копытами по красной тропе.
На самом высоком гребне мы остановились. Выше пути не было. Выше простиралась пустота. Пассат трепал волосы и гривы, лошади нервно переступали с ноги на ногу. Мы всмотрелись в безбрежную даль — где там Фату-Хива? Густые облака скрыли Тахуату, отбрасывая рваные черные тени на солнечную синь океана. По мере того как мы поднимались, горизонт отступал все дальше, и далеко на юге, на краю света, сквозь мглу проступили зубчатые очертания крохотного островка. Одни лишь макушки гор торчали над морем; казалось, там уходят под воду остатки сгоревшего корабля, окутанные густым дымом. На Фату-Хиве все еще шли дожди. На далеком, далеком острове ФатуХива…
До чего же мал мир Иоане, Тиоти и Пакеекее, когда посмотришь на него вот так со стороны! А в масштабах вселенной мы все — мелюзга, и пустяки, из-за которых мы препираемся, кажутся вздором.
— Се жоли, — услышал я голос Тераи.
Сидя верхом на своем беспокойном коне, он любовался долинами внизу.
— Что красиво? — удивленно спросил я, повернувшись к своему таитянскому тезке.
— Горы, лес — да все. Вся природа прекрасна. Гляди-ка, и в этом Тераи похож на Терииероо.
— Но разве не Папеэте — идеал красоты для островитян? — спросил я.
Тераи дал шпоры.
— Не для всех. Кое-кто из нас разбирается, что к чему. Во времена наших предков на Таити тоже было неплохо.
Мы ехали бок о бок вдоль продуваемой ветром перемычки.
— Но ведь большинство полинезийцев при первой возможности перебирается в Папеэте?
Тераи не отрицал этого. В этом трагедия его народа, сказал он. Богатство белых мужчин влечет в Папеэте девушек. А за ними и парни тянутся, тоже повеселиться хотят.
Тогда я не подозревал, что много лет спустя, прибыв в Полинезию во главе научной экспедиции, не найду на Таити ни одного гарантированно чистокровного полинезийца. Даже на Хива-Оа с трудом отыскалась горстка островитян, у которых стоило брать кровь для генетических исследований.
Тераи предвидел это в тот день, когда мы вместе с ним ехали по крыше островного мира, который его народ некогда открыл без нашей помощи и сделал садом, благополучно существовавшим до тех пор, пока мы не преподали полинезийцам свою философию прогресса.
Мы въехали в красивый горный лес, и лошади потянулись вереницей по мягкой траве. Тераи запел сочиненный таитянским королем старинный гимн «Я счастлив, цветок тиаре с Таити». Лошади перешли на рысь, и приходилось нагибаться, чтобы нас не зацепили свисающие над тропой ветви и лианы. В пронизанной солнечными лучами листве порхали и сновали редкостные птицы, радующие глаз великолепной расцветкой.
Пересекая лес, мы поднялись на поросший папоротником бугор. Внезапно Тераи осадил коня и показал вперед. На тропе, глядя на нас, стояла большая бескрылая птица. В следующую секунду она припустилась бежать и мигом исчезла в зеленом туннеле. Нам уже рассказывали про эту птицу, представляющую неизвестный орнитологам вид. Островитяне часто ее встречали, но поймать не могли, очень уж быстро она скрывалась в туннелях и норах. Вообще-то бескрылые птицы в Тихоокеанской области были известны по Новой Зеландии — родине киви и вымершего ныне четырехметрового моа. Мы исследовали лабиринт ходов в густом папоротнике, весь бугор облазили, но загадочная птица как сквозь землю провалилась.
Оставив позади пол-острова, мы устроили привал у ручья, чтобы немного перекусить. Дальше простирался совершенно дикий край. Лес вдруг кончился, и мы словно очутились в пустоте. Ни листвы, ни земли, только головокружительные пропасти. Снизу доносился далекий гул прибоя; глухо порыкивал отраженный каменной стеной ветер, грозя сбросить нас в бездну.
Следом за Тераи мы свернули на полочку, вырубленную в скале древними островитянами. В следующую секунду наш маленький мир перевернулся в моих глазах вверх ногами. Борясь с головокружением, мы с Лив поспешили повернуться лицом к стене. Наши лошади медленно, очень медленно следовали за возглавлявшим кавалькаду гордым всадником. Могучие плечи Тераи и конский круп шириной как раз равнялись опоре, по которой ступали копыта.
Неожиданно полочка кончилась, кончилась и пропасть справа, тропа повернула влево и через перевал спустилась на другую сторону гребня, где нас ожидал новый обрыв, на этот раз с левой руки. И здесь из пропасти с ревом поднимался воздушный поток. Да, эту часть острова никак нельзя было назвать широкой! Далеко внизу виднелась другая бухта, тоже с белой полоской прибоя. Этот обрыв был по меньшей мере таким же устрашающим, как тот, от которого мы только что ушли. Лучше опять отвернуться носом к горе, доверившись опытным лошадям…
Но вот стенка справа оборвалась. Пустота с обеих сторон. Я чувствовал себя будто верхом на пегасе. Впереди — пик, сзади — пик, а между ними узенькая перемычка, по которой вилась тропа. Тераи поглядел через плечо на нас и улыбнулся. Наши ноги болтались над крутыми склонами, спадающими к морскому берегу с плавно изогнутой белой каймой. Гул прибоя сюда не доносился, только непрерывный ровный шорох. Не только мы, но и лошади нервничали. Задрав голову и насторожив уши, они осторожно ступали по гребешку. Их явно беспокоили порывы ветра снизу. Я боялся вздохнуть, пока мы одолевали этот отрезок. Если лошадь оступится, соскочить некуда…
Пронесло!.. Тропа обогнула пик, за которым протянулся еще один острый гребень, потом пошел лес, и нас поглотили дебри. Когда мы снова вынырнули из зарослей, под нами простиралась долина Пуамау. Один шаг — и в несколько секунд достигнешь цели, пролетев с километр по вертикали. Мы очутились на краю самой большой на острове кратерной впадины. Открывающаяся к морю подкова крутых и мрачных скал крепостной стеной обрамляла огромную зеленую чашу. Розовые лучи вечернего солнца озаряли выстроенный вдоль пляжа пальмовый авангард.
Дальше путь пролегал по вырубленному в голом склоне узкому серпантину. Солнце быстро ушло за горизонт, и черные скалы погасили розовый отсвет от закатных облаков. Мы ничего не видели. Только гулкая пустота, оттеняемая доносящимся снизу шорохом, напоминала, что мы едем по краю пропасти. Наклон конской спины указывал, что мы спускаемся, разматывая петлю за петлей. Поразительно, как уверенно ступали в темноте эти маленькие маркизские лошадки. Ведь сколько потрудились, целый день неся нас на спине по горным тропам, а все равно терпеливо шагают дальше. Темнота заставила их замедлить ход, но они почти не спотыкались. У меня и Лив окоченели ноющие ноги, горело натертое седалище, мы вспоминали нисшествие Данте в ад. Скорее бы кончился этот переход, все равно где, лишь бы слезть с деревянных седел. Не видно ни тропы, ни конских копыт, только слышно, как скатываются вниз задетые лошадьми камешки. Мы поминутно окликали друг друга, чтобы не потеряться, и наши голоса улетали в пустоту над замкнутой кручами долиной.
Наконец лошадиные спины выпрямились, кони затрусили по траве. Послышался шум реки, и под копытами заплескалась вода. Мы явно достигли ложа долины. Прибой ритмично рокотал где-то на одном уровне с нами.
В кромешном мраке появилась светящаяся точка и заплясала между конскими ушами. Постепенно увеличиваясь, она превратилась в освещенное окно. Прибой шумел совсем близко; внезапно нас обдало свежим морским ветром. Мы подъехали к стоящему на берегу дому. Наконец-то у цели! С великим трудом спешившись, мы привязали коней к деревьям. Дверь… Чудесный запах яичницы… Я постучал и прислушался.
Дверь распахнулась, нас осветил керосиновый фонарь, его держал в поднятой руке пожилой коренастый мужчина скандинавского типа. Голубые глаза внимательно рассматривали нежданных гостей. Белые появлялись здесь раз в несколько месяцев, если не лет. И не с гор, а со стороны пляжа.
— Бонжур, — отрывисто произнес хозяин.
— Добрый вечер, Генри Ли, — ответил я на его родном норвежском языке.
Он озадаченно попятился и только тут рассмотрел стоявшего позади нас старого знакомого — Тераи.
Немало яиц было съедено и не одна бутылка вина откупорена в тот вечер в одинокой норвежской хижине в долине Пуамау на острове Хива-Оа.
Жизнь Генри Ли сложилась не совсем обычно. Тридцать лет назад он прибыл на Маркизские острова рядовым матросом на старом паруснике. Капитан был пьяница, на борту не прекращались стычки и драки. Когда судно бросило якорь у Хива-Оа, молодого Генри вместе с другими матросами послали на берег за водой. Ему удалось бежать, и он спрятался в пещере, из которой вышел лишь после того, как разъяренный капитан прекратил поиски и судно ушло. Генри полюбил полинезийскую красавицу и женился на ней. Она унаследовала долину на острове, и он решил основать плантацию кокосовых пальм, чтобы заготавливать копру. Жена умерла, оставив ему сына. Вместе с ним Генри перебрался в долину Пуамау, и теперь у него была лучшая плантация на всем Маркизском архипелаге.
С внешним миром Генри Ли соприкасался, только когда с Таити приходила за копрой торговая шхуна. Наряду с работой главным в его жизни был сын Алетти, отличный парень. Еще он дорожил внушительным собранием книг. Однокомнатный дом был заставлен кроватями и завален книгами — знак гостеприимства и интеллекта. Меня поразила библиотека Генри Ли, ведь единственным по-настоящему культурным человеком на Хива-Оа считался Гоген, а он никогда не добирался до этой части острова.
Хозяин дома освободил кровати от книг и журналов, чтобы гостям было где спать.
Утром Генри Ли еще до восхода ушел работать, а юный Алетти и вторая жена Генри, красивая плотная вахина с островов Тубуаи, принялись готовить нам основательный полинезийский завтрак. Тераи осмотрел наши ноги и велел Лив сидеть дома, а сам отправился проведать местных больных.
Островитяне здесь, как и на Фату-Хиве, обосновались на берегу, где ветер разгонял комаров. Но очень уж мало домов было для такой большой долины, и жителей — раз, два и обчелся. Одни сидели на корточках перед своей хижиной, другие развалились на циновках в доме. Разница между деятельным Генри Ли, который не покладая рук трудился, чтобы расширить свою плантацию, и праздными полинезийцами, думающими только о еде и любви, бросалась в глаза. По словам Алетти, островитяне ждали, когда орехи сами свалятся на землю. Расколют топором скорлупу, извлекут ядро и продадут копру на шхуну или получат за нее консервы у того же Генри Ли. Подобно Вилли на Фату-Хиве, норвежец, держал небольшую лавчонку.
Если не считать птичьего щебета, царила полная тишина, и никто, за исключением Генри, не проявлял трудовой активности. Убедившись, что конь Тераи стоит перед одной из хижин, я попросил Алетти быть моим провожатым, и мы отправились в глубь долины.
Внезапно я увидел их. Увидел великанов. Раздвинув зеленые ветки, Алетти молча, с благоговением на лице показал в глубь зарослей. Оттуда на меня таращились глаза величиной со спасательный круг; искаженные дьявольской усмешкой огромные рты, казалось, были способны проглотить человека. Шире гориллы в плечах, высотой в два человеческих роста, истуканы производили сильнейшее впечатление на немногих путешественников, которым довелось их ви— деть. И зрелище могучих красных изваяний настолько не вязалось с видом апатичных островитян, что невольно рождался вопрос: кто и как воздвиг в долине Пуамау этих многотонных исполинов?
В свое время я читал о том, что где-то на Маркизских островах есть большие статуи. Но одно дело прочесть две-три строки, совсем другое — неожиданно встретиться в дебрях лицом к лицу с огромными истуканами.
Мы подошли к самому большому из них, опирающемуся на высокий пьедестал. Вместе с углубленным в кладку цоколем каменный богатырь достигал трех метров; вдвоем нам еле-еле удалось обхватить его вокруг пояса. Материал — красная порода, выходов которой я поблизости не обнаружил 7. Алетти рассказал, что карьер находится в верховьях долины; отец видел там несколько необработанных заготовок из такого же туфа. Рядом с заготовками лежали брошенные ваятелями рубила из твердого базальта.
Красные изваяния стояли на своего рода культовой площадке под открытым небом; присмотревшись, я увидел в зарослях много стен и террас. Некоторые статуи лежали полузасыпанные на земле, обезглавленные или с отбитыми руками. Из-под лиан и папоротника на нас глядели высеченные отдельно чудовищные круглые головы. Но самым поразительным было изваяние, изображающее как бы плывущего великана с коротенькими руками и ногами. Он опирался животом на уходивший в землю короткий цоколь.
В книгах отца Алетти вычитал, что каннибальские празднества на этом святилище происходили вплоть до тех пор, пока гавайский миссионер, полинезиец Кекела, пятьдесят лет назад не обратил три местных племени в христианство и не засадил весь участок кофейными кустами. И в самом деле, среди поглотивших статуи зарослей всюду рдели кофейные ягоды.
Три исследователя осматривали каменных истуканов Пуамау. В 1894 и 1896 годах — Ф. Крисчен и К. фон ден Штейнен; в 1920 году, когда Генри Ли уже поселился здесь, — Ральф Линтон. Всем им местные жители поведали разные версии и сообщили разные имена великанов. Генри Ли услышал от островитян признание, что на самом деле они ничего точно не знают про эти статуи. Но все версии сходились в одном: истуканы уже стояли здесь, когда предки нынешних островитян прибыли на остров и оттеснили в горы предшествующих поселенцев. Никто не мог сказать, кем были эти поселенцы; по некоторым преданиям, они потом влились в племя наики.
В жизни каждого бывают случайные на первый взгляд эпизоды, которым суждено в дальнейшем сыграть важную роль, вплоть до полной перемены жизненного пути. Встреча с каменными великанами Пуамау в то время, когда я проводил эксперимент с возвратом к природе, позднее отарыла мне перспективы, определившие мою судьбу на много насыщенных увлекательнейшими событиями лет. Это она побудила меня пересекать на плотах океаны, забираться в дебри Андских гор и пустыню Сахару, раскапывать на острове Пасхи изваяния высотой с четырехэтажный дом. И все это ради волновавшей меня загадки: я заподозрил, что еще до прихода полинезийских рыболовов на восточном мысу Хива-Оа обосновался энергичный народ, которому было привычно воздвигать каменных истуканов. В старину полинезийцы тоже были полны энергии и энтузиазма, но они больше увлекались мореплаванием, войнами, резьбой по дереву. Каменные изваяния явно воплощали иную традицию. Недаром обитатели приморской деревушки твердили, что не их предки воздвигли этих истуканов.
Вечером Генри Ли вернулся с плантации и составил нам компанию. Положив стопку книг подле керосинового фонаря, он показывал мне страницы, которые я и прежде видел, однако не уделил им достаточного внимания. Генри напомнил мне про сохранившиеся в Полинезии предания, будто на этих островах предков нынешних полинезийцев опередил другой народ. По всему полинезийскому треугольнику — от Пасхи на востоке до Самоа и Новой Зеландии на западе и Гавайских островов на севере — первые европейские мореплаватели слышали одну и ту же версию: полинезийцы застали на многих островах светлокожих рыжеволосых людей, называвших себя потомками бога Солнца, и либо изгнали, либо абсорбировали их. Память об этом была настолько свежа, что европейцев приняли за возвратившихся в свои прежние владения представителей светлокожего народа. Когда гавайцы поняли свою ошибку, они убили капитана Кука. Ему не повезло в отличие от Кортеса и Писарро, которые легко покорили могучие империи ацтеков в Мексике и инков в Перу как раз благодаря тому, что в памяти местных народов сохранилось предание о светлокожих переносчиках культуры, поклонявшихся Солнцу и воздвигавших исполинские каменные статуи. Согласно легенде, эти солнцепоклонники ушли куда-то через Тихий океан.
— Полинезийцы обожествляли предков, — говорил Генри Ли. — Они были знатоками генеалогий и могли перечислить поименно всех своих предков вплоть до тех, которые впервые высадились на здешних островах. На Маркизах генеалогии были зашифрованы в замысловатом узелковом письме вроде перуанских кипу. У нас нет причин не верить им, когда они утверждают, что до полинезийцев здесь уже жили какие-то племена.
— Но какие именно? — спросил я. — До Южной Америки семь тысяч километров, до Индонезии вдвое больше — где искать?
Генри Ли пригладил свои длинные светлые волосы.
— Во всяком случае викинги тут ни при чем, — усмехнулся он. — И нелепо говорить о народах, которые будто бы дошли сюда по сухопутным мостам. Каждый геолог знает, что в полинезийской области океана таких мостов не было. Речь может идти о мореплавателях из безлесной страны, где было заведено использовать для строительства камень и высекать статуи. Полинезийцы вышли из лесистых краев и были мастерами резьбы по дереву. Они вырезали тотемные столбы, украшали резьбой носы своих пирог. Конечно, и они умели делать орудия или фигурки из небольших камней, но никто не видел, чтобы полинезиец врубался в горный склон и вытесывал монолитные изваяния. Никто. Да и сами они не приписывают себе таких подвигов. Может быть, кто-нибудь из вас хочет попробовать?
Я согласился, что это непросто. К тому же тут нужно было не только большое искусство, но и традиция. Ни один европейский народ каменного века не затевал ничего подобного. В Африке только в стране фараонов найдешь сходные примеры.
Алетти прервал нашу беседу, сказав, что нас приглашает в гости второй белый житель Пуамау. Мы чуть не забыли о его существовании, а пришли к нему в дом и увидели симпатичного маленького француза с густыми бровями и длинными висячими усами. Генри Ли представил его предельно коротко: «Мой друг». У них было заведено до поздней ночи сидеть и толковать о политике, искусстве, науке. В минуты разногласий француз набивал ноздри нюхательным табаком и стучал кулаком по столу: уж он-то знает мир, ходил шеф-поваром на роскошной яхте, охотился на медведей в Канаде, пас овец в Новой Зеландии, искал золото на Аляске!
Маленькая хижина старого чудака напоминала карточные домики нашего детства. Нам пришлось пригнуться, чтобы войти в самодельный дворец, крыша которого была сделана из снопов соломы, а стены — из ящиков и плавника. Конура конурой, но сколько же в ней поместилось хитроумных устройств! Дернет гордый улыбающийся хозяин за веревочку или повернет гвоздь — жди какого-нибудь чуда. Пора ложиться спать — тянет за одну веревку, собрался закусить — тянет за другую: и койка, и стол складные. Не сходя с места, он мог дотянуться до всех тайников и приспособлений. Дернешь не ту веревочку — на тебя сверху спускается седло. Или вдруг открывается ящик с чудесным свежим хлебом. Француз сам пек хлеб в жестяной печи между столом и койкой.
Все не могли одновременно уместиться внутри, так что нам пришлось осматривать лачугу по очереди. Затем Генри Ли повел нас обратно в свой просторный коттедж, и француз пошел вместе с нами, неся под мышками по заманчиво пахнущему горячему караваю. До самой смерти не забуду я этого человечка из ларчика. Обернувшись, я еще раз посмотрел на окруженную аккуратным огородом необычную конурку с бамбуковым полом и соломенным потолком. Рядом с высоченными кокосовыми пальмами она казалась особенно маленькой. В ней заключалось все достояние французика, но я в жизни не встречал среди белых более довольного и по-настоящему счастливого человека.
Увидев разложенные на столе Генри книги, он сразу загорелся. Пока хозяйка накрывала на стол и резала хлеб, француз подошел к одной из коек и взял толстую книгу; было видно, что он с ней хорошо знаком.
— Вот вы говорили про наши статуи, — сказал он. — Взгляните сюда.
Он показал мне иллюстрацию. Поразительно. Могучая статуя точно такого вида, какую мы видели утром. И так же стоит под открытым небом среди деревьев. Огромная, в треть высоты истукана, голова, смехотворно короткие ноги, круглое, намеренно гротескное лицо с большими глазищами, плоский широ— кий нос, рот от уха до уха — полное совпадение.
— А посмотрите на руки: согнуты в локтях, кисти лежат на животе, — горячо продолжал старик. — В точности, как у всех статуй здесь на острове.
Я заглянул на обложку. Книга повествовала о путешествиях в Южной Америке. Прочел текст под иллюстрацией. Статуя была воздвигнута в Сан-Агустине в Северных Андах, прямо на восток от Маркизов. В той же области было обнаружено множество сходных изваяний, и я читал еще раньше, что зона больших антропоморфных статуй непрерывно тянется оттуда вплоть до Тиауанако, важнейшего доинкского культурного центра на берегах озера Титикака. Истуканы найдены и на самом берегу Тихого океана ниже Сан-Агустина. Современные индейцы были непричастны ко всем этим изваяниям. Европейские конкистадоры встречали каменных исполинов и в лесах, и в пампе, где их некогда оставили неизвестные исчезнувшие ваятели. Самая большая коллекция связана с доинкским культовым центром Тиауанако. Обитавшие поблизости от его развалин индейцы аймара сообщили испанцам, что древние статуи изваяны не их предками, а людьми чужого племени, белыми и бородатыми. Эти люди поклонялись Солнцу. Они пришли с севера, туда же потом удалились за своим вождем и спустились к океану около Манты в Эквадоре. И в этом районе все инкские предания говорят о прибывших из Тиауанако чужаках, которые погрузились на бальсовые плоты и, взяв курс на запад, навсегда исчезли в просторах Тихого океана.
Я посмотрел на троицу, окружившую вместе со мной керосиновый фонарь. Юный учтивый Алетти, уроженец Хива-Оа, не знающий, что такое школа, но обученный отцом читать и писать. Веселый французик — в одной руке огромный бутерброд с тушенкой и луком, другая перелистывает ученый труд. Наш невозмутимый норвежский хозяин в майке, не скрывающей обтянутых розовой кожей мускулов и темно-коричневых от тропического солнца плеч труженика. Внешность Генри никак не вязалась с его пристрастием к книгам. Для меня до сих пор остается загадкой, откуда человек, который ступил на берег Хива-Оа с пустыми руками, успев окончить только семилетку на родине, добыл такое множество ученых книг. И ведь он никуда не выезжал с острова, если не считать короткого посещения Таити, где Генри нашел свою нынешнюю жену. В глухом закоулке далекого острова он и его друг, этот маленький Робинзон Крузо, поведали мне интереснейшие вещи, каких я не слышал ни от одного профессора.
Я поглядел внимательнее на снимки статуй Сан-Агустина. Многие из них удивительно напоминали заброшенные изваяния в долине Пуамау.
Южная Америка. Слишком уж далеко, чтобы можно было предположить контакт через океан. Впрочем, расстояние до Индонезии в противоположной стороне вдвое больше, и там нет сходных памятников. Да и на Азиатском материке за Индонезией не найдено ничего похожего на статуи Пуамау.
Француз торжествующе захлопнул книгу, словно закрыл ларец с сокровищами, дав нам налюбоваться его содержимым. Вот тут и разберись… Естественно положиться на моих учителей, ведь они опирались на пособия, составленные признанными авторитетами. Считалось, что до европейских парусников к здешним островам могли прийти лодки только из Азии и Индонезии, поскольку у американских индейцев не было мореходных судов. Меня учили верить авторитетам. Но я верил также собственным глазам. Да и так ли уж надежны авторитеты, если они сами по-разному судят, из какой именно области Азии происходят полинезийцы.
Одни называют Яву, другие — Китай, Индию. Некоторые забираются в поисках родины полинезийцев в Египет и Месопотамию. Даже в Скандинавию! Но в огромной буферной области, отделяющей Полинезию от Индонезии, нет никаких следов прохождения полинезийцев. На семь тысяч километров в ширину простерся здесь островной мир с древними воинственными австрало-меланезийскими и микронезийскими племенами. И такой же ширины необитаемая морская пустыня отделяет от Маркизов Южную Америку. И почему непременно надо считать, что люди только однажды высаживались на этих островах?
Когда Тераи завершил свой обход, мы легли спать. На другой день рано утром ему предстояло ехать одному через горы в долину Ханаиапа на северном побережье. Остальные долины давно опустели. Генри Ли уговорил Тераи оставить нас в Пуамау: очень уж меня увлекла загадка каменных великанов. Лив получила от Тераи нужные указания и взялась лечить нас обоих.
Целую неделю я ежедневно поднимался к культовой террасе, известной островитянам под названием Оипона, и досконально все осмотрел. Над участком, где стояли статуи, огромным пальцем возвышалась скала Туэва, очень похожая на фатухивскую скалу, вершину которой мы покорили. Генри Ли рассказал, что пробовал подняться на Туэву, но был вынужден отступить, слишком ненадежен камень, служащий мостиком к самой вершине.
Взяв в провожатые одного симпатичного паренька из деревни, мы с Алетти отправились на штурм скалы и довольно легко добрались до широкой вымощенной площадки, с которой открывался великолепный вид на долину. Мы видели даже кусок пляжа. Дальше путь был посложнее; все же вертикальная трещина в гладкой скале позволяла достаточно надежно цепляться руками и ногами. У самой вершины трещина переходила в небольшой камин. Протиснувшись сквозь него, мы добрались до рассекающей вершину щели, через которую и впрямь был переброшен весьма шаткий камень. Соблюдая предельную осторожность, мы одолели этот мостик и выпрямились в рост. Замечательный кругозор! Вся долина простиралась перед нами, а внизу краснели среди листвы каменные великаны.
Вершина была расчищена и выложена плитами. Небольшую площадку ограждал бруствер из тяжелых камней. В ямках между ними лежали камни для пращи. Подобно некоторым древним народам Среднего Востока и Перу, но в отличие от народов Индонезии и Восточной Азии, древние маркизцы пользовались пращой на войне. Две маленькие наклонные трещины за бруствером были набиты плесневелыми костями и черепами.
Между культовой площадкой внизу и этим маленьким оборонительным укреплением явно существовала какая-то связь. В случае вражеского вторжения король со своими жрецами и приближенными мог занять позицию на вершине, оставив главные силы оборонять нижнюю террасу. Сумей противник все же занять террасу, дальше воинам надо было по одному протискиваться через камни. А с шаткого мостика ничего не стоило столкнуть их вниз, к истуканам.
Только голод и жажда могли принудить защитников к сдаче последнего бастиона. Видимо, так и получалось с ваятелями, когда предки нынешних островитян высадились на берег Пуамау и захватили долину.
Соблазнительно было посчитать нагроможденные в трещинах, позеленевшие кости останками исчезнувших каменотесов. Соблазнительно, но вряд ли верно. Этим костям было от силы несколько десятков лет. Скорее всего они очутились здесь в конце прошлого века, когда перед осклабившимися идолами происходили последние каннибальские ритуалы. Генри Ли еще застал людей, помнивших эти ритуалы. На культовой площадке обращал на себя внимание алтареподобный камень, один угол которого был оформлен одноглазой личиной. На поверхности камня было несколько чашевидных углублений, и местные жители утверждали, что эти ямки наполнялись человеческой кровью во время жертвоприношений.
Особенно интересной показалась мне лежащая фигура, напоминавшая скорее плывущего зверя, чем человека. Несравненный образец каменной резьбы. Только настоящий мастер-профессионал мог изваять эту симметричную, обтекаемую, гладко отшлифованную скульптуру. Я не мог ни с чем ее сравнить, ведь тогда мне еще не довелось видеть сотни заброшенных и забытых статуй в южноамериканских дебрях под Сан-Агустином. Когда же три года спустя я попал туда, то сразу обратил внимание на две большие каменные скульптуры точно такого типа: в позе пловца лежали на животе звероподобные фигуры с демоническими лицами и вытянутыми вперед коротенькими руками. Южноамериканские экземпляры можно было истолковать как символическое изображение обожествленного каймана. Но в Полинезии не водились ни кайманы, ни крокодилы.
Стремясь проверить все детали, я с помощью Алетти расчистил подпиравший эту скульптуру короткий цоколь. Алетти старательно скреб камень перочинным ножом, и мы с удивлением увидели высеченные на цоколе изображения двух сидящих на корточках фигур с поднятыми вверх руками. А между ними — два четвероногих зверя в профиль: глаз, рот, торчащие уши, длинный хвост.
Четвероногие звери! Сюжет для детектива. Каждому, кто занимался Полинезией, известно, что из четвероногих у полинезийцев были только собака и свинья, причем собака почему-то не достигла Маркизских островов. Но и не свинья была передо мной: длинный тонкий хвост торчал кверху, и только самый кончик его чуть изогнулся, как это бывает у кошек. Кошка… Нет, во всей Полинезии, да что там, во всей Океании, включая Австралию, кошки неизвестны. Собака? Художник мог видеть собаку на других островах. Но у полинезийской собаки был пушистый хвост крючком, а не торчащая тонкая палочка. Кажется, нож Алетти помог нам сделать новое открытие… Местные жители пришли посмотреть на нашу находку. Сами они, поднимая поваленную кем-то много лет назад статую, не заметили этих изображений.
Лишь много позже таинственный сюжет получил свое развитие. В свое время фон ден Штейнен забрал с культовой площадки наиболее искусно изваянную каменную голову и доставил ее в Музей народоведения в Берлине. И ведь я видел ее там, когда готовился к поездке на Маркизы, но не оценил ее значения и не присмотрелся к шее. Снова попав в музей много лет спустя, я исправил эту оплошность и увидел две скорченные фигуры и двух длиннохвостых четвероногих зверей — таких же, каких сам обнаружил на Хива-Оа. Фон ден Штейнен не заметил рельефы на цоколе поваленной статуи. Ему были известны только изображения на вывезенной им голове, сохранившиеся настолько хорошо, что он различил длинные когти на лапах и волоски на морде, усиливающие сходство с кошкой. Но поскольку кошек в Полинезии не знали, а хвост зверя не позволял назвать его собакой или свиньей, фон ден Штейнен заключил, что речь идет о крысе, последнем из трех млекопитающих, известных полинезийцам 8.
Крыса. Но какой же художник, пусть самый неумелый, изобразит крысу с гордо поднятой головой и торчащим кверху хвостом. И еще никто не видел, чтобы на древних монументах в честь богов или героев были высечены крысы. Два льва как символ власти изображались на цоколях древнейших статуй хеттов и других народов Среднего Востока. Две пумы высечены на цоколе красной каменной статуи в Тиауанако, изображающей светлокожего и бородатого короля Кон-Тики, легендарного вождя ваятелей, которые, согласно инкским преданиям, ушли на запад через Тихий океан. Но это все кошки, не крысы.
Поднявшись вместе с Генри Ли и маленьким французом к культовой площадке, островитяне вынуждены были пересмотреть свое прежнее убеждение, будто статуя изображает рожающую женщину. Мы услышали от Генри, что до недавней поры местные женщины, ожидавшие ребенка, приносили сюда тайком дары. Островитяне лишь несколько лет назад поставили прямо изваяние, поваленное то ли их дедами, то ли миссионером Кекелой. Поэтому три исследователя, побывавшие здесь до нас, не заметили рельефов. В торчащем цоколе они усмотрели ребенка, выходящего из чрева богини; при этом их не смутило ни отсутствие головы и конечностей у младенца, ни тот факт, что он очутился на уровне пупка. Правда, Линтон усомнился в объяснении островитян и заявил, что фигура очень уж отличается от остальных, вряд ли она изображает человека. Сам он не выдвинул никакой версии, только заключил: «Нет сомнения, что ваятель мастерски воплотил великолепный замысел» 9.
И Генри, и француз знали, что каменные статуи получили ограниченное распространение в полушарии, занятом Тихим океаном. Изваяния были найдены всего на нескольких островах, и почему-то все они расположены ближе к Южной Америке: остров Пасхи, Маркизы, Питкерн и Раиваваэ. Числом и размерами особенно выделяются статуи Пасхи, расположенного на полпути между Южной Америкой и остальными полинезийскими островами. На десятках тысяч других островов, разбросанных в Тихом океане, — ничего подобного. Спрашивается: почему изваяния сосредоточены в его восточной части?
Поскольку господствовал взгляд, будто ваятели происходили из Азии, на Тихоокеанском побережье которой ничего похожего не найдено, исследователи пришли к выводу, что ваяние зародилось самостоятельно на наиболее удаленных от Азии островах. Маркизские острова лежат несколько ближе к Азии, чем остров Пасхи, отсюда — гипотеза, что первоначально идея создания таких скульптур возникла на Маркизах, а уже оттуда переселенцы принесли ее на Пасху, крайний форпост Полинезии перед южноамериканским континентом. И будто бы на Пасхе ваяние достигло кульминации потому, что на безлесном острове полинезийцам, мастерам резьбы по дереву, пришлось всецело перейти на другой материал. Хотя гипотеза эта была всего лишь воздушным замком, с ней согласились почти все после того, как ее преподнес в качестве «элементарной истины» ведущий авторитет в области полинезийской культуры Те Ранги Хироа. А ведь Те Ранги Хироа сам не бывал ни на Маркизах, ни на Пасхе и не видел статуй своими глазами 10.
Впрочем, Генри и его французский друг не очень-то полагались на авторитеты. То, что они сами видели и трогали руками, весило для них больше, чем постулаты, призванные подтвердить надуманную гипотезу. Я услышал вопрос: насколько близко прошли мы к Мотане, направляясь с Фату-Хивы на Хива-Оа? Присмотрелись к его ландшафту? Нет? Так вот, этот островок теперь совсем голый, а не так давно там был такой же густой лес, как на соседних островах. Люди превратили Мотане в пустыню. Почем знать, может быть, раньше и остров Пасхи вовсе не был безлесным? Обилие монументов позволяет предположить, что остров был перенаселен, и люди вполне могли истребить лес. В Норвегии, добавил Генри Ли, сотни безлесных островов. Или взять Исландию, Шетландские острова — где там лес? Тем не менее, когда туда пришли викинги, среди которых были и резчики по дереву, они не занялись ваянием. Да и как можно, даже не поглядев на немногочисленные статуи Пуамау, утверждать, что они старше сотен истуканов, воздвигнутых во всех концах Пасхи?
Пока загадка не решена, нельзя отвергать ни одну из возможностей, мудро заключил старый француз. Подняв указательный палец, он важно добавил, что превратно толковать факты еще хуже, чем вовсе их игнорировать, ведь превратные толкования мешают непредвзято смотреть на другие версии.
— От нас до Пасхи так же далеко, как до Южной Америки, — продолжал он.
— Если допустить, что кто-то с здешних островов принес на Пасху искусство ваяния, с таким же успехом можно допустить, что эти люди могли прийти сюда из Южной Америки.
Алетти промерил расстояние на школьном атласе. Да никто и не спорил, ведь француз был прав. К тому же час был уже поздний.
Потушен фонарь на большом столе, но я еще долго не мог уснуть, лежа на скрипучей железной кровати Генри Ли и пытаясь собраться с мыслями под аккомпанемент дружного храпа. Эх, вернуться бы когда-нибудь сюда после тщательной подготовки, провести в долине научные раскопки. Археологи тогда еще не работали на Маркизских островах, даже на знаменитом острове Пасхи не копали. Да и другие острова Восточной и Центральной Полинезии не изучались ими.
Мечты — что семена: им, чтобы прорасти, нужны хорошая почва и уход. Семена, посеянные в домике Генри Ли, не могли пожаловаться на уход, они про— росли и дали плоды. Много лет спустя я пришел в залив Пуамау на собственном экспедиционном судне. С мостика вместе со мной на зажатую горами долину смотрели четыре профессиональных археолога. Мы прибыли сюда с острова Пасхи. Полгода вели там раскопки, углубляясь в грунт, который за много столетий засыпал некоторых пасхальских великанов по самую шею. В земле этого удивительнейшего изо всех тихоокеанских островов были собраны новые драгоценные научные данные. Выявлены чередующиеся слои, отвечающие трем последовательным культурным периодам. Вооруженные свежими, надежными сведениями о возрасте и эволюции пасхальских статуй, мы прибыли на Маркизские острова за сравнительным материалом. Я всматривался в излучину черного пляжа. Не видно ли под пальмами большого коттеджа? И маленькой конурки? Нет. Ни того, ни другого.
Островитяне рассказали, что оба дома смыло наводнением. Вместе со всем инвентарем. Пропали книги Генри Ли, пропала его коллекция старинных идолов и других вещей языческой поры. Старый француз скончался. Генри Ли переселился в соседнюю долину и вел там жизнь отшельника.
Мы разыскали его. Хотя ему было трудно ходить из-за слоновой болезни, он расчистил участок в лесу и разбил новую плантацию, лучше прежней. Алетти
— гордость и радость отца — вырос в отличного молодого человека, собирался занять должность суперкарго на одной из таитянских торговых шхун.
Только красные каменные великаны оставались на тех же местах — неподвижные и неизменные. Правда, они успели снова укрыться за ширмой из деревьев и кофейных кустов. Сколько они простояли вот так? Сколько времени прошло с тех пор, как наделенные Творческим воображением энергичные и искусные мастера выломали из горного склона бесформенные глыбы, протащили их через густые заросли, пренебрегая обилием древесины, и превратили в истуканов по заранее обдуманному плану? Ваятели их обожествляли, враги боялись, миссионеры ненавидели и валили, немногие добравшиеся сюда современные путешественники восхищались ими, а сами они оставались такими же безмолвными, как лесные деревья.
Но через несколько месяцев за них заговорили экспедиционные археологи. Внутри постаментов, на которых стояли изваяния, и под ними был найден древесный уголь. Это позволило датировать культовые платформы радиоуглеродным методом, как перед тем мы датировали три чередующихся культурных слоя острова Пасхи. Выяснилось, что истуканы Хива-Оа были воздвигнуты около 1300 года. В это время ваятели среднего пасхальского периода уже полным ходом устанавливали исполинские статуи, которым предстояло прославить остров. Но наши раскопки показали, что еще до того скульпторы раннего пасхальского периода изготовили множество каменных великанов, похожих, как родные братья, на древнейшие статуи Тиауанако в Южной Америке. И получалось, что на ближайшем к Америке острове истуканов воздвигали задолго до того, как на Маркизах вообще началось ваяние. К тому же обнаруженная в кратерных болотах Пасхи цветочная пыльца позволила установить, что раньше он, как и все остальные острова теплого пояса Тихого океана, был покрыт лесом. Не было недостатка в древесине. Первые поселенцы свели лес, чтобы расчистить место для обширных каменоломен, для посадки американского батата, для больших деревень, состоявших из неполинезийских каменных построек. Словом, первые же раскопки нарисовали картину, обратную той, которую предлагали раньше, подгоняя ее под господствующую догму.
Но об этом, понятно, никто из нас не знал, когда мы с Лив, завершив наш первый визит в Пуамау, оседлали коней и простились с Генри Ли и его семьей. Напоследок мы еще раз проведали веселого француза, а затем двинулись по следам Тераи вверх по извилистой тропе, ведущей в горы.
Мы любовались видом, искали взглядом бескрылую птицу, беседовали — и запутались в тропинках на поросших папоротником буграх. Ошибка обнаружилась, когда тропа свернула вниз в глубокую долину Ханаиапа — ту самую, в которую Тераи направился из Пуамау. Небо заволокли тяжелые тучи, близился вечер, дотемна все равно не отыскать нужную тропу… И мы решили спуститься в последнюю из трех обитаемых долин Хива-Оа, где еще не бывали.
Когда мы начали спуск по серпантину, оставив позади горные плато, нам открылась довольно мрачная картина. Обе известные нам долины были образованы полукруглыми кратерами; здесь же мы увидели обращенное на север, к ревущему океану, глубокое и темное ущелье с нависающими безжизненными кручами.
На дне ущелья, у подножия отвесной стены, нам попалась неприглядная хижина обычного типа: привозные доски, неоткрывающиеся застекленные окна, рифленое железо. Мы постучались в дверь, осторожно заглянули в окно. Пусто. Ни циновок, ни другого инвентаря — очевидно, хижина заброшена.
Несколько дальше стояла еще одна, такая же постройка. И в ней обитали только ящерицы и пауки. Унылое зрелище… Лишь на лесной прогалине у самого берега моря увидели мы людей, Но и тут большинство домов пустовало. Мы рассмотрели целых три церквушки. Куда теперь направиться?
Пока мы размышляли, меня схватил за ногу какой-то оборванный тип. Он пытался мне что-то втолковать, но я плохо разбирал его речь. Темнота не позволяла разглядеть его лицо, однако мне показалось, что он больной и не совсем нормальный.
— Вене, — настаивал островитянин. — Плюй томпер.
На ломаном французском языке он твердил, что надвигается дождь. И предложил нам остановиться в доме протестантского священника.
— Мерси, — ответил я. — Мы будем ночевать на воле.
Островитянин, не выпуская моей ноги, энергично замотал головой и показал на небо. Там сгущались черные тучи, сверху по склонам ущелья сползал туман, Где-то в горах рокотало. Гроза. Довольно редкое для этих островов явление; значит, надо ждать нешуточной бури. Все же мы сдались только после того, как первый электрический разряд наполнил ущелье оглушительными громовыми раскатами и обрушил на нас ливневые каскады. Пришлось искать убежища на веранде священника.
Быстро спустилась ночь. Дождь лил как из ведра, тьму непрерывно рассекали ослепительные молнии, гром перекатывался между склонами, словно между крепостными стенами. Мы прочно застряли на веранде.
Мотаро — так звали приветливого хозяина этого дома — неторопливо рассказывал нам о долине, в которую нас нечаянно занесло. В Ханаиапе осталось всего три десятка жителей, все — полинезийцы. В деревне зверствует туберкулез. Суеверие не позволяет местным жителям предавать земле останки, и покойников кладут под пол хижины. В таких домах, говорил священник, все умирают. Слоновая болезнь и проказа здесь тоже распространены сильнее, чем в других долинах. Из тридцати жителей деревни двое потеряли рассудок.
Мы дремали, снова просыпались и не могли отделаться от ощущения, что нас окружает сплошной кошмар. Сверкали молнии, гремел гром, но мы не уходили с веранды. Сколько бы ни возмущался и ни обижался хозяин, ничто не могло нас заставить укрыться в доме и разделить ложе с другими гостями. Тогда уж лучше выйти под ливень. От кашля, стонов и причитаний, которые доносились через открытую дверь, у нас мурашки бегали по телу.
Среди ночи мы подскочили от зловещего шума. Сначала посыпались камни, потом раздался грохот, и в долину обрушилась часть нависающей скалы. От страшного гула все проснулись и в панике выскочили на веранду; дом дрожал от скатившегося в речку обвала. Постепенно эхо смолкло, но по склону продолжали прыгать большие и малые камни. И непрестанно полыхали молнии. Долго рядом с нами на веранде сидели перепуганные люди; наконец они вернулись в комнату и снова легли. Для жителей Ханаиапы обвал был привычным явлением.
К утру погода наладилась; тяжелые тучи ушли в море, продолжая громыхать и сыпать молниями. Взошедшее солнце осветило свежую влажную брешь на склоне. От самого края пропасти вниз тянулся красноречивый след; в зарослях на дне долины появилась широкая просека, заканчивающаяся грудами камня. Маленькая речушка разлилась и заполнила почти всю долину. Казалось, к заливу медленно катит поток расплавленного шоколада.
Мы не мешкая сели на коней. И с досадой увидели, что у нас появился спутник: впереди по тропе ехал верхом вчерашний дурачок. Он ни за что не хотел пропустить нас вперед. И так как накануне в темноте мы мало что смогли рассмотреть, самозванный провожатый ухитрился завлечь нас совсем на другую тропу.
К тому, же наше внимание поминутно отвлекали окружающие картины. Куда ни погляди — старые каменные стены. Вот огромная глыба, испещренная уже знакомыми нам ямками, рядом — плита с высеченным на ней изображением огромной ящерицы. Что-то очень старинное. Меня удивило, что художник изобразил маленькое животное, которое не считалось съедобным и не было предметом поклонения. Да еще так его увеличил. В Полинезии вообще не водились крупные рептилии. Самым большим представителем этого класса, которого видели мы с Лив, был наш жилец геккон Гарибальдус. Но ведь ни одному полинезийцу не пришло бы в голову увековечить его сильно увеличенный образ на каменной плите. Чудеса да и только.
Когда же начнется подъем? Тропа продолжала углубляться в заросли. Я встревожился. Что происходит?
Вот так штука! На земле перед нами лежали сотни человеческих черепов, и я понял наконец, что островитянин завел нас не туда. Вымощенная плитами прогалина в лесу была усеяна большими и малыми, белыми и плесневелыми, целыми и разбитыми черепами. Лежа бок о бок, они таращились в разные стороны пустыми глазницами и словно вдыхали лесной воздух костяными ноздрями. Я резко повернулся к нашему проводнику, требуя объяснения, островитянин обнажил в бессмысленной улыбке беззубые десны. Ясное дело: один из двух сумасшедших, про которых нам говорил священник. Соскочив с коня, я присмотрелся поближе к черепам. Одни принадлежали длинноголовым, другие — широкоголовым. Если верить форме черепа, у этих полинезийцев были разные предки. Где-то произошло смешение, то ли здесь, на Хива-Оа, то ли на неизвестной прародине полинезийцев. Совершенно очевидно было также, что в прошлом островитяне, будь то каннибалы или вегетарианцы, не могли пожаловаться на зубы.
Я вскочил на коня, и мы с Лив, преследуемые по пятам придурковатым островитянином, помчались рысью обратно, пока я не отыскал тропку, ведущую в горы. Здесь ухмыляющийся островитянин отстал, а мы продолжали подъем по серпантину со всей скоростью, на какую были способны наши лошадки.
Наверху мы остановились и еще раз окинули взором долину Ханаиапа. Над деревушкой с тридцатью жителями, тремя церквами и тысячами черепов снова собирались тучи.
Мы не спеша пересекли вольные горные плато и спустились в широкую, подковообразную долину Атуана.
Улыбающийся Тераи освободил наши ноги от бинтов. Болячки отлично заживали; правда, шрамы грозили остаться навсегда. Мы оставили коней и дошли пешком до наших китайских друзей. Нас встретили радостные возгласы и кипящие кастрюли. Ешь, отдыхай и жди очередной шхуны…
Прошло несколько дней. Мы сидели на веранде китайца, пили зеленый чай из пиал. В это время на дороге показался симпатичный коренастый радиотелеграфист Бельвас. У него была такая походка, словно он ступал по пружинному матрацу. Остановившись перед лавкой Боба, Бельвас развернул телеграфный бланк и торжественно зачитал текст окружившим его слушателям — Бобу, Триффе и горстке полинезийцев. Телеграмма извещала о назначении нового губернатора Французской Океании. Он уже вышел в море на военном корабле, чтобы посетить с официальным визитом Хива-Оа и Нуку-Хиву перед тем, как обосноваться в губернаторском дворце на Таити.
Не успел Бельвас убрать телеграмму, как поднялась страшная суматоха. В одно мгновение новость облетела всю деревню. В Ханаиапу и Пуамау был отправлен верховой гонец с наказом вызвать всех, кого еще держали ноги, в Атуану, где Триффе собирался организовать грандиозный прием в честь губернатора.
Все более или менее значительные обитатели Атуаны собрались на совещание. Уж коли представилась возможность осуществить некоторые меры по благоустройству, нельзя ее упускать. Когда-то еще они смогут обратиться лично к губернатору. Участники совещания горячо обсуждали различные предложения. Боб считал, что пора отменить ограничения на продажу спиртного островитянам. В неделю ему разрешалось отпускать им только по одной бутылке вина на брата. Он вовсе не гнался за прибылью, но ведь известно, что островитяне сами гонят спиртное из зеленых кокосовых орехов и упиваются до смерти. Пора с этим покончить.
Вельвас выступил с возражением. Белые могут покупать сколько угодно вина у Боба и на шхунах. Очень удобный и дельный порядок. А если отменить ограничения для островитян, они и впрямь упьются до смерти. Сейчас все же не так пьют, ведь не каждому охота лазить на пальмы за орехами и самому гнать вино.
Предложение Боба провалилось.
Единогласно постановили просить разрешения провести водосток под деревенской улицей. И все мечтали об электрическом генераторе для уличного освещения. На Таити уже провели электричество.
Следующий оратор заявил, что Фату-Хива нуждается в санитаре вроде Тераи. И рассказал про своих родичей на Фату-Хиве, лишенных всякой медицинской помощи. Последовали возражения. Дескать, ситуация на Фату-Хиве настолько бедственная, что все равно поздно что-либо предпринимать.
Решили воздержаться.
Триффе больше всего волновала программа встречи. Пляски, сказал Боб, хюла. Европейцам нравится смотреть, как девушки вертят задом. Все были согласны. Но очень уж мало девушек, пусть мужчины тоже участвуют. Костюм? Соломенные юбки, предложил Бельвас. Ему возразили. Чего доброго, губернатор подумает, что попал к каннибалам. Боб горячо ратовал за новые белые костюмы для всех участников. У него есть как раз то, что нужно. Один островитянин поддержал Бельваса. Современные танцовщики на Таити выступают в лубяных юбках. Гости из Европы одобряют такой наряд.
Развернулась жаркая дискуссия. Зачем принимать губернатора в дикарских одеяниях, когда можно одеться прилично? Большинство было за длинные белые платья для женщин, белые сорочки и отутюженные белые брюки для мужчин. Но сторонники лубяных юбок не унимались. Пришлось пойти на компромисс.
Когда губернатор прибыл на сером крейсере и высадился на берег, сопровождаемый свитой в безупречных белых мундирах, его встретили двойные шеренги танцоров, тоже в белом. Но поверх платьев и брюк были привязаны длинные лубяные юбки с болтающейся бахромой. Все остались довольны. Крейсер ушел; белый человек лишили раз полюбовался своей тенью; тропическое солнце озарило новую ступеньку на лестнице прогресса, ведущей в никуда.
Кто-то возложил венок на скромную могильную плиту Поля Гогена. Кто-то ценил его краски. Я подумал, что Гоген был миссионером наоборот. Пытался цивилизовать нас с помощью теплых красок островного народа. Мы же сумели убедить островитян в преимуществах белого воротничка. Я и сам надел воротничок в честь прибытия губернатора. А вернувшись в отведенный нам домик, сорвал его. Не сомневаюсь, что губернатор сделал то же, как только остался один в своей каюте.
Жарко… Обмотав бедра красно-зеленым пареу, я растянулся на панданусовой циновке на веранде. Прилично и прохладно, и никто не придерется, пока я сижу дома.
Меня тянуло на Фату-Хиву. Там мы были ближе к природе. Глупо сдаваться, не сделав еще одной попытки. Ноги Лив почти совсем зажили, и она решительно восстала против того, чтобы проситься на крейсер и плыть на Таити. Проводив взглядом ощетиненное пушками чудовище, мы не сомневались, что вернуться в Европу — значит увидеть, как современное общество рушится под тяжестью своих танков и линкоров. Независимо от того, кто с кем будет воевать. У нас был только один враг — фатухивские комары. И мы решили еще раз схватиться с ними. Лучше комариное жало, чем бомба. Тысячи жал не так страшны, как один штык.
Нас тянуло на Фату-Хиву, в нашу бамбуковую хижину.
Остров дурных предзнаменований
Я проснулся от звона тяжелой якорной цепи и увидел, что рядом со мной лежит очаровательная полинезийка. Ветер трепал ее черные волосы. Вечером, когда я засыпал, ее тут не было. Вдали, совсем низко над горизонтом, покачивалось солнце — в следующую секунду его заслонил толстый гик. Только я хотел сесть, как пришлось живо распластаться на палубе, чтобы гик не снес мне череп. Неизвестная красавица рассмеялась, потом натянула одеяло к самому носу. По другую сторону от меня спала Лив, и всюду на палубе лежали люди, закутанные в пледы и коврики.
Качка усилилась, и я вспомнил, что накануне мы поднялись на борт шхуны «Моана», которая бросила якорь под защитой мыса Атуана. Она пришла за копрой через две недели после молниеносного визита военного корабля. Очевидно, остальные пассажиры явились ночью или на рассвете. Из трюма доносились громкие голоса, но те, кому был не по душе тошнотворный запах машины и копры, подобно нам устроились на люке, под самым грота-гиком.
Но вот якорь поднят, ветер наполнил грот, и «Моана» белым орлом скользит к выходу из зеленой бухты. Парус прочно удерживал гик у правого борта, можно было спокойно сесть и полюбоваться напоследок широкой долиной Атуана, пока она не исчезла вдали. Прощай, долина Тераи, мистера Боба и Поля Гогена! Что тебя ждет? Может быть, и впрямь появятся уличные фонари, откроется свободная продажа спиртного. А может быть, такие люди, как Тераи и мадам Хамон, возродят здесь власть солнца.
Огибая мыс, мы приметили развалины нескольких построек. Здесь находился госпиталь для прокаженных. Недавно дома сломали и сожгли, чтобы истребить бациллы и помешать распространению заразы. А обитателей маленького поселка отправили в их родные деревни; лишь кое-кого перевели в госпиталь на Таити.
Вечный пассат подул в полную силу, мы жадно вдыхали свежий соленый воздух — дыхание безбрежного океана. Два-три островитянина озябли и укрылись пбд палубой, остальные укутались поплотнее в одеяла. В этот ранний час было еще довольно прохладно. Трем молодым вахинам слева от меня не терпелось познакомиться с нами, они пересмеивались и кокетничали, но тут по шхуне распространилась новость, которая прогнала улыбки с их лиц.
На борту находится сумасшедший: в трюме заперт опасный преступник, его везут на Таити. Он нарушил табу, и его постигла кара. От шкипера мы услышали подробности.
Задумав посадить кокосовые пальмы на заброшенных землях, в обезлюдевшей долине рядом с Атуакой поселилось несколько полинезийцев, двое даже с Таити приехали. В той же долине стояло огромное старое дерево, охраняемое строгим табу. Но молодые таитяне не испугались священного запрета, подошли к дереву и обнаружили дупло. А в дупле лежали три необычно больших человеческих черепа. Они таких в жизни не видели. Алчность взяла верх, и парни забрали черепа, рассчитывая сбыть их туристам на Таити за хорошую цену.
В ожидании шхуны, идущей в Папеэте, они спрятали черепа в чемодан. Но в первую же ночь, как потом рассказывали жандарму, черепа начали скулить.
Один парень почувствовал угрызения совести и хотел сразу же отнести черепа на место. Другой уперся, его манили деньги, он не верил ни в какие табу. Между тем в чемодане поднялся такой шум, что даже соседям было слышно. Тут и второй парень перепугался, да так, что потерял рассудок. Схватил мачете и бросился на своего приятеля, собираясь отсечь ему голову. Завязалась драка. Наконец соседям удалось обезоружить свихнувшегося таитянина. Его доставили через горы в Атуану и сдали жандарму. И вот теперь его везут в тюрьму в Папеэте.
Я подумал о том, что маркизские крысы, судя по всему, охотно селятся в пустых черепах…
Вскоре с левого борта над качающимся горизонтом показался островок Мотане. Тот самый, очертания которого мы видели, когда направлялись на север. Тогда мы прошли вдали от него, теперь же, к нашему удивлению, капитан велел смуглому рулевому править прямо на необитаемый остров. Дескать, не мешает запастись провиантом, свежим мясом.
Неясный силуэт сменился трехмерным ландшафтом, и нашим глазам предстало неожиданное зрелище. Мы-то приготовились увидеть густой зеленый лес, как и всюду, где природа отвоевала земли, покинутые человеком. Но тут — ничего подобного. И мы вспомнили, что нам говорили на Хива-Оа старый француз и Генри Ли: на Мотане вмешательство человека Лигубило лес.
Шлюпка приблизилась к острову с подветренной стороны, насколько позволял прибой, и мы прыгнули на скалы у подножия отлогого пригорка. Высадив кроме нас горстку полинезийцев, лодка отошла на безопасное расстояние.
Несколько человек, одетые в одни только пестрые пареу, вооружились острогами и нырнули в бушующее море, чтобы поохотиться на рыб и лангустов. Остальные поднялись на пропеченный солнцем склон: белый, сухой, стерильный песок, мелкие камни, голые плиты… И ослепительно яркий свет, словно на коралловом пляже. Тут и там торчали сухие кустики с толстыми кожистыми листьями. И вся растительность. Ни дерева, ни травинки, солнце без помех жгло не защищенную древесными кронами землю. Кругом простиралась подлинная пустыня. Изредка попадались мертвые белые стволы без коры, без листвы, будто выгоревшие кости. Голые сучья призрачными пальцами тянулись к голубому небу.
И всюду валялись побеленные солнцем кости, кривые рога, черепа животных. Куда ни повернись, одна картина: источенные ветром камни, сухой кустарник, скрюченные овечьи скелеты. На мертвом дереве сидел и кукарекал одичавший петух, издалека ему откликался другой.
Когда-то здесь жили люди. Нам встречались старые полинезийские фундаменты паэпаэ, искусно сложенные из валунов. На Маркизских островах строители всегда заботились о том, чтобы пол дома был поднят достаточно высоко над сырой лесной почвой. Сырой почвой… На Мотане от нее не осталось и следа. Нигде ни капли влаги, сплошь сухой песок. Правда, в ложбинах и ущельях мы увидели высохшие русла с глубокими заводями. От этой картины полного безводья сразу стало как-то сухо во рту… А соленый душ, которым нас обдали разбивающиеся о камни волны на наветренной стороне острова, заставил еще острее ощутить нехватку питьевой воды.
Мы шли без провожатого, да он и не был нужен, чтобы ориентироваться на этом голом клочке земли и разобраться, что тут произошло. Остров Мотане представлял собой поле битвы, на котором современный человек одолел природу. На других островах архипелага дебри победили. Здесь — нет. Там, где победили дебри, человек вполне мог обосноваться вновь. Здесь — нет. На Фату-Хиве и на Хива-Оа мы видели последствия стараний белого человека утвердиться и улучшить условия для себя и полинезийских хозяев. Он ввел свой образ жизни, привез своих домашних животных — и нарушил баланс природной среды. И когда его попытки «помочь» островитянам потерпели крах, он отступил, испугавшись собственной тени. А дебри шли за ним по пятам, местами до самого берега, и вернули всю потерянную территорию.
На Мотане получилось иначе. Остров был мал, чересчур мал, чтобы выстоять в неравном бою. Со времени прихода первых европейцев на Маркизских островах шла непрерывная жестокая борьба за существование, и борьба эта потребовала немалых жертв. В 1773 году, по подсчетам капитана Кука, на Маркизских островах жило 100 тысяч человек. Следом за ним явились европейские поселенцы, китобои, миссионеры, и началась трагедия. Сто лет спустя, в 1883 году, перепись населения дала цифру 4 865 жителей. Этнолог Ральф Линтон в 1920 году насчитал около трех тысяч, из которых многие были китайцами или метисами; на Тахуате ему сообщили, что смертность чуть не в сто раз превышает рождаемость. Возможно, какие-то из этих цифр преувеличены, но все равно потери в борьбе против привезенных европейцами инфекций и нового образа жизни достигали потрясающих размеров. На Мотане вообще не осталось никого, кто мог бы рассказать о прошлом этого острова призраков.
Поднявшись повыше, мы впервые увидели какуюто живность. Две-три овцы с ягнятами, испуганно блея, бросились наутек в сухой кустарник. Маленькие, тощие, облезлые… Трое босых матросов с «Моаны» ринулись вдогонку и легко настигли изможденную скотинку. Охотники попросту хватали овец руками и несли к берегу, взвалив добычу себе на плечи. Мы с Лив молча смотрели на это печальное зрелище. Повернувшись к нам, замыкающий с торжествующим смехом сказал, что мы можем подождать здесь, они еще вернутся, чтобы продолжать охоту. Овечки костлявые, мяса на них маловато.
Ослепительное солнце показалось мне луной, озаряющей заброшенное кладбище. Призрачно-белые деревья среди костей и черепов — словно памятники над разоренными могилами. Полдень сменился полночью.
Вот еще один каменный фундамент, древний паэпаэ. Некогда на нем стоял дом. И была дверь, через которую сновали детишки и входили, пригнувшись, мужчины с острогами в руках. А в доме женщины их ждали с ароматным пои-пои и печеными хлебными плодами. Может быть, как раз вот эти голые ветви иссохшего дерева некогда гнулись под тяжестью плодов.
Но в голубом заливе за рощей бросил якорь большой европейский парусник. Люди в треуголках и странных одеждах, с грохочущим огнестрельным оружием сошли на берег, требуя воды, плодов, поросят, женщин. С собой они привезли странных животных с длинными зубами на голове, привезли ром и рецепты напитков, куда более крепких, чем невинная местная каза, привезли свои обычаи и нравы, привезли заразные болезни. Островитяне все принимали с восхищением и благодарностью. Пришел конец дикости в Полинезии. Заодно пришел конец полинезийской культуре. А на Мотане всему пришел конец. Может быть, последний житель острова испустил дух на панданусовой циновке. Как раз на этом паэпаэ, где мы присели отдохнуть. Может быть, последняя семья, отчаявшись, села на лодку и бежала на Хива-Оа, чьи вершины можно было различить на горизонте в ясную погоду. Может быть, последним жителем острова был ребенок, одиноко бродивший среди деревьев и животных. Нам остается только догадываться.
Но мы точно знаем, что брошенный людьми остров одичал. Самыми живучими оказались овцы. Те самые овцы, которые, по мысли белого человека, должны были стать последним добавлением к тому, чем сама природа облагодетельствовала островок. На материке хищники помогли бы поддерживать естественное равновесие, позаботились бы о том, чтобы от каждой одичавшей пары в среднем оставалось не больше двух ягнят. Но на Мотане с исчезновением человека ничто не мешало овцам размножаться сверх всякой меры. Многочисленные стада поедали траву, листья, выгрызали корешки, обгладывали кору, так что деревья зачахли и остров превратился в пустыню. Без деревьев, прикрывающих землю от жгучих лучей солнца, без корней, удерживающих влагу, каждая капля дождя уходила в глубь грунта. Без питания высохли ручейки и речушки, не осталось никакого намека на влагу. Биологические часы Мотане не просто остановились — они пошли назад, и теперь стрелки показывали случайному гостю, как примерно выглядела наша планета до того, как из моря на сушу пришла жизнь. Если матросам «Моаны» удастся выловить последних тощих овец, этот миниатюрный мирок уподобится планете Земля той поры, когда только океан и воздух были освоены живыми организмами. Той далекой поры, когда время точило камень, превращая его в песок, когда песок и вода с помощью солнца наполнили сперва моря, потом воздух тварями, которые плавали и летали вдоль безжизненных берегов. Сколько миллионов лет пришлось бы нам просидеть на паэпаэ, дожидаясь, когда выброшенные на берег водоросли снова обратятся в траву и деревья? Когда рыбы снова выберутся на сушу и обзаведутся легкими, конечностями, мехом? Наверно, предки маленькой рыбешки, которую мы видели на Фату-Хиве, сотни тысяч лет резвились на приморских скалах, однако ни одна из них не сделала даже первого шага на долгом пути к превращению в кенгуру или обезьяну.
Нет уж, лучше поберечь тот мир, который нам достался. Очень много времени понадобится, чтобы образовался новый…
Мы успели задремать, сидя на паэпаэ, когда матросы наконец прекратили охоту и пришло время возвращаться на «Моану». Чистые воды вокруг островка кишели морской живностью. Среди богатого улова, добытого ныряльщиками, было много жирных мурен. Сваренные в кокосовом соку из захваченных с ХиваОа зеленых орехов, эти чудовища оказались куда вкуснее, чем рагу из тощих овечек.
Еще до захода солнца остров песка и костей скрылся за горизонтом. Мы словно путешествовали в космосе. Словно покинули мир, который был то ли намного моложе, то ли намного древнее нашего. Кутаясь в одеяло и втискиваясь между Лив и смешливыми вахинами, я мечтал поскорее вернуться в маленький зеленый мирок с журчащими ручьями и щебечущими птицами. Я безумно соскучился по нашей хижине на Фату-Хиве!
Да, только так называемый белый человек, одержимый страстью к переменам, к прогрессу, мог погубить райский островок, с которым так называемые туземцы обращались очень бережно.
А впрочем, верно ли это? Тогда я не подозревал, что голый остров Пасхи в прошлом тоже был покрыт пальмами и деревьями, но люди свели их. Причем это были те самые люди, которые задолго до прихода европейцев расставили по всему острову огромные статуи. Древние скульпторы рубили и жгли лес и кусты, пока — совсем, как на Мотане, — не высох последний ручей. Затем явился белый человек и стал разводить овец на оголенном острове. Но на Пасхе между камнями росла трава, рос папоротник; ведь как ни поредело коренное население от привезенных болезней, оставшихся жителей было достаточно, чтобы не дать овцам размножиться сверх меры.
Покидая Мотане на шхуне, я еще не знал, почему остров Пасхи на крайнем востоке Тихого океана стал бесплодным, поэтому мысли мои обратились к Месопотамии и странам Средиземноморья, где всем было известно, что человек давным-давно извел зеленые леса. Известно, что во времена шумеров и финикийцев пустыни Среднего Востока были плодородным краем, густые леса покрывали Ливан, Кипр, Крит и Элладу с прилегающими островами, пока люди не срубили их, чтобы строить дома и корабли и расчистить земли для возделывания. Кое-кто считает даже, будто пустыня Сахара — дело рук человека: пастушеские племена сожгли леса, а затем многочисленные стада коз и овец погубили пастбища. Современная наука как будто подтверждает это. Мы знаем, что Сахара продолжает наступать в южном направлении, в год на два-три километра, а то и больше, и одна из причин — неразумное землепользование. В сердце Сахары обнаружено множество древних наскальных фресок, на них изображены типичные обитатели дождевого леса, в том числе бегемоты. В районе Джанета на юге Алжира в трех различных местах древние фрески изображают серповидные тростниковые лодки такого же вида, какие нарисованы на скалах Верхнего Египта 11.
Выходит, когда писались фрески, на месте нынешней Сахары были леса и болота, но люди превратили плодородный край в безжизненную песчаную пустыню.
Посещение обреченного островка в море между лесистыми нагорьями Хива-Оа и Фату-Хивы надолго врезалось в память. Может быть, именно воспоминание о судьбе Мотане побудило меня много лет спустя добывать образцы цветочной пыльцы на голом острове Пасхи. И уж во всяком случае оно послужило сигналом тревоги, который заставил меня энергично защищать окружающие цветущие ландшафты, когда я уже в пятидесятых годах обосновался в маленькой средневековой деревушке среди лесистых холмов итальянской Ривьеры. Из года в год сражался я на стороне могучих деревьев, отступающих под натиском человека. Ведь из года в год лесные пожары опустошают Средиземноморское побережье Франции и Италии.
Прежде главными виновниками пожаров были пастухи, птицеловы, неосторожные туристы. Теперь пастухов давно нет, зато на смену им пришли строительные подрядчики, которым «зеленые пояса» стоят поперек горла, да пироманы, отводящие душу в заброшенных лесах. Тлеющий окурок на высохшем навозе, огарок свечи на сухой хвое — много ли надо, чтобы незаметно подпалить густой подлесок, поднявшийся между стволами после того, как диких животных истребили, а крестьяне и пастухи перебрались в города, нашли себе место в сфере обслуживания, на пляжах и в отелях. Только гарь начнет покрываться новым кустарником и молодыми деревцами, как разражается второй пожар, за ним — третий… Кому какое дело до леса, который перестал приносить доход со времен угольщиков? Редкие любители природы бьют тревогу, немногочисленные местные пожарные дружины трудятся как черти, а люди, некогда кормившиеся землей, стоят на пляже и вместе с туристами любуются морем огня на склоне горы…
Судьба Мотане угрожает остаткам зеленых массивов Средиземноморья, и в наши дни процесс идет куда быстрее, чем шел он в древности. От пустынь Сахары и Месопотамии на юге и востоке, через оголяющиеся острова и жалкие остатки пышной природы эллинского мира опустошение распространяется на запад. Сгоревший лес не скоро восстанавливается. Если же он за десять лет горел трижды, меняется вся ситуация. Корни умирают, ручьи и речки пересыхают. Дождь вымывает из почвы драгоценный перегной, тоннами уносит его в море. Остается стерильный песок, голый камень. После сильного ливня шоколадная полоса вдоль побережья отчетливо говорит, куда девается драгоценная пресная вода и бесценная плодородная почва. Они возвращаются туда, откуда некогда вышла вся жизнь на земле, — в океан.
Мотане — далеко не единственное место на нашей голубой планете, где одержимый страстью к улучшениям человек крутит биологические часы в обратную сторону.
В долине каннибалов
Казалось, высокие пальмы нарочно выстроились для встречи вдоль королевской тропы. Не чопорные флагштоки на параде, а приветливо махающие представители зеленых дебрей Фату-Хивы желали нам «добро пожаловать» обратно в нашу родимую долину. Так и хотелось помахать в ответ, ведь мы знали их всех — и длинных, и коротких, и кривую, которая изогнулась над тропой, но потом, спохватившись, исправила ошибку и тоже потянулась вверх. Каждая пальма — наш личный друг. И так же мы воспринимали грозди орхидей на узловатых ветвях у нас над головой. Как будто они, не двигаясь с места, ждали нас с того самого дня, когда мы уехали. Мы узнавали свисающие в зеленый коридор лианы и воздушные корни. Легкое приветственное прикосновение, и они уже покачиваются за спиной.
Наш мир. Наша долина. Мы вернулись к себе домой, мы шли к нашей пожелтевшей бамбуковой хижине. Душа радовалась.
Босые, одетые в легкие пареу, мы вновь ощущали бодрящий контакт с подлинной жизнью, и природа играла на своих инструментах, будоража все наши органы чувств. Лес ласкал кожу, наполнял легкие теплым благоуханием. Мотане
— мертвая планета — остался позади, погрузился в соленые волны. Мы снова вступили в живой мир, где бабочки и пичуги по-прежнему вольготно порхали на солнце или в прохладной тени под зеленым пологом. Тучный перегной мощным слоем выстлал бесплодный камень, обеспечив опору и питание для грибов, корней, стеблей и могучих стволов. Не стерильный песок, а почва, в которой растет и копошится всякая мелюзга. Образец доставшегося человеку чудесного наследия: природа в седьмой день творения.
Мы углублялись в лес веселые, полные радостных предвкушений, словно дети, спешащие на день рождения. Кругом простирался мир, где ничто не сковывало нас, не ограничивало наши порывы и чувства.
Хотя день выдался облачный, нам казалось, что долина озарена солнцем. Облака не делали погоды. Воздух в дебрях по-прежнему был влажный, но теперь мы радовались влаге. Даже запах грибов и плесени был нам приятен. Все воплощало бьющую через край жизнь и плодородие. Накануне мы посетили остров, где даже грибы не хотели расти. За ночь совершили прыжок из мертвого мира обратно на живую планету. Планету, где листья роняли бусинки воды. Где журчащие ручейки вбегали на цыпочках в пляшущие речки. Где среди зелени деловито жужжали насекомые, выискивая, куда окунуть свой хоботок, словно им платили за то, чтобы они смазывали сложный животворный механизм, который обеспечивал нас тенью, воздухом, пищей.
Мы смотрели на все так, будто с глаз упала пелена, и всему восторгались, как восторгается путешественник в неведомом краю, хотя мы возвращались в собственный дом. Снова природа окружила нас множеством вопросов, над которыми стоило задуматься. Пустынный, голый островок Мотане не шел у нас из головы. После несчетных тысячелетий он возвращался к первобытному бесплодию. Таким же голым был вначале Фату-Хива. Сегодня здесь пышный лес, вчера его не было, завтра, быть может, опять не будет. Так сказать, заем на неопределенный срок. Но откуда все эти миллионы тонн сочной древесины, откуда сложнейший комплекс взаимозависимых жизней? Ветер и течение принесли отдельные клетки, а из них возникло все это изобилие живых, умирающих, гниющих и возрожденных видов. Масштабы времени не позволили нам наблюдать это превращение голого камня в зеленое царство; чудесное взрывное развитие органической материи произошло незримо для глаз человека и зверей, как незримо немое чудо банана, который за один сезон неприметно вырастает из черной земли. Подобно всем животным, человек — ради самозащиты — создан так, что его зрение, слух, обоняние, осязание реагируют на резкие изменения. Все постоянное, однообразное, неподвижное усыпляет нас. Мы не видим кончика носа, неизменно маячащего у нас перед глазами, не слышим привычного шума улицы или водопада. Собака спокойно спит под тянущейся вверх яблоней, птица безмятежно сидит среди медленно разрастающихся ветвей; они не замечают набухающих среди листвы яблок, пока одно из них вдруг не свалится на землю. Природа привила всем нам, живым тварям, способность замечать лишь происходящие поблизости от нас быстрые перемены, которые могут оказаться опасными. Наши восприятия не настроены на медленные изменения, ведь они редко представляют для нас угрозу. Чаще всего они связаны с безмолвной работой природы, она-то и обеспечивает нам хлеб насущный и необходимую для жизни среду.
Два маленьких прыжка на шлюпке, которые в одни сутки перебросили нас с голого острова в подлинно райские кущи, каким-то образом повлияли на частоту наших внутренних приемников. Нам казалось, что возникший из моря голый лавовый массив вдруг оделся великолепным лесом. В самом деле, ведь долина, по которой мы шли, когда-то была еще стерильнее, чем нынешний Мотане, — ни одной зеленой травинки, ни единой щепотки перегноя. В пучинах времени утонул процесс, создавший из ничего это зеленое богатство, словно бы принесенное ветром на ковре-самолете из тучной почвы. Голые скалы Фату-Хивы поднялись со дна морского и превратились в изобилующий яствами стол. Снующие в подлеске свиньи и ящерицы принимали это как должное. Как и наши друзья в деревне, которые сидели и ждали, когда упадут на землю созревшие кокосовые орехи, Но нам сегодня все виделось иначе. За пышной зеленью мы угадывали другой ландшафт, позавчерашний Фату-Хиву. По гребням и ущельям ползли потоки красной лавы; раскаленная пемза и пепел сыпались на текучую расплавленную долину; под нашими ногами из бурлящего океана вырастал остров. Маленький ад, умертвляющий все живое кругом, постепенно угомонился; кипящая лава застыла и образовала безжизненный фундамент Фату-Хивы. Пока ваятели самой природы — прибой и ручьи — терпеливо придавали острову его нынешний облик, пока человек еще спал в хромосомах своих примитивных предшественников, на Фату-Хиву прибыли первые крохотные поселенцы, влекомые течениями и ветром, оснащенные хромосомами, которые позволили им обзавестись корнями, ртами и прочими органами для того, чтобы сверлить, переваривать и удобрять стерильный грунт. Мельчайших семян и яичек от червей и насекомых оказалось достаточно, чтобы создать толстый плодоносный ковер, по которому мы теперь ступали, да еще украсить его мхами, травой, папоротником, кустами и могучими деревьями — всем, что нас окружало.
Дойдя до своей старой знакомой реки, мы сели на большой гладкий камень, чтобы полюбоваться текущей водой, послушать звучавшую тут и без нас мелодичную музыку. Единственными зрителями, кроме нас, были вьюрки на мшистом стволе, которые явно подстроили свои музыкальные инструменты под голос потока. В месте брода река текла так же стремительно, как во время ливней перед нашим отъездом. Мягкая земля пропиталась влагой. Рядом с моей ногой торчал гриб — чистый и белый, словно опрокинутое блюдце. Несколько дней назад его, наверно, не было; тогда я не увидел бы даже его зародыша, если бы копнул тут землю.
Обычно грибы не вызывали у меня большого восторга, разве что попадались очень интересные по форме или окраске. Этот был гладкий, белый, ничем не примечательный и вряд ли съедобный. Я ковырнул его ногой. Он сломался. На что хлипкий, а сумел пробиться из-под земли с такой силой и быстротой, что отвалил в сторону камешки. Шляпка и ножка белоснежные, чистенькие, словно девушка в выходном платье; будто этот аккуратист и не касался темного перегноя, из которого вышел.
На изломе было видно расходящиеся от ножки пластины органов размножения. Давно ли все это творение природы было величиной всего лишь с одну из своих миниатюрных спор? И что помешало грибу расти дальше? Стать величиной с зонтик, мельничный жернов, цирковой шатер. На Мотане не нашлось земли для одного-единственного гриба; здесь от пляжа вплоть до подножия круч Тауаоуохо было сколько угодно почвы. Исполинские грибы могли занять всю долину Омоа, затмить лесной полог, всосать в себя все питательные вещества, а затем опасть, словно проколотый шар, погибнуть, как погибли овцы на Мотане, когда съели всю траву.






