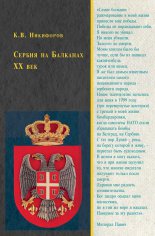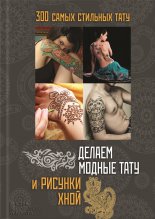Время крови Ветер Андрей
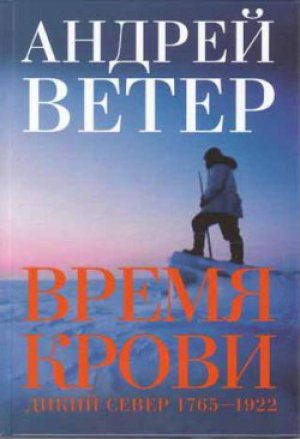
– Вы из стойбища Щуки, как я погляжу, – заговорил Степан после непродолжительной паузы.
– Да, – Тимохин мотнул головой в сторону Тэваси, – за шаманом ездили. Велено его в район свезти. Скоро всю ихнюю породу выведем.
Повисло молчание.
Вода в котле вскипела, и старуха бросила туда куски зайчатины. Когда всё сварилось, старуха выловила куски мяса и разложила их по деревянным плошкам, тёмным от въевшегося в них жира.
– Откуда сам-то? – спросил за едой Тимохин.
– Смоленский.
– А сюда что ж? Сослан был при старом режиме?
Степан кинул.
– В пятнадцатом году, с тех пор я тут. – Тёмно-карие глаза смотрели из-под рыжих лохматых бровей очень пристально.
– Из политических или по уголовной линии?
– Из политических, – без особого энтузиазма ответил Степан.
Тимохин заметно оживился.
– Но ведь мы царизм уж пять лет как сковырнули. Какого же лешего ты здесь прозябаешь, товарищ Аникин? Почему в революционный строй не вернулся? Сейчас нам партийцы старой закалки, как никогда, нужны.
– Прижился я в этих местах, ладно мне здесь, – отозвался Степан.
– В этой чёртовой глуши? – не поверил Больное Сердце и переглянулся со своими спутниками.
Степан снова набил трубку и закурил.
– Я нашёл, что хотел, – сказал он. – Охотой живу, никуда не бегу, не рвусь.
– Послушай, товарищ Аникин, – проговорил Тимохин, внимательно вглядываясь в бородатое лицо Степана, – лицо мне твоё будто знакомо… Ты в девятьсот пятом в Москве случаем не был?
Рыжебородый посмотрел на гэпэушника сквозь расплывшееся облачко табачного дыма.
– На Пресне был, – сказал он с расстановкой, – под красным флагом на баррикадах стоял, от казаков метку шашкой получил, аккурат здесь чиркнули. – Степан указал пальцем на затылок. – Уйти не смог, угодил за решётку.
– То-то я смотрю! – обрадовался Тимохин. – Мы ж с тобой на Триумфальной во время митинга в одной дружине ходили. Не припомнишь? Ты меня, когда солдаты стрелять начали, раненого выволок оттуда. Ну? Неужто не вспоминаешь? В подвале ты меня перебинтовывал, руку мне вот тут, ниже локтя подбило… Тимофей я… Тимохин… С нами ещё товарищ Штык был, помнишь?
– А-а-а… Так вот, выходит, где снова свиделись, – улыбнулся Степан. – Как рука-то, пулю вспоминает?
– Иногда ноет. Да меня с тех пор пять раз свинцом ковыряли на Гражданской. Дело привычное, – сказал Тимохин не без гордости.
– Человек ко всему привыкает.
– Вот тут я с тобой не соглашусь, друг. Я здесь второй год мытарюсь уполномоченным ГПУ, а привыкнуть не могу. Да и не хочу привыкать. Я к лобовой атаке приучен, к кавалерийскому топоту, а не к этой оленной волынке… Тьфу! Не понимаю, что ты делаешь тут, товарищ Аникин.
– Живу. – Степан почесал бороду.
– Подальше от людей, что ли, ушёл?
Степан промолчал.
– Может, ты с революцией в чём разошёлся? – спросил Тимохин.
– Разошёлся? Пожалуй, особливо ни в чём. Просто революционного воздуха я наглотался досыта, – Степан пыхнул сизым дымом, – мне этого удовольствия больше не надобно. Это всё в прошлом.
– Нет, товарищ, зря ты так говоришь. Молодость наша революционная осталась в наших сердцах навечно. – Тимохин с любовью погладил лежавшую на коленях шашку, в глазах его вспыхнул огонёк воспоминаний. – От тех дней и тех мыслей просто так не отвернёшься.
– Я перекипел, – проговорил Степан с неохотой, – ушла из меня вся эта пена.
– Что за пена? Уж не революцию ли ты пеной называешь?
– Вот именно. Огня много, кровищи – ещё больше. А про обыкновенную жизнь за всем этим побоищем никто думать не думал, некогда людям стало хлеб сеять, баб любить, скотину разводить. Зачем же тогда мы революцию затеяли? Зачем этот пожарище на всю страну? Неужто только ради смертоубийства, ради расстрелов и виселиц? Разве революция задумывалась, чтобы простолюдины ненависть свою излить смогли? Разве не ради справедливой жизни?
Было видно, что Степан с болью относился к этой теме; он бы и рад был промолчать, но настоявшаяся в душе печаль поднялась до краёв и требовала, чтобы её выплеснули.
– Что ты мелешь такое, товарищ? – воскликнул один из красноармейцев.
– Никак ты суть революции под сомнение ставишь? – сощурился Тимохин. – Спокойного мещанского прозябания захотелось? Тепла и уюта?
Степан удивлённо посмотрел на гэпэушника и хмыкнул.
– Оно и видно, что я выбрал для себя дорожку полегче. – Он покачал головой. – Самое что ни на есть мещанское жильё – чум. Уютно и беззаботно, так, что ли?
– Кхм, – Тимохин откашлялся, – не понимаю я тебя, товарищ Аникин. Странно мне всё это слышать. Странный ты элемент. Отколовшийся от революции, сбившийся с пути, несознательный…
– Почему же сбившийся? – Степан с наслаждением пососал курительную трубку. – Наоборот, я воротился на нормальную лыжню. Я по человеческой жизни истосковался, покуда в революционном подполье жил, как крыса.
– Это что за слова такие!
– А ты брови не хмурь. Мне ли не знать, что такое подполье. Бомбы готовили, ограбления банков организовывали, подгрызали какие можно устои, чтобы государство рухнуло побыстрее. А кто у нас на пути возникал, тех давили нещадно. Кровавый вихрь революции! Это всё по молодости хорошо звучало, пока мозги были зелёные, недозревшие.
– Это как же ты смеешь…
– Революция делалась ради человека, но про человека-то никто из нас, оказывается, не думал. Да ты на себя сейчас посмотри. Я про тебя много разных слов от Самоедов слышал. Арестовываешь, расстреливаешь. Скоро ты на здешних просторах никого не оставишь. Но растолкуй ты мне: для кого ты стараешься? Кому будет нужен этот край, когда ты всю Самоядь изведёшь? Сам-то жить ты здесь нипочём не хочешь, ты ненавидишь Север, а всё туда же – перемены насаждаешь, вершишь революционный суд! Оставь эту землю тем, кому она нравится такой, какая есть. Уезжай отсюда… Впрочем, куда тебе! Ты теперь только исполнять приказы умеешь, палачу собственные мысли ни к чему.
– Это кто ж палач-то? Не меня ли ты таким словом позоришь?
– Так ты и есть самый настоящий палач, очень даже исполнительный палач, усердный.
– Замолкни, контра! – Тимохин подался вперёд всем корпусом.
– Тебе нравится чувствовать себя командиром, – голос Степана Аникина сделался металлическим, – нравится осознавать, что ты вправе швырять в кровавый котёл новые и новые жизни. Все вы такие… революционеры: только и желаете власть свою показать, упиваетесь вы властью, пуще водки она вас хмелит! Революция лишь для того и нужна, чтобы новых людей к трону привести. И ежели ты, Больное Сердце, не понял этого, то ты не понял ни черта за весь свой долгий боевой путь!
– Я тебя, шкуру, арестую сей момент за контрреволюционную агитацию, – побелел Тимохин.
И тут Степан каким-то неуловимым движением вскинул невесть откуда взявшуюся двустволку и направил её на гэпэушника. Тимохин застыл, растерянно оскалившись. Ещё через секунду за спиной Степана поднялась во весь рост молодая женщина, винтовка в её руках решительно смотрела на красноармейцев.
– Контрреволюцией ты меня не попрекай, командир. Я не один год борьбе за социалистическую идею отдал, дважды в одиночке сидел и товарищам по борьбе палки в колёса никогда не совал, провокатором не был, хоть и разуверился в справедливости той борьбы… Тут я из-за другого остался. Суета меня заела, чёрная тупость человеческая, бесконечный бег за выживанием… Революция, она, конечно, свела меня с умными людьми, помогла яснее на мир взглянуть, но всё равно она – та же бешеная гонка… А царской охранке я даже благодарен: она избавила меня от лязга заводского, от вгрызшейся в руки ржавчины, от вони машинного масла. Лишь благодаря тому, что меня сослали на Север, я узнал, что есть совсем другая жизнь. Смешно сказать: не попади я сюда, так бы и думал, что мир наш только из пропахших копотью пролетариев состоит да безземельного крестьянства… – Увидев, как пальцы Тимохина побелели от напряжения, стиснув шашку, Степан строго свёл брови. – Полегче, командир, не трепыхайся. Застрелю, если попытаешься взять меня. Я со ста шагов бегущему зайцу в глаз попадаю, так что не пытай судьбу… Ты скажи мне лучше: чем тебе Тэваси не угодил?
– Он против советской власти агитирует, – едва слышно откликнулся Тимохин, не поднимая глаз.
– А почему он должен быть за твою власть?
– Потому как эта власть – народная.
– А Тэваси, выходит, не народ? А Самоеды, которые тут испокон жили, тоже не народ? У них тут свои порядки, которые их вполне устраивают. Зачем им твоя власть? Нет, Тэваси к политике не имеет касательства, тут ты тоже врёшь, командир. Тэваси лишь хочет, чтобы Самоеды не потеряли своего лица, чтобы народ прежним путём продолжал идти, чтобы не разучились люди слышать голос Матери-Земли. А ты его – в агитаторы… Не для добра ты сюда приехал. Уезжай-ка ты, – Степан повёл ружьём, – поднимайся с твоими заплечных дел мастерами и медленно выходи наружу. Давай, давай. Осторожненько выходите, дабы я ненароком не вздрогнул и не вжарил из обоих стволов.
– Там пурга.
– Верно говоришь. Но там у вас будет шанс остаться в живых. А в моём доме у вас такого шанса более нет. Ружьишки-то ваши не троньте, пусть лежат на месте. Ты, командир, саблю свою брось, ремни распусти. И «наган» из кобуры вытащи, незачем тебе сейчас лишний груз при себе иметь, оленям легче будет лямку тянуть.
Тимохин заскрипел зубами в бессильной ярости, но шашку всё-таки бросил к ногам, затем расстегнул скрипнувшую кобуру и злобно швырнул револьвер к костру.
– Хорошо, – сказал Стёпа и кивнул. – Выходите по одному, полог не опускайте. Хочу видеть, как вы один за другим к своим саням уйдёте. Если кто в сторону шагнёт, я немедля на спусковые крючки нажму.
Гэпэушники молча шагнули в бесноватый снегопад. Степан вышел за ними, позади него двигалась беззвучной тенью молодая женщина с винтовкой в руках.
– Зря ты так, Аникин! – крикнул Тимохин, остановившись возле саней. – Теперь тебе не миновать революционного суда. Я собственноручно расстреляю тебя, гнида, и твоего шамана кончу, к одной стенке поставлю вас обоих. Сам сделаю это, никому не отдам вас! Из-за таких вот сволочей мы никак не построим новый мир. Но ты не радуйся, шаманский прихвостень, тебе не остановить нас. Мы научим всех жить по-новому!
– Видел я вашу науку, – проговорил печально Степан. – Видел, как вы чумы разоряете, оленей угоняете. Хуже разбойников…
Тимохин сжал кулаки и сел в сани. Красноармейцы опустились на другие.
– Езжайте быстрее! – крикнул Степан вслед трём остроконечным шлемам.
– Двое замёрзнут, – спокойным голосом сказал Тэваси, когда Степан вернулся к костру. – А Больное Сердце приедет опять. Приедет за кровью.
– Почему ты не остановил их, когда они пришли арестовывать тебя? – спросил Степан, глядя шаману в глаза. – Тебе дана огромная сила, но ты не пользуешься ею.
Шаман поднял брови, как бы сам удивляясь себе, и пожевал губами.
– Я сделал снег, – ответил он, переходя с русского на родной язык. – Разве этого мало?
– Ты мог просто убить их, – сказал Степан.
– Ты тоже, – ответил Тэваси, помолчал и продолжил: – Я сделал снег. Они бы замёрзли, если бы твой чум не возник у них на пути.
Степан ухмыльнулся.
– Пожалуй, ты прав, отец, – согласился он.
– Нельзя уйти от воли Смотрящего-За-Нами-Человека, – спокойно произнёс старик. – Больное Сердце вернётся, с ним придут солдаты. Они будут стрелять. Такова воля Смотрящего-За-НамиЧеловека. Нам надо пройти через это и многое познать. – Старик повернулся к жене Степана и сказал: – Я давно не видел тебя, дочка. Уже соскучился по тебе, нябуко.[10]
– Я тоже, отец, – откликнулась женщина, укладывая винтовку возле своих ног.
– Вы, как я посмотрю, шибко к войне готовы, – поцокал языком Тэваси. – Даже ты, нябуко, за ружьё взялась.
– Надоело смотреть, как они, – Степан кивнул в сторону входа, – хозяйничают. Твои люди, отец, слишком много терпения
***
Когда Тимохин подъехал к Успенской фактории, пурга стихла. Фактория выглядела непривлекательно. Три убогих бревенчатых строения, предназначенных для жилья, лепились друг к другу покосившимися стенами. Чуть в стороне стояли пекарня, баня и два больших склада. Контора представляла собой два прируба позади одного из жилых домов. Над конторой понуро висел красный флаг.
Тимохин не правил, олени сами тянули нарту. Спрятавшись с головой под меховой накидкой, Больное Сердце сидел неподвижно, провалившись в тяжёлое полузабытье. Никто не вышел встречать начальника, и Тимофей Тимохин, едва переставляя застывшие ноги, с огромным трудом поднялся по занесённым снегом ступеням.
– Эй! – позвал Больное Сердце, ввалившись в дверь.
Никто не отозвался. В доме царил мрак. Единственная сальная лампа тлела в дальнем углу, почти не освещая помещение. Возле горячей печи спал на лавке человечек, укрытый тулупом.
– Поликарп, – хрипло пролаял Больное Сердце и прижался всем телом к печке, – подай спирту.
– Товарищ Тимохин? – Спавший оторвал голову от лавки, заспанно моргая и шевеля отвислым носом; у него было длинное худое лицо. – Вы уже вернулись?
– Спирту!
– Сей момент. – Поликарп опустил ноги на пол, и Тимохин увидел, что солдат спал в валенках. – А где ж Волков и Еремеев? Чего в дом не спешат? – Поликарп одёрнул гимнастёрку и поскрёб ногтями небритую щёку.
– Отстали они. Думаю, замёрзли насмерть. Не знаю, как я-то не околел в этой шинели.
– А Матвей?
– Этот ещё раньше потерялся, – непослушными красными пальцами Тимохин рванул застёгнутый на подбородке шлем, и обтянутые тёмно-зелёным сукном пуговицы отлетели на дощатый пол.
– Хорош проводник! – Поликарп успел привернуть фитиль, чтобы лампа светила поярче, и поднёс начальнику гранёный стакан, наполненный спиртом на одну треть.
– Пурга была страшная, в двух шагах ничего не различить. – Тимохин жадно опрокинул стакан и вслушался, как спирт обжигающе окатил горло и желудок. – Ещё!
– Разувайте ноги. Растирать щас будем. Ещё чуток, и вы, похоже, окочурились бы.
– Морозы внезапные…
– Оленей бы распрячь надо. Сейчас ребят разбужу.
– После, Поликарп, к чёрту оленей! Сперва ноги мне разотри, отваливаются, ни хрена не чувствуют. Сильнее растирай, не бойся!
Минут через тридцать Тимохин уже дышал свободно, вытянувшись во весь рост на лавке.
– Чаю сделать? – спросил Поликарп, нагнувшись над начальником.
– Валяй… Ты про Степана Аникина слыхал что-нибудь?
– Слыхал, видел даже пару раз, когда он сюда приезжал пушнину сдавать, – ответил Поликарп, загромыхав самоваром.
– А я почему ничего про него не знал?
– Как же не знали, товарищ Тимохин? Вы его сами выделили красным карандашом в бумагах, как наиболее революционного из тутошней бедноты. Хотели встретиться для ответственного разговору.
– Я? Чего-то не припомню.
– Он в документах как Бисерная Борода указан.
– Бисерная Борода? – удивился начальник.
– Самоеды его только под этим именем и знают. Кочующий охотник, русский, из ссыльных…
– Значит, Бисерная Борода? Тьфу! Никакая она не бисерная, а рыжая, а что он из ссыльных, то это я теперь и сам знаю, – огрызнулся Больное Сердце. – Ой, ноги горят…
– С морозом шутить негоже. Считайте, что вам повезло.
– Бисерная Борода? Почему так?
– Не знаю. У Самоедов за любым именем – тайна. А вы зачем про него спрашиваете? По какому такому поводу вспомнили про него?
– Повстречал по дороге сюда. Век не забуду…
– Видели? Чего ж тогда меня пытаете?
– А то, что Степан Аникин в моей башке никак не был Бисерной Бородой… Да теперь что! Теперь эта сволочь для меня первый враг! Мой личный враг и враг революции!
– Чего вдруг?
– Этот сукин сын меня под прицелом держал, – прорычал Тимохин.
– Ну? – не поверил Поликарп. – Да более мирного, чем Борода, тут не сыскать!
– Шамана у меня отобрал!
– Арестованного?
Вместо ответа Больное Сердце поднялся с лавки, доковылял до стола, налил себе из бутылки спирта и выпил ещё четверть стакана.
– Так, товарищ Тимохин, вы просто свалитесь, с дозы-то такой.
– Чушь! Не свалюсь. Я теперь не имею права свалиться. Я теперь жить должен, чтобы смыть позор, кровью смыть… Какая нынче тишина, – тяжело вздохнул Больное Сердце.
Раньше с середины ноября и чуть ли не до конца января вокруг Успенской фактории почти круглые сутки стояло множество нарт с запряжёнными в них оленями. Пекарня в это время работала беспрерывно, а контора обычно бывала до отказа забита Самоедами. Воздух был так сильно надышан, что лампа горела неполным светом.
Но этой зимой мало кто из Самоедов появился на Успенской фактории. Дело было в том, что посещение фактории для семьи тундровиков было своего рода ритуалом. Приехавшие с пушниной Самоеды непременно угощались в конторе мороженой рыбой и чаем с кренделем, маслом и сахаром. Но этот установившийся обычай почему-то не понравился представителям революционной власти, и с прошлого года всякие угощения были отменены. Самоеды, оскорблённые тем, что их не встретили по законам гостеприимства, решили больше не приезжать в Успенскую.
Полное затишье на фактории и послужило толчком к тому, что Тимохин активизировал свою деятельность, принялся разъезжать по стойбищам оленеводов, дабы «организовывать обездоленное и малооленное население», а заодно выявлять «сомнительные элементы», в категорию которых в первую очередь попадали шаманы.
Но сейчас Тимохин, когда спирт раскачал его голову, а тело будто расплавилось после растирания, не желал думать о службе.
– Сейчас бы бабу, – пробормотал он.
– Так вы загляните к Глафире, – душевно отозвался Поликарп, раздувая самовар. – Она давеча заходила сюда, глазами всё зыркала. Кажись, мужика ей заохотилось.
– А ты что ж? – устало шевельнул губами Тимохин.
– Да у меня тут Сидоров с Красновым сидели, – вздохнул Поликарп. – Газету мне читали, не мог я отмахнуться от них.
– Никак почта была?
– Евдокимов привёз целую пачку. Поди целый месяц у нас газет не было…
– Ты, Поликарп, оставь в покое самовар. Я после выпью. Пожалуй, сейчас и впрямь схожу к Глашке, – заключил Тимохин и опустил ноги на пол. – Может, отогреет…
Оба конторских помещения имели двери в жилой дом, в котором до прихода революционной власти жила купеческая семья. Теперь там устроились представители большевистской власти.
Глафира Бочкина обитала на Успенской фактории уже лет пять, никто не знал, каким образом она попала сюда, да никто и не проявлял никогда интереса к её жизни. Женщина она была рослая, плечистая, широколицая. Когда хотела мужика, она сверкала глазами так, что от её взгляда у всякого, на кого она смотрела, будто внутри что-то переворачивалось и тут же вспыхивало неудержимое желание. Глафира считалась местной достопримечательностью.
– Я такую бабу никогда раньше не встречал, – сказал как-то Поликарп. – С разными возился, сиськастые были и с отменными жопами тоже, но с такими глазищами ни одной не было. Глашка как зыркнет, так у меня ялда кочергой встаёт. Просто кобелём себя чувствую неуёмным.
– С энтой кралей, – покрякивал в ответ Сидоров, – уняться никак нельзя. Я, быват, даже пужаюсь её рожи. Улыбнётся, ковырнёт глазами – как шашкой рубанёт. Одно слово – сука.
Половицы скрипнули под босыми ногами Тимохина.
На пороге комнаты, где обитала Глафира, лежал, свернувшись комочком, пожилой усатый красноармеец. Обеими руками он сжимал винтовку, прижав её к себе, как ведьма – метлу.
– Евдокимов! – Тимохин толкнул красноармейца ногой.
Тот пробурчал в ответ нечто невнятное.
– Встань, сволочь, – Тимохин снова пнул ногой. – Посторонись, начальство идёт.
Красноармеец поднял голову и невидящим взором пошарил перед собой.
– Кто здесь?
– Я здесь! Опять дрыхнешь?
– Тимофей Артемьевич? Прошу прощения, задремал на посту.
– На каком посту, болван.
Евдокимов огляделся, зашевелил усами.
– А я думал, что на карауле стою.
– На карауле бы я тебя пристрелил, дурак, за нарушение революционной дисциплины… Поди прочь от двери.
– Так точно! – Евдокимов поспешно отступил вправо.
Тимохин шагнул в комнату Глафиры. От сознания, что через минуту в его руках окажутся пышные груди с торчащими сосками, Тимохин сразу возбудился.
– Кто там? Кого чёрт несёт среди ночи? – послышался сонный женский голос.
– Глаша, это я – Тимофей.
– Тебе вам?
– Промёрз я.
– Так полезайте на печку, мне сейчас недосуг, – заворчала она.
Он не обратил внимания на её слова и подошёл к её кровати. В темноте разглядел её глаза и зубы. Он на ходу стянул с себя подштанники.
– Ступайте, Тимофей Артемьевич, я спать хочу, – хрипло сказала она. – Завтра приходите.
– Я уже пришёл, – из него вырвался хриплый смешок.
Из-под мятой рубашки Тимохина высунулся налитой конец его члена. Тимохин потянул рубаху через голову, сел на кровать и отдёрнул одеяло. Увидев возбуждённое тело мужчины, Глафира улыбнулась.
– Сымай с себя всё, видеть тебя хочу. – Он склонился над её лицом.
– Спиртом от вас разит – страх!
– Согревался я. Скидывай свою рубаху.
– Давайте так. – Она протянула руку и нащупала мужскую твердь.
– Сымай рубаху, – повторил он, – хочу тебя видеть.
– Да что с вами, Тимофей Артемьевич? – Ей быстро передалось его возбуждение.
Он торопливо отшвырнул её ночнушку и жадно припал к раскрытому рту женщины, навалившись на неё всем телом. Глафира податливо развела ноги и предоставила ему своё тепло…
Когда первая волна желания была удовлетворена, Тимохин приложил отяжелевшую голову к груди женщины и затих, наслаждаясь уютной, зыбкой, трепещущей плотью.
«Может, на самом деле только в этом и есть человеческое счастье? Может, ничего человеку не надо, кроме этого? А мы всё рвёмся куда-то, в окопах гниём, на стройках загибаемся. И всё ради какой-то идеи, которую даже и не потрогаешь и голову к ней вот так не приклонишь. Сколько лет боремся, а просвету не видать, как не видать никакой нежности и доброты…»
Тимохин услышал собственные мысли и вздрогнул, испугавшись таких рассуждений. Вздрогнув, он оторвал колючую щёку от пышной женской груди, краем глаза увидел пузатый сосок с дырочкой на конце. Поднявшись на локтях, он нарочито грубо, чтобы отогнать подкравшуюся к сердцу мягкость, раздвинул круглые колени Глафиры.
– А ну-ка, чего разлеглась, будто интеллигентка какая! А ну давай, – он ткнул двумя пальцами в её влажную плоть, – давай, сучка ты этакая, работай.
– Злой вы, – проговорила Глафира в ответ, впуская в себя его возбудившееся тело. – Боитесь человеческое тепло проявить, мягким боитесь показаться.
– Молчи! Нету во мне ничего такого!
– Ежели человека в себе душить ежечасно, то оно понятно… – И женщина издала глубокий стон под напором Тимохина.
– Молчи, дело делай.
– Дело-то нехитрое, Тимофей Артемьевич, – отозвалась Глафира томно из-под жилистого мужского тела. – Только нежности бы хотелось от вас, а не простого кобелячества.
– Всякую такую нежность, как проявление чуждой нам морали, мы штыками вытравливать будем.
– Дурак ты, Тимофей, хоть и в ГПУ служишь, – вдруг отчётливо произнесла Глафира.
Он размашисто шмякнул кулаком ей в лицо. Застыл на мгновение, затем вновь задвигал бёдрами, жестоко вдавливая женщину в перину.
– Если мы мягкость всякую не вычеркнем из нашей жизни, – процедил он, как бы извиняясь за удар, – то мы нипочём не победим. А нам без победы никак нельзя. Зачем же мы тогда затеяли революцию?
Он оттолкнулся от Глафиры, перевернулся на бок и уставился вытаращенными глазами в стену. Он слышал, как женщина села на кровати, всхлипнула, сплюнула кровь с разбитой губы.
– Дурак ты, Тимофей Артемьевич, – повторила она, – дураком и подохнешь.
– Замолкни, сволочь, не то пристрелю! – послышалось в ответ.
– В кого ж ты тогда хером своим торкать-то будешь? Тут больше баб нет, кроме меня одной.
– Привезу девку из стойбища.
– Как бы не так. Она у тебя в рабынях будет, Тимка, что ли? Тебя твоя советская власть за такое дело самого пришлёпнет, – злобно проговорила Глафира.
– Молчи, сволочь, – опять огрызнулся он. – Иди сюда, давай ещё…
– Куда вам! – Женщина вновь перешла на «вы». – Вы после спирта совсем никудышный, никак закончить не сподобитесь.
Тимохин зажмурился.
– Не твоё дело, ты, дура, знай, подставляй да подмахивай. А кончаю я или нет – не твоего ума…
– Куда уж нам. Наше дело бабское…
***
– Скоро пятую годовщину советской власти отмечать будем, а здесь – дикая пустота. Туземцы знать ничего не желают. Живут так, будто никакой революции не было, – говорил Сидоров, тщательно пережёвывая кусок хлеба.
– Тёмный народ. Какой с них спрос? – отозвался Поликарп, пальцами смахивая с губ налипшие крошки махорки.
– Ничего. Мы на них узду наденем и приведём в социалистическое общество. Скоро тут колхозы будут, партийные ячейки. Всё чин чинарём сделаем. Советская власть не может допустить, чтобы кто-то жил не по советским законам, – вступил в разговор Тимохин. Он задумался, вперившись затуманенным взглядом куда-то под потолок. – Скучно здесь, – вдруг заявил он, помолчав несколько минут. – Воевать не получается. Людей мало. Если кто и есть из контрреволюционеров, то и не отыщешь их на таких пространствах… Да и не тот здесь люд, чтобы в контрреволюцию играть. Мы их за яйца к этому делу притягиваем, шаманство за контрреволюционную деятельность выдаём… А ведь иначе невозможно… Нет, не люблю я этой работы, товарищи, не хочу её. Если бы партия не приказала, ноги б моей тут… Но ведь партия велела!.. Что я без партии?.. Тошно мне… Эх! Вот, помню, в Гражданскую было – честно, весело, пьяно! Водил эскадрон по тылам белых, рубился до беспамятства… Шашка – первый друг… Эх, шашка, как же я так оплошал-то? Я этого Степана Аникина теперь просто обязан достать… Из-за шашки моей боевой.
– Достанем, – равнодушно ответил Поликарп.
– Где ты достанешь-то его? – Сидоров отхлебнул чаю. – Про Бисерную Бороду сказывают, что он и следов-то не оставляет на снегу.
– Брехня. Человек везде следы оставляет, – отмахнулся Поликарп.
– Ненавижу, – прошептал Тимохин, и внезапно на глазах его выступили слёзы. Он поспешно поднялся и вышел из комнаты.
– Чего это с ним? – удивился Поликарп.
– Сдавать стал Тимофей Артемьевич, – вздохнул Сидоров. – Тоскует по боевым товарищам. Тут ему – хуже тюрьмы.