Вампир Арман Райс Энн
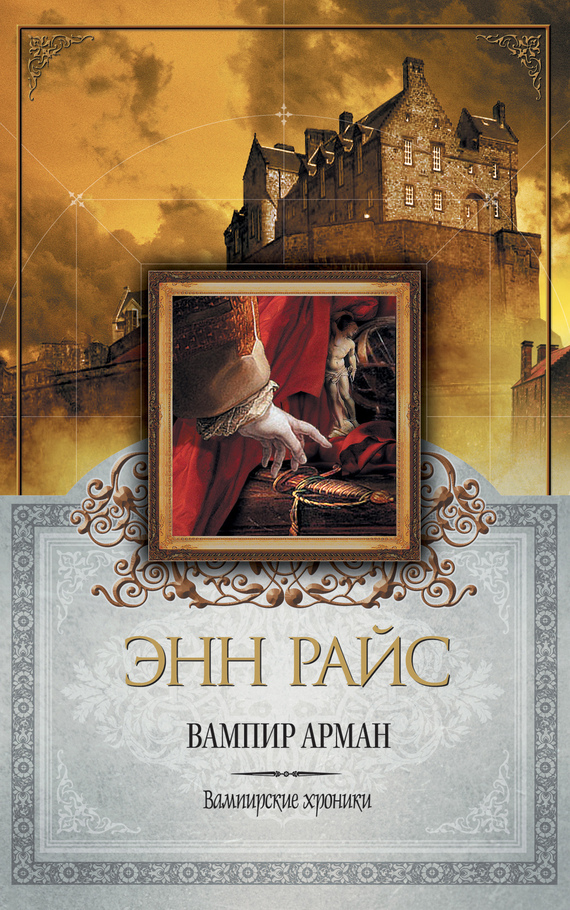
– Закрой мне лицо покрывалом, – велел я, – и отойди подальше, еще дальше. Он ведет к нам типичного принца мошенников. Быстрее.
Она мгновенно принялась за дело. Уже пахло кровью жертвы, хотя она все еще стояла в поднимающемся лифте и разговаривала с Бенджи в сдержанных, осмотрительных выражениях.
– И все это случайно оказалось у вас с ней в номере, и больше с вами никого нет? – Какой красавец!
– Я все вам рассказал, – ответил Бенджи совершенно естественным голоском. – Вы нам просто помогите, сами понимаете, я не могу позволить, чтобы к нам заявилась полиция! – Шепот: – Это приличный отель. Откуда я знал, что тот мужик возьмет и умрет прямо здесь! Мы дурь не принимаем, забирайте ее, только унесите отсюда труп. И еще кое-что... – Двери лифта открылись. – Труп довольно подпорченный, так что не надо на меня пускать слюни, когда вы его увидите.
– Пускать на тебя слюни? – прорычала жертва, переводя дух. Послышались тихие звуки спешащих по ковру ботинок.
Бенджи возился с ключами, притворяясь, будто очень взволнован.
– Сибил, – предостерегающе позвал он, – Сибил, открой дверь.
– Не открывай, – тихо сказал я.
– Конечно не буду, – ответила она бархатным голосом. Повернулись задвижки большого замка.
– И этот мужик вот так случайно зашел сюда и умер со всем своим добром?
– Ну, не совсем, – сказал Бенджи, – но вы ведь заключили со мной сделку, я надеюсь, вы ее не нарушите.
– Послушай, маленький щенок из подворотни, я с тобой сделок не заключал.
– Отлично, так, может, мне вызвать нормальную полицию? Я вас знаю. Вас все в баре знают, знают, откуда вы, вы всегда на виду. И что вы сделаете, а, большая пушка? Убьете меня?
Дверь за ними закрылась. Номер наводнил запах крови гостя. Он одурманен бренди, его жилы отравлены кокаином, но моей очистительной жажде это совершенно безразлично. Я едва мог сдерживаться. Я почувствовал, как напряглись и попытались согнуться под одеялом мои руки и ноги.
– Ну и ну, настоящая принцесса, – присвистнул он, когда его взгляд, очевидно, упал на Сибил. Сибил не ответила.
– При чем здесь она? Вы сюда смотрите, под одеяло. Сибил, иди сюда, иди. Давай, Сибил.
– Здесь, под одеялом? Ты хочешь сказать, что под ним – труп, а под трупом – кокаин?
– Сколько раз нужно повторять? – спросил Бенджи и, несомненно, привычно пожал плечами. – Слушайте, хотел бы я знать, что именно вы не понимаете. Вам кокаин не нужен? Тогда я его раздам. В вашем любимом баре он очень распространен. Представляешь, Сибил, этот мужик обещает помочь, а дальше – болтает, болтает, болтает... Типичный слизняк из правительства.
– Ты кого это слизняком назвал, малыш? – поинтересовался мужчина с насмешливой добротой, и запах бренди сгустился. – Какой у нас словарный запас, а посмотреть на тебя – нос не дорос. Тебе сколько лет, малыш? Черт возьми, как ты вообще попал в страну? Неужели ты целыми днями разгуливаешь в ночной рубашке?
– А как же, зовите меня Лоуренсом Аравийским, – сказал Бенджи. – Сибил, а ну иди сюда.
Я не хотел, чтобы она подходила. Я хотел, чтобы она держалась как можно дальше. Она не пошевелилась, и я очень обрадовался.
– Мне моя одежда нравится, – болтал Бенджи. Клуб сладкого сигаретного дыма. – Видимо, я должен одеваться, как местные ребята, в синие джинсы? Сейчас. Мой народ так одевался, еще когда Магомет ходил по пустыне.
– Что может быть лучше прогресса? – спросил мужчина с глубоким гортанным смешком. Он подошел к кровати быстрыми резкими шагами. Запах крови стал таким интенсивным, что я почувствовал, как навстречу ему раскрываются поры моей обгоревшей кожи.
Крошечную часть своей силы я отдал на то, чтобы получить телепатическое представление о нем их глазами: высокий кареглазый человек, желтовато-белая кожа, впалые щеки, редеющие коричневые волосы, сшитый на заказ итальянский костюм из блестящего черного шелка, блестящие бриллиантовые запонки на дорогом полотне. Он дергался, шевелил пальцами, почти не мог твердо стоять на ногах, в голове буйствовали головокружительный настрой, цинизм и безумное любопытство. Жадные игривые глаза. Все затмевала безжалостность, и казалось, что в нем присутствует ярко выраженная черта неподдельного, вскормленного наркотиками безумия. Он гордился своими убийствами не меньше, чем царственным костюмом и блестящими коричневыми ботинками на ногах.
Сибил подошла поближе к кровати, и резкий сладкий аромат ее чистой плоти смешался с более тяжелым и густым запахом мужчины. Но я вожделел его крови – крови, от которой из моего иссохшего рта чуть слюнки не потекли. Я с трудом сдерживался, чтобы не вздохнуть под одеялом. Я почувствовал, что мое тело вот-вот вырвется из болезненного состояния паралича.
Злодей оценивал обстановку, поглядывая по сторонам в открытые двери, прислушиваясь, нет ли посторонних голосов, обсуждая сам с собой, не стоит ли обыскать эти фантастические, битком набитые вещами, беспорядочно разбросанные комнаты, прежде чем приступать к делу. Пальцы его никак не могли успокоиться. Промелькнувшая в его голове мысль ясно дала мне понять, что он понюхал принесенный Бенджи кокаин и немедленно захотел принять еще порцию.
– Ну и ну, а ты красотка, юная леди, – сказал он Сибил.
– Хочешь, я подниму покрывало? – спросила она.
Я уловил запах маленького револьвера, засунутого за голенище его высокого черного сапога, и другого оружия, очень качественного и современного: абсолютно новая смесь металлических запахов, в кобуре под мышкой. От него пахло и деньгами: характерный несвежий запах засаленных бумажных денег.
– Ну что, мужик, струсил? – хмыкнул Бенджи. – Так открыть тебе покрывало? Скажи когда. Вот ты удивишься!
– Да нет там никакого трупа, – усмехнулся он. – Может, сядем, поболтаем? Ведь на самом деле это не ваш номер? Похоже, вас, детишки, требуется воспитать по-отечески.
– Труп весь обгорел, – сказал Бенджи. – Держись, как бы тебе плохо не стало.
– Обгорел! – воскликнул мужчина.
Длинная рука Сибил внезапно отдернула покрывало. По моей коже скользнул холодный воздух. Я уставился на отшатнувшегося мужчину, в чьем горле застыл придушенный рев.
– Бога ради!
Мое тело подскочило в ответ на зов полного фонтана крови, как отвратительная марионетка по велению дернувшихся веревочек. Я стукнулся о него, плотно вцепился обожженными ногтями в его шею и слился с ним в агонизирующем объятии. Потом быстро подхватил языком кровь, выступившую из отметин, оставленных моими когтями, и, не обращая внимания на полыхающую в лице боль, пошире раскрыл рот и вонзил клыки. Вот он и мой!..
Ни рост, ни сила, ни широкие плечи, ни огромные руки, сжимающие мою раненую плоть, – ничто ему не помогало. Он был мой. Я втянул первый густой глоток крови и подумал, что потеряю сознание. Но тело мое такого не допустило бы. Мое тело приросло к нему, как будто оно целиком состояло из прожорливых щупалец.
Его окутанные просветленным туманом мысли моментально затянули меня в водоворот образов Нью-Йорка, бездумной жестокости и гротескных ужасов, безудержной, питающейся наркотиками энергии и злобствующей веселости. Я погрузился в эти картины. Быстрая смерть меня не устраивала. Мне требовалась каждая капля его крови, а для этого сердце должно нагнетать ее без остановки, сердце не должно сдаться.
Если я и пробовал раньше столь крепкую кровь, столь сладкую и соленую кровь, то я этого не помнил: память просто не способна зарегистрировать такой восхитительный вкус, абсолютный восторг утоленной жажды, удовлетворенного голода, одиночества, растворившегося в жарких интимных объятиях в тот момент, когда меня привел бы в ужас звук собственного бурлящего, напряженного дыхания, задумайся я о нем хоть на секунду.
От меня исходил ужасный шум, противный чавкающий звук. Мои пальцы массировали его крепкие мускулы, мои ноздри вжались в его изнеженную, пахнущую мылом кожу.
– М-м-м-м, как же я тебя люблю, я ни за что на свете тебя не обижу, чувствуешь, как приятно? – шептал я ему сквозь мелеющий ручеек великолепной крови. – М-м-м-м, да, как приятно, лучше, чем самый дорогой бренди...
От потрясения и недоверия он внезапно уступил, отдаваясь исступленному бреду, каждому произнесенному мною слову. Я рванул его шею, расширяя рану, поглубже врезаясь в артерию. Кровь хлынула новым потоком.
По моей спине побежали восхитительные мурашки; они разбежались по рукам, по бедрам, по ногам. Боль и удовольствие смешались, а горячая и живая кровь с силой проникала в мельчайшие волокна моей сморщившейся плоти, накачивала мышцы под поджарившейся кожей, пропитывая даже костный мозг скелета. Еще, этого мало.
– Не умирай, ты не хочешь умирать, нет, не умирай, – напевал я, проводя пальцами по его волосам и чувствуя, как они становятся пальцами, а не когтями птеродактиля, как минуту назад. Но они согрелись; по ним разлился огонь, огонь полыхал в моих опаленных руках и ногах, на сей раз смерть неизбежна, я больше не вынесу, однако пик уже достигнут и пройден, и теперь по мне мчались интенсивные успокаивающие спазмы.
Мое лицо накачивалось кровью и горело, рот наполнялся вновь и вновь, глотать стало совсем легко.
– Да-да, живой, ты такой сильный, удивительно сильный... – шептал я. – М-м-м-м, нет, не уходи... еще рано, еще не время.
У него подогнулись колени. Он медленно опустился на ковер, я опустился следом, ласково притянув его за собой к краю кровати, а потом уронил его рядом, и мы лежали, сплетенные, как любовники. В нем оставалось еще немало крови – столько я в обычном состоянии ни за что бы не выпил, просто не захотел бы.
Даже в тех редких случаях, когда, едва став вампиром, жадный, молодой, я убивал по две-три жертвы за ночь, я никогда ни от кого так глубоко не пил. Теперь я погрузился в темные вкусные отбросы, вытягивая сладкие сгустки из самих сосудов, растворявшиеся на моем языке.
– Как же ты прекрасен... да... да...
Но его сердце на большее было не способно. Оно замедлилось и забилось в неотвратимо смертоносном ритме. Я прикусил кожу его лица и сорвал ее со лба, облизывая густую сеть кровоточащих сосудов, покрывавших его череп. Там оставалось еще много крови, много крови, скрытой тканями его лица Я высасывал ее из волокон и выплевывал их, обескровленные, белые, глядя, как эти отбросы падают на пол.
Мне захотелось попробовать сердце и мозг. Я видел, как их достают древнейшие. Я знал, как это делается. Римлянка Пандора однажды просунула руку прямо в грудь жертвы.
Так я и сделал. Отметив в изумлении, что моя рука, пусть пока темно-коричневая, обрела нормальные очертания, я расставил застывшие пальцы смертоносным заступом и ввел их в него, разорвав рубашку, пробив грудную клетку, перебирая его мягкие внутренности, пока не извлек сердце и не взял его так, как брала Пандора. Я принялся пить. О, там крови оставалось в избытке. Чудесно. Я высосал сердце досуха и бросил на пол.
Я лег, как и он, неподвижно, рядом с ним, положив правую руку на его шею, приклонив голову у него на груди, тяжело дыша. Во мне танцевала кровь. Я чувствовал, как подергиваются руки и ноги. Мое тело содрогалось от спазмов, и его белая мертвая туша замерцала перед глазами. Комната то загоралась, то гасла.
– Какой милый брат, – прошептал я. – Милый, милый брат. – Я перекатился на спину. В моих ушах рокотала его кровь, она двигалась под кожей головы, она покалывала щеки и ладони. Как хорошо, слишком хорошо, приторно хорошо.
– Мерзавец, значит? – Голос Бенджика, из далекого мира живых.
Далеко-далеко, в царстве, где полагается играть на пианино, а маленьким мальчикам следует танцевать, стояли, словно вырезанные из раскрашенного картона, две фигурки, не сводившие с меня глаз: он, маленький разбойник из пустыни с дорогой черной сигаретой в зубах, не переставал затягиваться, шлепая губами и поднимая брови, и она, с мечтательным видом, решительная и задумчивая, как раньше, – ее ничто не шокировало и, наверное, не тронуло.
Я сел и подтянул колени. Я поднялся на ноги, быстро ухватившись за край кровати, чтобы выпрямиться. Я встал, совершенно голый, и посмотрел на нее.
Ее глаза наполнились густым серым светом, она взглянула на меня и улыбнулась.
– Потрясающе! – прошептала она.
– Потрясающе? – Я поднял руки и отвел с лица волосы. – Отведи меня к зеркалу. Быстрее. Я умираю от голода. Я снова голоден.
Началось, действительно. Я уставился в зеркало как в ступоре. Мне и раньше доводилось видеть такие же испорченные экземпляры, но каждый из нас портится по-своему, и я – не могу привести здесь алхимические причины – стал темно-коричневым существом, шоколадного цвета, с удивительно светлыми опаловыми глазами, украшенными красновато-коричневыми зрачками. Щеки болезненно запали, из-под глянцевой кожи выпирали ребра, а вены, вены до того кипели действием, что обвивали руки и икры, как веревки. Волосы, конечно, никогда еще так не блестели и не казались такими густыми, таким воплощением молодости и природных благословений.
Я открыл рот. Меня снедала жажда. Вся пробудившаяся плоть пела от жажды или же проклинала меня. Как будто тысячи раздавленных, онемевших клеток нараспев требовали крови.
– Мне нужно еще. Необходимо. Не подходите ко мне. – Я поспешно обошел Бенджика, чуть ли не плясавшего рядом со мной.
– Что ты хочешь? Что мне сделать? Пойду еще кого-нибудь приведу.
– Нет, я сам его найду. – Я упал на жертву и распустил шелковый галстук. Я быстро расстегнул пуговицы рубашки.
Бенджи немедленно кинулся расстегивать его ремень. Сибил опустилась на колени и принялась стягивать сапоги.
– Револьвер, осторожно, револьвер, – встревожился я. – Сибил, отойди от него.
– Да вижу я револьвер, – с упреком откликнулась она и осторожно отложила его в сторону, как свежевыловленную рыбу, готовую вырваться из ее рук. Она стянула с жертвы носки.
– Арман, эта одежда, – сказала она, – тебе будет велика.
– Бенджи, у тебя найдутся ботинки? – спросил я. – У меня маленькие ноги. – Я встал и поспешно надел рубашку, застегнув пуговицы с ослепившей моих помощников скоростью.
– Не смотри на меня, неси ботинки, – велел я. Я натянул брюки, застегнул молнию и с помощью быстрых пальцев Сибил закрепил болтающийся кожаный ремень. Я затянул его как можно сильнее. Сойдет.
Она упала передо мной, платье окружило ее огромным цветочным кольцом, и она закатала штанины на моих босых коричневых ногах.
Я просунул руки в хитроумно застегнутые манжеты, так их и не потревожив.
Бенджи бросил на пол черные бальные ботинки, дорогие туфли-лодочки, ни разу не надетые божественным маленьким негодником. Сибил поднесла к моей ноге один носок, Бенджи подобрал второй.
Я надел пиджак, и все было готово. Приятное покалывание в венах прекратилось. Опять подступила боль, она заревела, словно меня прошили огненными нитями и ведьма резко тянула за иглу, чтобы заставить меня содрогаться.
– Полотенце, дорогие мои, что-нибудь старое, ненужное. Нет, не надо, только не в эти дни, не в эту эпоху, даже не думайте.
Исполнившись отвращения, я осматривал его сине-бледную плоть. Он лежал, бессмысленно уставившись в потолок. На фоне жуткой бескровной кожи выделялись крошечные мягкие, очень черные волоски в ноздрях, над бесцветной губой желтели зубы. Волосы на груди превратились в спутавшуюся в предсмертном поту массу, а рядом с огромной зияющей дырой лежала мякоть его бывшего сердца – нет, эти страшные улики необходимо убрать из мира общепринятых принципов.
Я нагнулся и засунул остатки раздавленного сердца в грудную клетку. Я плюнул на рану и потер ее пальцами.
Бенджи охнул.
– Смотри, Сибил, затягивается! – воскликнул Бенджи.
– Поверхностно, – сказал я. – Он остыл, и крови слишком мало. – Я огляделся по сторонам. Рядом валялись бумажник, документы, кожаная сумка, куча зеленых банкнот, стянутых декоративной серебряной скрепкой. Я все подобрал. Я запихнул сложенные деньги в один карман, все остальное – в другой. Что у него еще было? Сигарета, смертельно опасный кнопочный нож и револьверы, ах да, револьверы. Я положил их в карман.
Проглотив тошноту, я нагнулся и подхватил его, жуткого вялого белого человека в жалких шелковых трусах, с изящными золотыми часами на руке. Ко мне действительно возвращалась прежняя сила. Он был тяжелым, но я без труда перекинул его через плечо.
– Что ты будешь делать, куда ты пойдешь? – закричала Сибил. – Арман, ты нас не бросишь?
– Ты вернешься! – сказал Бенджи. – Слушай, отдай мне часы, не выбрасывай его часы.
– Тише ты, Бенджи, – прошептала Сибил. – Черт возьми, ты прекрасно знаешь, что я покупаю тебе самые лучшие часы. Не трогай его. Арман, чем мы можем тебе помочь? – Она приблизилась ко мне. – Смотри! – сказала она, указывая на болтающуюся руку, свисавшую из-под моего правого локтя. – У него маникюр. Как странно.
– А как же, он о себе неплохо заботился, – хмыкнул Бенджи. – Знаешь, часы-то стоят тысяч пять.
– Помолчи насчет часов, – сказала она. – Нам его вещи не нужны. – Она взглянула на меня еще раз. – Арман, ты даже сейчас меняешься. У тебя наливается лицо.
– Да, и болит, – ответил я. – Подождите меня. Приготовьте мне темную комнату. Я вернусь, как только поем. Сейчас мне нужно есть, есть и есть, чтобы вылечить оставшиеся шрамы. Откройте мне дверь.
– Дай-ка я посмотрю, нет ли кого за дверью, – сказал Бенджи и послушно помчался к выходу.
Я вышел в коридор, с легкостью неся на себе жалкий труп, чьи белые руки, свисая вниз, болтались и иногда меня задевали.
Ну и вид у меня был в той большой одежде. Должно быть, я производил впечатление сумасшедшего, поэтически настроенного школьника, совершившего налет на дорогие магазины за самыми изысканными тряпками, а теперь, надев красивые новые ботинки, спешившего на поиски рок-групп.
– Там никого нет, мой маленький друг, – сказал я. – Три часа ночи, весь отель спит. И если разум мне не изменяет, там, в конце холла, есть дверь, ведущая на пожарную лестницу. Верно? На пожарной лестнице тоже никого нет.
– Умный Арман, ты меня восхищаешь! – воскликнул он, щуря черные глазки. Он беззвучно подпрыгивал по устланному ковром полу. – Отдай мне часы! – прошептал он.
– Нет, – ответил я. – Она права. Она богата, я тоже, и ты тоже. Не попрошайничай.
– Арман, мы будем тебя ждать, – сказала Сибил, стоя в дверях. – Бенджи, немедленно домой!
– Нет, ты только послушай, она проснулась! Как мы заговорили! «Бенджи, немедленно домой! Эй, солнышко, разве тебе нечем заняться? Не хочешь, например, на пианино поиграть?»
Она невольно залилась еле слышным смехом. Я улыбнулся. Странная парочка. Они не понимали, что происходит у них под носом. Типичное явление для этого века. Я недоумевал, когда же они прозреют, а прозрев, закричат.
– До свидания, дорогие мои, – сказал я. – Подготовьтесь к моему приходу.
– Арман, ты же вернешься. – В ее глазах стояли слезы. – Обещай мне.
Я был потрясен.
– Сибил, – сказал я. – Что за фразу женщинам так часто хочется слышать, но так долго приходится ждать? Я люблю тебя.
Я оставил их и помчался вниз по лестнице, перекинув его на другое плечо, когда слишком больно стало нести. Боль проходила по мне волнами. Меня ошпарил холодный уличный воздух.
– Крови... – прошептал я. А с ним что делать? Он слишком голый, чтобы тащить его по Пятой авеню.
Я сорвал с него часы, потому что они оставались единственной уликой, по которой его можно было опознать, и, хотя меня чуть не вырвало от отвращения, вызванного близостью со зловонными останками, я потянул его за собой за руку, очень быстро, по глухому переулку, затем по узкой улице, потом по очередному тротуару.
Я бежал прямо навстречу ледяному ветру, не оглядываясь на редкие неповоротливые силуэты, которые ковыляли мимо меня в мокрой темноте, и не останавливаясь, чтобы получше рассмотреть одну-единственную машину, ползущую по блестящему сырому асфальту.
Я преодолел два квартала за несколько секунд и, найдя подходящий переулок с высокими воротами, преграждавшими путь запоздалым нищим, быстро взобрался по решетке и забросил тушу в самый его конец. Она упала в тающий снег.
Теперь нужно было найти кровь. Времени на старые игры не оставалось – приманивать желающих умереть, тех, кто вожделеет моего поцелуя, тех, кто уже влюблен в неизведанную, далекую страну смерти.
Пришлось идти характерно неровным шагом, спотыкаться, завесив лицо длинными волосами, – болтающийся шелковый пиджак, подогнутые брюки: бедный ослепленный подросток, отличная мишень для револьвера, ножа, кулака. Долго ждать не пришлось.
Первым был пьяный прогуливающийся негодяй, засыпавший меня вопросами, прежде чем достать сверкающее лезвие и попробовать воткнуть его в мое тело. Прижав его к стене дома, я пил его кровь, как обжора.
Вторым стал заурядный отчаянный юноша, весь в гноящихся ссадинах. Он уже совершил два убийства ради героина, необходимого ему так же сильно, как мне – его обреченная кровь. Я пил уже медленнее.
Самые толстые, самые страшные шрамы без сопротивления не сдавались – они зудели, дрожали и таяли лишь постепенно. Но жажда, жажда не прекращалась. Мои внутренности пенились, словно пожирая сами себя. Глаза пульсировали от боли.
Но холодный мокрый город, терзаемый мучительным шумом, на глазах становился ярче. Я слышал голоса на расстоянии многих кварталов, слышал маленькие электронные колонки в высотных зданиях. За расступающимися облаками я увидел настоящие бесчисленные звезды. Я почти пришел в себя.
Так кто же придет еще, думал я, в этот тихий и безлюдный предрассветный час, когда на теплеющем воздухе тает снег, неоновые огни тускнеют, а мокрые газеты носятся, как листья в замерзшем лесу? Я достал все бесценные предметы, принадлежавшие моей первой жертве, и рассовал их в разных местах по глубоким пустым мусорным бакам.
Последний убийца, да, пожалуйста, судьба, пришли мне его, пока еще есть время; и в самом деле он пришел, проклятый дурак, вылез из машины, пока водитель ждал его, не глуша мотор.
– Черт, что так долго? – наконец спросил водитель.
– Ничего, – ответил я, роняя его друга на землю. Я просунул голову в машину, чтобы рассмотреть его. Такой же порочный дурак, как и его спутник. Он поднял руку, беспомощно, слишком поздно. Я опрокинул его на кожаное сиденье и пил теперь ради грубого удовольствия, ради сладостного, безумного наслаждения.
Я медленно шел по ночному городу, раскинув руки, подняв глаза к небесам.
Из разбросанных по блестящей улице черных решеток валил белоснежный дым. На синевато-серых тротуарах сверкала фантастическая выставка мусора в сверкающих пластиковых пакетах.
Нежные крошечные деревья с вечнозелеными листьями, ночью похожими на короткие ярко-зеленые штрихи, сделанные пером, склонили свои стволы-лепестки под гнетом воющего ветра. Куда ни глянь, за высокими чистыми стеклянными дверьми гранитных фасадов скрывалось лучащееся великолепие богатых вестибюлей. В витринах демонстрировались искрящиеся бриллианты, глянцевитые меха, элегантные костюмы и платья на безликих оловянных манекенах с пышными прическами.
Собор стоял, безмолвный и темный, с покрытыми инеем башенками и старинными остроконечными арками, на том же самом чистом тротуаре, что и в то утро, когда меня застигло солнце.
Задержавшись там, я закрыл глаза, возможно, стараясь припомнить удивление и рвение, храбрость и великие ожидания.
Вместо этого, чистые и сияющие, темный воздух прорезали звуки «Аппассионаты». Раздраженная, грохочущая, торопливая музыка обрушалась на меня, чтобы позвать домой. Я пошел за ней.
Часы в холле отеля били шесть. Через несколько мгновений зимний мрак расступится, как лед, ставший моей тюрьмой. За неясно освещенной длинной отполированной стойкой никого не было.
В висевшем на стене тусклом зеркале, в золотой раме стиля рококо, я увидел свое отражение – побледневшее, восковое, ни единого пятнышка. Как же повеселились со мной по очереди солнце и лед, когда второй заморозил безжалостной хваткой следы ярости первого! Ни одного шрама не осталось там, где кожа впечаталась в мускулы. Я превратился в запаянное, прочное существо с цельной, страдающей душой, отлитое из одного куска, восстановившееся, с искрящимися, чистыми, белыми ногтями, с загибающимися вверх ресницами вокруг ясных карих глаз, не по росту одетое в жалкие и грязные остатки роскоши знакомого грубоватого херувима.
Никогда еще я так не радовался своему слишком юному лицу, безволосому подбородку, слишком мягким и тонким рукам. Но в тот момент я был готов благодарить древних богов за то, что дали мне крылья.
Музыка наверху продолжалась, величественная, насыщенная трагедией, страстным и неустрашимым духом. Как же мне нравилась эта музыка. Кто еще во всем мире смог бы так играть одну и ту же сонату, как она, чтобы каждая фраза получалась не менее свежей, чем песни, что на протяжении всей своей жизни поют птицы, знакомые только с одной музыкальной моделью.
Я посмотрел по сторонам. Первоклассное, дорогое место, несколько глубоких кресел, на стене в крошечных потемневших деревянных отделениях выстроились в ряд ключи от номеров.
На круглом черном мраморном столе, в самом центре, в дерзком великолепии стояла огромная ваза с цветами, непременная торговая марка классического нью-йоркского отеля. Я обогнул букет, отломив большую розовую лилию с ярко-красным горлом и закручивающимися, желтеющими снаружи лепестками, и тихо пошел по пожарной лестнице к своим детям.
Когда Бенджи впустил меня, музыка не смолкла.
– Знаешь, ангел, а ты неплохо выглядишь, – сказал он.
Сибил продолжала играть, увлеченно покачивая головой в такт сонате.
Он провел меня через цепочку хорошо обставленных оштукатуренных комнат.
– Моя слишком роскошна, – прошептал я, увидев растянутые гобелены и подушки, расшитые старинным потертым золотом. – Мне нужна только полная темнота.
– Но меньше у нас ничего нет, – пожал он плечами. Он переоделся в свежие белые льняные одеяния в тонкую голубую полоску, такие часто встречаются в арабских странах.
Он надел белые носки и коричневые сандалии. Он дымил турецкой сигареткой и прищурился, глядя на меня сквозь дым.
– Ты принес мне часы, да? – Он кивнул – воплощение сарказма и веселья.
– Нет, – сказал я и сунул руку в карман. – Но деньги можешь взять. Скажи мне, раз уж твой ум настоящий медальон, а ключа у меня нет, никто не видел тебя с тем подонком с полицейским значком и револьвером?
– Да мы с ним все время встречаемся, – устало мотнул он головой. – Мы ушли из бара по отдельности. Я убил двух зайцев. Я очень хитрый.
– Почему? – спросил я и вложил лилию в его ручонку.
– Его покупателем был брат Сибил. Никто по нему не скучал, кроме этого полицейского. – Он хихикнул, заткнул лилию в густые кудри над левым ухом, потом вытащил и покрутил в пальцах ее крошечный стебелек. – Хитро, да? Теперь его никто не хватится.
– И правда двух зайцев убил, ничего не скажешь, – сказал я. – Хотя я уверен, что этим дело не ограничится.
– Но теперь ты нам поможешь, правда?
– Конечно помогу. Я же сказал, я очень богат. Я все улажу. У меня к таким делам инстинкт. В одном далеком городе я владел большим театром, а после этого целым островом с дорогими магазинами, ну и так далее. Похоже, я во многих отношениях монстр. Тебе больше никогда, никогда не придется бояться.
– А знаешь, ты правда очень красивый, – сказал он, поднимая одну бровь и быстро подмигивая мне. Он затянулся своей вкусной на вид сигареткой и протянул ее мне. В левой руке он крепко держал лилию.
– Не могу. Я только пью кровь, – покачал головой я. – Я настоящий вампир из книжки. При свете дня нужна полная темнота, а день наступит очень скоро. Не вздумай трогать дверь.
– Ха! – засмеялся он с бесовским восторгом. – Так я ей и сказал! – Он закатил глаза и глянул в направлении гостиной. – Я сказал, что нужно скорее украсть для тебя гроб, но она ответила – нет, ты бы об этом подумал.
– Она совершенно права. Эта комната подходит, но гробы я тоже люблю. Правда.
– А нас ты можешь тоже сделать вампирами?
– Нет, ни за что. Ни в коем случае. У вас чистые сердца, вы слишком живые. И потом, у меня нет такой силы. Так не делают. Нельзя.
Он опять пожал плечами.
– Тогда кто сделал тебя? – спросил он.
– Я родился из черного яйца, – сказал я. – Как и все мы. Он издевательски засмеялся.
– Ну, остальное ты видел, – сказал я. – Почему бы не поверить в самое лучшее?
Он только улыбнулся, выдохнул дым и посмотрел на меня взглядом мошенника.
Пианино пело грохочущими каскадами, быстрые ноты таяли, едва успев родиться, совсем как последние тонкие зимние снежинки, исчезающие, не упав на тротуар.
– Можно, я поцелую ее, перед тем как идти спать? – спросил я.
Он склонил голову набок и пожал плечами.
– Если ей это не понравится, она все равно не прекратит играть, чтобы сказать об этом.
Я вернулся в гостиную. Как там было свободно – величественные и пышные французские пейзажи с золотыми облаками и кобальтовыми небесами, китайские вазы на подставках, собранный складками бархат, ниспадающий с высоких бронзовых прутьев, закрывая узкие старинные окна. Комната предстала передо мной единой картиной, включая ту кровать, где я лежал, теперь заваленную свежими пуховыми одеялами и подушками с вышитыми на них старинными лицами.
А она, центральный бриллиант в длинной белой фланелевой рубашке, отделанной на запястьях и у ворота плотными старинными ирландскими кружевами, играла проворными уверенными пальцами на длинном лакированном рояле, и ее волосы сияли на плечах ровным желтым светом.
Я поцеловал ее ароматные локоны и нежную шею, перехватил детскую улыбку и сверкнувший взгляд, а она продолжала играть, запрокинув голову, прикоснувшись ею к моей одежде.
Я обхватил ладонями ее шею. Ее гибкое тело прислонилось ко мне. Я скрестил руки на ее талии и почувствовал, как в моих уютных объятиях вслед за стремительными пальцами двигаются ее плечи.
Я осмелился, сжав губы, тихим шепотом напеть мелодию, и она запела вместе со мной.
– «Аппассионата», – прошептал я ей на ухо. Я плакал. Я не хотел пачкать ее кровью. Она была слишком чистая, слишком красивая. Я отвернулся. Она бросилась вперед. Руки забарабанили громовую концовку. Резко наступила тишина, хрустальная, как сама музыка. Она повернулась, обняла меня, крепко сжала и произнесла слова, которых ни один смертный не говорил мне за всю мою долгую бессмертную жизнь:
– Арман, я люблю тебя.
23
Стоит ли и говорить, что они – идеальные спутники? Никто из них не обращает внимания на убийства. Я не мог бы объяснить этого даже ради спасения собственной жизни. Их волнуют другие вещи: мир во всем мире, бедные страдающие бездомные в холодном Нью-Йорке идущей на спад зимой, цены на лекарства для больных, как ужасно, что Израиль и Палестина без конца воюют друг с другом. Но они и на секунду не задумались об ужасах, случившихся на их глазах. Им все равно, что я каждую ночь убиваю ради крови, что я питаюсь только кровью, ничем иным, что я по самой своей природе связан с уничтожением людей.
Они ни на секунду не задумались о мертвом брате (его, кстати, звали Фоксом, а фамилию моей прекрасной дочери лучше не упоминать).
Кстати, если этот текст когда-нибудь выйдет в свет, в реальный мир, необходимо изменить как ее имя, так и имя Бенджамина.
Однако не это меня сейчас волнует. Я не могу думать о судьбе этих страниц в ином свете, кроме как что они в основном предназначены для нее. Я уже упоминал об этом, и если мне будет позволено дать им название, я озаглавлю их «Симфония для Сибил».
Нет, пойми, пожалуйста, что Бенджика я люблю не меньше. Дело в том, что я не испытываю настолько всепоглощающей потребности оберегать его. Я знаю, что Бенджи проживет грандиозную, полную приключений жизнь, что бы ни случилось со мной, с Сибил или даже с нашими временами. Такова его гибкая и выносливая природа бедуина. Он – истинное дитя палаток и диких песков, хотя в его случае домом служил унылый спаленный квартал лачуг на окраине Иерусалима, где он убеждал туристов за несоразмерную цену позировать вместе с ним и с грязным огрызающимся верблюдом.
Фокс откровенно похитил его на преступных условиях долгосрочной аренды, за что заплатил пять тысяч долларов. К сделке присовокупили сфабрикованный паспорт эмигранта. Он был, несомненно, гениальным представителем своего племени, со смешанным чувством относился к возвращению домой и на нью-йоркских улицах научился воровать, курить и ругаться, именно в этом порядке. Хотя он клялся всем на свете, что не умеет читать, выяснилось, что все-таки умеет, чем он и занялся как одержимый, как только я начал забрасывать его книгами.
Фактически он умел читать по-английски, по-арабски и на иврите, поскольку у себя на родине читал на этих языках газеты с незапамятных времен.
Он любил заботиться о Сибил. Он присматривал, чтобы она ела, пила молоко, принимала ванну и переодевалась, поскольку ее совершенно не интересовали подобные рутинные мероприятия. Он гордился тем, что своим умом может раздобыть для нее все необходимое, что бы с ней ни происходило.
Он стал ее представителем в отеле: раздавал чаевые, вел все переговоры с портье, включая и удивительно тонко сплетенную ложь о местонахождении покойного Фокса, который в нескончаемой саге Бенджика превратился в прославленного путешественника и фотографа-любителя; он приглашал настройщика, которого приходилось вызывать раз в неделю, так как пианино стояло у окна на солнце и на холоде, а Сибил при этом била по клавишам с яростью, удивившей бы самого Бетховена. Он звонил по телефону в банк, где весь персонал считал его старшим братом, Давидом, а потом являлся за наличными к окошечку кассы в качестве маленького Бенджамина.
Через несколько ночей разговоров я убедился, что могу дать ему такое же превосходное образование, как то, что дал мне Мариус, и что в результате он должен получить возможность выбрать любой университет, профессию или любительское занятие умственной природы. Я не раскрывал свои карты. Но к концу недели я мечтал, чтобы он попал в частную школу, откуда он выйдет в синем блейзере с золотыми пуговицами, чтобы покорить жителей американского Восточного побережья.
Я люблю его до такой степени, что разорву на части любого, кто осмелится прикоснуться к нему хоть пальцем.
Но с Сибил нас связывает симпатия, которая иногда не посещает как смертных, так и бессмертных на протяжении всей жизни. Я понимаю Сибил. Я ее знаю. Я понял ее в тот момент, когда впервые услышал ее игру, понимаю и сейчас, и если бы она не находилась под защитой Мариуса, я бы здесь с тобой не разговаривал. На протяжении всей жизни Сибил я никогда с ней не расстанусь и дам ей все, о чем она ни попросит.
Когда Сибил умрет, а это неизбежно, я испытаю невыразимую боль. Но это придется перенести. В этом вопросе у меня нет выбора. Я уже не тот, кем был, когда увидел Плат Вероники, когда вышел на солнце.
Я другой, и этот другой беспредельно и окончательно полюбил Сибил и Бенджамина. Отступать мне нельзя.
Конечно, я прекрасно сознаю, что питаюсь этой любовью; став счастливее, чем когда-либо прежде за всю свою бессмертную жизнь, я набрался сил от своих спутников. Эта ситуация слишком идеальна, чтобы считать ее не чистой случайностью, а чем-то иным.
Сибил не безумна. Это чрезвычайно далеко от истины, и я воображаю, что прекрасно ее понимаю. С того момента, когда она впервые прикоснулась руками к роялю, остальное ей стало не нужно. И ее «карьера», так благородно спланированная для нее гордыми родителями и сгорающим от амбиций Фоксом, никогда не имела для нее особенного значения.
Будь она бедна, терпи она лишения, признание публики, наверное, стало бы неотъемлемой частью ее романа с музыкой, давая ей необходимую возможность бежать от ужасной западни жизненной обыденности и рутины. Но бедной она никогда не была. И она до глубины души остается абсолютно равнодушной, услышат люди ее музыку или нет.
Ей нужно только слышать ее самой и знать, что она не беспокоит окружающих.
В том старом отеле, где комнаты в основном сдаются на несколько дней, где лишь горстка жильцов настолько богаты, что могут позволить себе жить там годами, как семья Сибил, она имеет возможность играть без конца и никого не беспокоить.
А после смерти родителей, лишившись двух единственных близких свидетелей ее развития, она просто не могла дальше сотрудничать с Фоксом в вопросах своей карьеры.
Что ж, все это я понял практически с самого начала. Я понял это по ее бесконечному повторению сонаты № 21, и, думаю, доведись тебе ее услышать, ты тоже это понял бы. Я хочу, чтобы ты ее послушал. Понимаешь, Сибил совершенно не смущает, если ее соберутся послушать другие. Если ее будут записывать, она не засуетится. Если другим нравится ее слушать, если ей говорят об этом, она приходит в восторг. Но у нее все очень просто. «А, значит, вам тоже нравится? – думает она. – Красиво, правда?» Вот что мне сказали ее глаза и улыбки, когда я впервые к ней приблизился.
И, полагаю, прежде чем продолжать – а мне есть что написать о своих детях, – стоит разобраться с вопросом: а как я приблизился к ней? Как я оказался в ее квартире в то роковое утро, когда Дора стояла в соборе и кричала толпе о таинственном Плате, а я летел к небесам, и кровь бурлила в моих воспламенившихся венах?
Я не знаю. Я располагаю утомительным сверхъестественным объяснением, подобным тем, которыми забивают тома члены Общества изучения экстрасенсорных явлений или авторы сценариев о Малдере и Скалли, героях телесериала «Секретные материалы». Ими пестрят и секретные файлы архивов ордена психодетективов Таламаска.
Грубо говоря, я вижу это примерно так. Я обладаю исключительно сильными способностями оказывать гипнотическое воздействие, перемещать свое зрение, пересылать свой образ на расстояние и воздействовать на материю как на близком расстоянии, так и в тех случаях, когда она находится вне поля зрения. Должно быть, я каким-то образом во время утреннего путешествия к облакам воспользовался этой силой. Возможно, она вырвалась из меня в момент душераздирающей боли, когда я во всех отношениях полностью вышел из строя и абсолютно не сознавал, что со мной происходит. Возможно, то был последний, отчаянный, истерический отказ смириться с возможностью смерти или же с ужасным, близким к смерти положением, в котором я оказался.
То есть, упав с крыши, обгорев, испытывая невыразимые мучения, я, возможно, нашел способ отчаянного мысленного избавления, спроецировав свой образ и силу в комнату Сибил, и их хватило, чтобы убить ее брата. Для духов, разумеется, невозможно осуществить достаточное воздействие на материю, чтобы ее изменить. Значит, может быть, именно так я и сделал: спроецировал себя в духовной форме, положил руки на материю – Фокса – и убил его.
Но на самом деле я в это не верю. Я объясню почему. Прежде всего, хотя Сибил и Бенджамин, несмотря на всю свою показную, полную здравого смысла отрешенность, не эксперты в вопросах смерти и последующей судебной экспертизы, оба настаивают, что, когда они избавлялись от трупа Фокса, он был обескровлен. На шее явственно виднелись раны от укуса. То есть они и по сей час верят, что я присутствовал там в материальной форме и что я действительно выпил кровь Фокса. Этого спроецированный образ сделать не может, во всяком случае, насколько мне известно. Нет, он не сможет поглотить кровь целой кровеносной системы, а потом раствориться, вернуться в прежнее состояние. Нет, такое невозможно.
Конечно, Сибил и Бенджи могут заблуждаться. Что они знают о крови и трупах? Но они фактически, по их словам, оставили мертвого Фокса пролежать два дня, ожидая, пока им поможет дибук – или ангел. Но за такой срок человеческая кровь оседает в самую нижнюю часть тела, и дети не могли бы не заметить такую перемену. Они же ничего не заметили.
Нет, у меня от этого голова разболелась! Суть в том, что я не знаю, как и почему я попал в их квартиру. Я не знаю, как это произошло. Но я знаю, как я уже говорил, что все увиденное мной в великом восстановленном киевском соборе, в невероятном месте, было не менее реально, чем происшествие в квартире Сибил.
Есть и еще один существенный момент, пусть маленький, но критически важный. После того как я убил Фокса, Бенджи видел, как с неба упало мое обгорелое тело. Он видел меня, как я видел его, из окна.
Существует одна ужасная возможность. Вот в чем она заключается. Тем утром я должен был умереть. Я умер бы. Мое вознесение совершилось под действием безмерной воли и безмерной любви к Богу, в которой я, диктуя сейчас эти слова, не сомневаюсь.
Но возможно, в критический момент мужество меня подвело. Меня подвело мое тело. И, ища убежища от солнца, стараясь пресечь свое мученичество, я наткнулся на неприятности Сибил и ее брата и, почувствовав, как сильно я ей нужен, начал падать к убежищу на крыше, где меня быстро накрыли снег и лед. Мой визит к Сибил, согласно этому толкованию, мог быть лишь преходящей иллюзией, сильной проекцией самого себя, удовлетворением потребности выбранной наугад уязвимой девушки, которой грозили смертельные побои со стороны брата.
Что касается Фокса, я, несомненно, убил его. Но умер он от страха: может быть, когда я надавил иллюзорными руками на его хрупкое горло, его сердце не выдержало – телекинез или внушение. Но я уже сказал, что не верю в это.
Я побывал в киевском соборе. Я проломил пальцами скорлупу. Я видел, как птица вылетела на свободу.
Я знаю, что рядом стояла моя мать, я знаю, что мой отец перевернул чашу. Я знаю, потому что уверен: ни одна частица меня не могла бы вообразить себе такое. Знаю, потому что увиденные мной краски и услышанная музыка не были придуманы и прежде я такого не испытывал.






