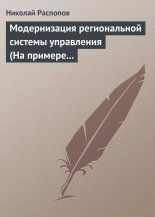О стыде. Умереть, но не сказать Цирюльник Борис

Вторая группа индейцев, сохранившая свою традиционную культуру, поддерживала и развивала ее, включая в свои истории рассказы о боли, которое причинило им изгнание.
Что касается индейцев из Лимы, полностью отрезанных от своих корней, им удалось изобрести новый стиль жизни. Культурный вираж, который смело можно сравнить с революцией, обязывает переосмыслить все: обычаи, традиции, мифы; вероятно, этот вираж был вызван особенностями приема, который — с уважением относясь к их корням — оказали им перуанцы[183].
Члены всех трех групп пережили многое: основной трудностью, носившей травматический характер, стала для изгнанников бессмыслица нового существования и ослабление связей с традиционной культурой. Эти люди были невероятно бедны: но не бедность стала для них источником унижения, а разрушение культурных основ, отсутствие возможностей мыслить коллективно и недостаток ритуалов, способных поддержать эмоциональные связи.
Аномия и мегаполис
Подобное ослабление связей и то, как утрачивает смысл происходящее, можно легко наблюдать и в индустриальных социумах. Улучшение средств коммуникации разрушает связи, делает их более точечными. В уже почти забытые времена крестьяне из провинции собирались, чтобы вместе вырубать ледяные бруски. Они складывали их в прохладных пещерах, а затем на рассвете взрослые при помощи детей грузили бруски на ослов, чтобы спуститься с гор и продать лед торговцам из Санари. Сегодня достаточно ткнуть пальцем в экран, и несколько часов спустя курьер привезет вам лед. Невероятный прогресс в области коммуникаций! И какое обеднение человеческих связей!
Все идет к тому, что скоро на Земле будет существовать 21 мегаполис, в каждом из которых будут проживать 20 миллионов человек. Как встретиться среди подобного столпотворения? Можно только пересекаться или случайно натыкаться друг на друга. Чтобы выстроить ритуал, необходимы встречи, договоренность по поводу значения жестов, определенные жертвы и слова, позволяющие идентифицировать «своих». Отсутствие совместных мероприятий и праздников делают группы аномичными (аномия характеризуется отсутствием социальных или моральных норм, сознательным отрицанием нори и стандартов членами социума). В подобном контексте видимость улучшения дает клановость: возникают иерархии, скоординированное движение к некоей общей цели, однако представители клана очень быстро начинают понимать, что созданная ими система нужна ради выгоды главы клана и его приближенных. Но слишком поздно — все подчинились! Когда система функционирует отлаженно, страдания или смерть чужаков едва удостаиваются оценки, что позволяет сказать следующее: в этом одинаковом мире индивид как таковой нивелируется самой клановой системой. Внутри клана все знают друг друга, знают, чего хотят, и часто начинают соперничать, желая понравиться вождю. Тот, кто находится за пределами клана, не считается человеком, он — лишь паяц, тень или муравей, назовите его, как вам будет угодно. В клановой культуре другого заставляют страдать, не испытывая при этом стыда, уничтожают его, не чувствуя никакой вины. Вне группы такое поведение, безусловно, аномично, но когда коллектив правильно структурирован, хорошо управляем и открыт переменам, он умеет поддерживать своих членов в минуты отчаяния[184].
В этом смысле иммиграция сродни социальному шансу: она дает возможность выбора между аномией, провоцирующей всплеск жестокости у индивидов, и кланом, который вербует новых членов и поддерживает формирование нового уклада жизни, хотя и превращает жестокость в закон.
Во Франции XIX в. спорили по поводу внутренних эмигрантов: бретонцев или овернцев, плохо говоривших по-французски и отличавшихся странными для других обычаями. В 1975 г. во Францию прибыло около одного миллиона человек. Ходили слухи, будто дети вновь прибывших страдают патологиями, не могут учиться в школе и часто совершают преступления. Так думали до момента, пока несколько скрупулезных исследований не позволили установить следующее: необходима сущая ерунда — налаживание связей, последовательно получаемое образование, «фактор шарнира»[185], чтобы сменить социальную траекторию движения этих детей и сориентировать их внутренний мир на перестройку с целью полнейшей адаптации в принявшей их стране. Стало ясно, что любые обобщения оскорбительны. Иммигранты не были ни замечательными, ни отвратительными, просто то, как их приняли, внушило им чувство стыда (или гордости), усталости (или мужества).
Иммиграция: социальный шанс или проблема?
Важную роль в процессе интеграции в новый социум играет возраст, в котором ребенок стал эмигрантом: в шесть лет и позднее он способен чувствовать себя оторванным от корней, поскольку уже начал говорить на родном языке, у него сформировалось определенное произношение, он усвоил обычаи своей страны и уже привык к знакомым пейзажам. Вынужденная иммиграция (бегство, страх пыток, нищета, отчаяние) имеет меньше шансов на успешную реализацию, чем та, что совершается по выбору, оставляя в душе юного фантазера приятные воспоминания о жизни в прекрасной далекой стране. Психологические трудности, испытываемые до момента эмиграции, делают иммиграцию еще болезненнее. Однако парадоксальным образом те, кто был счастлив в своем родном краю, без труда приспосабливаются к счастливой жизни в новых условиях.
Большую роль в процессе адаптации детей, а также достижения ими хороших результатов в школе играет радость родителей-иммигрантов[186]. Когда родители, прибыв в чужую страну, страдают от мысли о переселении, их дети тоже испытывают стыд. Принимающая сторона чувствует настроение вновь прибывших. Немцы приняли греков скорее радостно, тогда как в большей степени подверженные депрессии и агрессивно настроенные турки часто оказывались в изоляции. В каждой культуре закодировано выражение психического страдания: например, португальцы прячутся, чтобы страдать в одиночку, замыкаются в себе, стискивают зубы и пытаются не посвящать других в свои несчастья. А жители Антильских островов, напротив, ярко выражают собственные чувства[187], открыто радуются, если им радостно, а когда страдают, то буквально кричат об этом, пьют и дерутся. Типология (возможно, несколько поверхностная) приписывает ливанцам спокойствие, туркам — агрессивность, китайцам — умение быстро интегрироваться в новую среду (от чего, впрочем, они не испытывают удовлетворения), мексиканцам — хандру, а британцам — снисходительность. Исследования показывают, что каждый коллектив обладает своим собственным набором экспрессивных особенностей, которые более или менее сносно вписываются в рамки культуры, существующей в принимающей стране[188].
Названная типология, повторимся, поверхностна и меняется в зависимости от транзакций между двумя группами населения, носителями разной культуры. Поляки-католики, приглашенные во Францию в 1930-е гг. для работы в угольных шахтах, быстро ассимилировались с местным населением, несмотря на жестокое обращение с ними полицейских — малейший инцидент заканчивался депортацией из страны. Минимум психологических колебаний, минимум экстренной медицинской помощи, минимум стремления к совершению преступлений. Закончив рабочую неделю, требовавшую серьезных физических усилий и исключительной моральной устойчивости, поляки брали аккордеон и вовлекали всех местных жителей в участие в народных балах прямо на улице. Они конкурировали с предпочитавшими мандолину итальянцами — любителями играть канцонетты. Те же самые группы, прибыв в США, не завели обычай праздновать и танцевать; в стране, где связи между различными членами социума были сложнее, они оказались изолированными. Мужчины болели, ломались психологически, сбивались в банды преступников.
В послевоенной Франции польские евреи украдкой страдали и частенько посещали кабинеты психоаналитиков. Слабый уровень преступности в их среде, возможно, свидетельствовал о процессах торможения. Группа аналогичного происхождения, отправившаяся в США, быстро интегрировалась — без медицинской или психиатрической помощи, а о том, чтобы вступать в банды, не было и мысли.
Следовательно, одна и та же рана может порождать различные транзакции — в зависимости от социальных и культурных нюансов принимающей стороны: оптимистичные в той культуре, где солидарность служит фактором удобства, они вполне могут опускаться на дно и становиться преступниками, будучи изолированными от коренного населения и в условиях, когда клановость дает им в любых ситуациях необходимую защиту.
Китаец, эмигрирующий в США, становится членом китайско-американского сообщества, начавшего формироваться еще в XVII в. Окруженный теми, кто его понимает и социально защищенный, он испытывает постоянное стремление, не теряя связи с обычаями родной страны, добиться успеха и легко влиться в новое общество. Откуда же тогда берется горечь, которую демонстрируют китайские эмигранты, оказавшиеся в любой чужой стране? Становится ли присущая им солидарность, обеспечивающая безболезненную интеграцию, своего рода желанием влиться в серьезный, достаточно закрытый клан? Некоторые китайцы, прибывающие сегодня в Северную Европу, попадают в абсолютно новый для них мир. Их неплохо принимают, однако они теряются, оказываясь в новых климатических и языковых условиях, а также среди ритуалов и обычаев, непонятных им. Необходимость меняться угнетает вновь прибывших, изолирует их от местного населения и делает агрессивными, поскольку они чувствуют себя притесняемыми в этом неподдающемся расшифровке мире[189]. Не стоит говорить, что горечь ощущается долго. Но сегодня мы все чаще видим, как молодые китайцы посещают музеи, открывают для себя греческое искусство, итальянскую оперу и смеются в кино над тем же, что заставляет смеяться европейцев.
Таким образом, необходимо вести речь о причинно-следственных связях. Мы не можем более говорить, что популяция эмигрантов становится проблемой, когда их число превышает 10 % от коренного населения. Некоторые большие группы иностранцев развивают культуру принимающей стороны, когда транзакции между двумя группами населения облегчают их участие в социальной эволюции (они могут спасать культуру, спасающую их самих).
Случается, что некоторые группы организуются в изоляты, где индивидуумы выживают, сбившись в подобие клана. Чтобы не умереть, они подчиняются клановости, в которой нет ни намека на человечность, зато существует жесткая иерархия. Все, кто не наверху, становятся паяцами, людьми второго сорта. Подобная защита, необходимая, когда на группу нападают, портят индивидуумов, которые выбирают для себя подобную защиту.
Школа: ограничение свободы или освобождение?
Когда коллектив не имеет необходимости в столь болезненной защите, школа становится главным путем интеграции детей в новые условия существования. Но чтобы она стала этим путем, необходимо, чтобы взрослые привили интерес к школе своим детям. Чтобы семья — терпеливой мимикой, ободряющими улыбками и назидательными историями — внушила ребенку, что школу нужно посещать, если есть желание достичь успеха в обществе. Братья и сестры, друзья, живущие по соседству, должны разделять это мнение, а сама школа — не разочаровывать в этих ожиданиях. Когда ребенок испытывает постоянную эмоциональную, дружескую и интеллектуальную поддержку, мы можем констатировать, что «дети иммигрантов развиваются успешнее, чем дети местных жителей»[190].
Между детьми, спасенными школой, и теми, кто «спасся» от школы, существует разница, проистекающая из семейного уклада. Окружение должно сделать так, чтобы ребенку захотелось посещать школу. Если отец рассказывает о своем трудном детстве и подчеркивает, что школа помогла ему выжить, он указывает малышу на способ возможного освобождения. Когда мать подбадривает ребенка-школьника и сопровождает его по жизни, когда в семьях обсуждаются книги, будоражащие культуру, школа входит в дом и становится гранью повседневного существования. Такой способ жизни, возможно, более соответствует культуре, где школа благоприятствует появлению новых социальных групп.
Те коллективы, где родители игнорируют или презирают школьное образование, вызывают удивление. Дети в таких коллективах абсолютно одиноки. Когда я пишу слова «абсолютно одиноки», то хочу сказать, что эти дети остаются один на один со школой, пытаясь поверить, что та может стать для них путем к освобождению. Как бы не так!
Мой друг Эрик во время Второй мировой войны лишился семьи. Ему было шесть, когда его отвезли в деревню, в приемную семью. После нескольких лет отчаянного смущения и плачевных школьных результатов, ребенок обрел два фактора устойчивости: он окунулся в атмосферу исконно присущей крестьянам доброжелательности и получал поощрение со стороны месье Юбака, школьного учителя. В течение нескольких недель ребенок, измученный несчастьями, наконец-то успокоился: школа стала для него местом, где он переживал мгновения радости! Школу в то время посещали менее 3 % детей, это считалось едва ли не нормой, но приемная семья с удивлением и радостью обнаружила, что перед их ребенком открываются неожиданные перспективы. Позже Эрик получил грант на учебу в старшей школе и начал блестящую карьеру чиновника, занимающегося вопросами экологии. Сегодня все говорят о его интеллекте и умении работать. Но что стало бы с ним, если бы месье Юбак пренебрег им или его приемная семья предпочла бы отправить его работать в поле, как большинство мальчиков, его сверстников?
Самый известный пример — Альбер Камю, посвятивший свою Нобелевскую премию господину Луи Жермену, учителю, подарившему ему, ребенку, счастье чтения. Когда Камю рассказал о своем успехе матери (Нобелевская премия), та ответила ему, что его брюки помялись и что она готова их погладить; затем великий человек был раздет. Мать Камю ничего не знала о том, что такое Нобелевская премия, но эта неграмотная женщина старалась делать все, чтобы ее сын ходил в школу, когда вокруг все твердили, что ему пора уже обучаться какому-нибудь ремеслу, и Камю обожал ее[191]. Тахар Бенжеллун, марокканский писатель, тоже превозносил свою неграмотную мать. Он мягко просил ее немного рассказать о своей жизни, пока болезнь Альцгеймера не погасила ее сознание[192].
Сложнее понять, почему некоторые дети готовы с невероятным упорством продолжать ходить на уроки, несмотря на то что окружающие не поддерживают их в этом. Мунир вырос в бедности. Все, кто находился вокруг, были скупы на слова и не имели денег. Он убегал, дрался и воровал — до момента, когда его вновь возвращали в лоно семьи. Почему его педагог вдруг обратил на него внимание? Мунир неожиданно стал примерным учеником, наверстал упущенное и был отправлен в Париж — продолжать вожделенное обучение. И тогда в его голове случился разрыв шаблона! Он хорош собой, с ним стремятся дружить, его школьные успехи — замечательны, но каждый вечер ему звонила мать, чтобы сказать: это настоящее предательство — думать исключительно о себе. Он-де покинул семью и даже ни разу не сел в поезд, чтобы повидать своего братишку, только что оказавшегося в тюрьме! После этих слов Мунир никак не мог сосредоточиться. Получив возможность продолжать учебу в институте, он должен был чувствовать себя предателем в собственной семье. Как рассказать матери о коктейлях на вечеринках и беседах с начальниками производства? Как она отреагирует на это — она, которая после пятнадцатого числа каждого месяца не имеет ни гроша, чтобы что-либо покупать? Как рассказать брату об удовольствии от чтения, если тот ненавидит интеллектуалов? Тогда Мунир стал прогуливать занятия, рядиться в лохмотья, поглубже натянул кепку и опустил плечи, — зато он гордился своими корнями. Если бы он получил хорошее место, он бы стал стыдиться родственников, а недоучившись, испытывал стыд от того, что предал свои мечты. В обоих случаях он ощущал себя ничтожеством!
Хороший ученик — не обязательно герой, все зависит от смысла, который школа имеет для его семьи. Многие иммигранты признавались, что их единственное достоинство — сопротивление несчастьям, смелость и желание трудиться без жалоб. И правда, такой человек соглашается на любую работу и отдает все свои деньги жене. Он молча лелеет в себе свое страдание и гордится тем, что трудится на благо семьи. Многие итальянские, португальские или польские иммигранты, несмотря на богатство своих национальных культур, признают, что главное их достоинство — желание вкалывать на благо их близких. «Зубрят только девчонки и педики», — заявляют эти грубоватые мужчины, пиная книги ногами. Однако некоторые детишки, вопреки всему, учатся тайком и становятся преподавателями французского языка… к великой гордости своих отцов! Вот так чувство стыда быстро переходит в чувство гордости!
Эмоциональность и школьные перформансы
Лабильность чувств позволяет избежать бессознательного стремления к фигурам привязанности. В 1990-е гг. в Великобритании проживали две группы антильцев. Одни грустили по родным островам, испытывали ностальгию по климату и красотам своей страны: их дети представляли собой отряд безвольных тупиц или хулиганов. Другая группа была рада возможности начать новую жизнь в Великобритании: их дети не чувствовали себя подавленными, овладевали хорошими профессиями и в конце концов благополучно устроились в жизни[193]. Эмоциональная близость, привязанность, благодаря которой положительные эмоции распространялись между членами группы, помогали ощущать вкус к жизни. Меняясь в соответствии с эмоциональным контекстом, этот вкус менял смысл, которым обладали факты.
Ариэль удивляется вариативности своих школьных оценок[194]. Она была отличницей до той ночи 1942 г., когда отец разбудил ее, чтобы поручить заботам двух дам, которые отвезли девочку в «Детский приют Данфер-Рошро» в Париже. Оказавшись в «Ассистанс публик», она попала под влияние антисемитских настроений. Разговаривать в дортуарах было запрещено. Впрочем, это Ариэль и не удалось бы: соседки по кровати менялись почти каждый вечер. Она не понимала, почему отец бросил ее. В душе девочки поселился холод. Она больше не испытывала удовольствия от чтения, не имела сил сопротивляться, почти не двигалась и смирилась.
Когда она пошла на занятия, учительница вздохнула и произнесла: «Еще одна из „Ассистанс“…» В ее голосе не было умиления. Она даже не взглянула на ребенка. «Я ничего не понимала. Абсолютно… Ничего не откладывалось у меня в голове… — призналась позже Ариэль. — Мне было стыдно. Стыдно от того, что я не понимаю…»[195]
В сентябре 1945-го, по окончании войны, девочка вернулась в родную школу на улице Фоли-Мерикур. Мадемуазель Дюваль узнала ее и сказала: «В классе сейчас тридцать пять учениц. После облавы 16 июля 1942 года[196] их было только восемь, и все — не еврейки».
Когда Ариэль вновь обрела отца и школу, в которой она делала успехи, ее внутренняя жизнь возродилась. «Любопытно, что уже на первом уроке мне показалось, что я начала понимать… Может, это была не я?»[197] Почти сразу же Ариэль стала первой ученицей в классе.
Многие дети пережили подобный опыт. Будучи хорошими учениками (когда они чувствовали себя защищенными), они словно замерзали, если считали, что их отвергли. Даже если насилие в их отношении было неочевидным, оно обладало мощной разрушительной силой. Взрослый мог слышать, как учительница вздыхает: «Еще один из „Ассистанс“…», но его не задело бы так, что учительница не смотрит на него. В случае ребенка это «несмотрение» означает: «Я хочу, чтобы тебя не было в моем мире». Нелюбовь к этой школе стала формироваться под влиянием складывавшейся вокруг девочки эмоциональной атмосферы. И наоборот.
Культура людей, живущих по соседству, играет важную роль в понимании важности школьного образования. В районах, где всем правят наркотики, преступность становится своего рода адаптивной функцией, позволяя любому заниматься коммерцией. В таких местах школа не является синонимом «удовольствия, получаемого от размышлений», ступенью к последующей социализации или возможностью исправить ошибки родителей. В фавелах Сан-Паулу дети, решившие общаться с танцором или гитаристом, чтобы приготовить спектакль для соседей, очень скоро перестают быть отстающими в школе. Однако их презирают мальчишки, зарабатывающие за один вечер больше, чем их отцы за целый месяц[198]. Для таких детей школа — ничто; значение имеет только флирт со смертью. То, что они научились любить смерть, придает им экстраординарную смелость и сокращает их жизнь. Ну и пусть! Необразованные, признающие исключительно право сильного, они обожаемы другими ребятами и ловят на себе восторженные взгляды девчонок. Они не боятся взрослых, много зарабатывают и ярко вспыхивают перед смертью.
Подобная культура «живущих по соседству» способствовала возникновению нового феномена: исключению из нее бедных белых! Богатые белые уже несколько поколений подряд живут в красивых кварталах, а их дети посещают школы, дающие возможность получить хорошие профессии. В бедных кварталах, расположенных вокруг больших городов (как было замечено относительно недавно), дети иммигрантов (зачастую цветных) лучше адаптируются к местной обстановке, чем дети бедных белых из тех же кварталов. Сам факт — быть ребенком иммигранта — достаточно болезненный стимул, однако он придает смысл обучению в школе и силу гордиться собой. Вплоть до начала 1970-х гг. дети армян и евреев, в какой бы новой культурной среде они ни оказывались, демонстрировали впечатляющие школьные результаты — несмотря на материальные трудности. В 1980-е и позднее к ним присоединились азиаты и антильцы.
Бедные белые из этих же кварталов лишены аналогичных причин смиряться и страдать. Усилия, которые требует обучение в школе, не имеют для них того же значения, что и для иммигрантов, — ведь они родились в этой стране. Иммигрантская солидарность, позитивный настрой, необходимый для преодоления испытаний, успехи детей иммигрантов в школе — все это добавляет интеллектуальному и социальному краху белых бедняков оттенок дополнительного унижения. И тогда они сбиваются в крайне агрессивно настроенные и презирающие всех и вся банды, полагая, что, проявляя крайнее насилие, смогут отомстить за стыд, который испытывали, ощущая себя ничтожными, — они, подлинные хозяева!
Привязанность и школьное отречение
Иммиграция не является препятствием школьному обучению, даже напротив[199]. Многочисленные интеллектуалы часто воспитаны бедными, необразованными родителями, восторженное обожание которых они пронесли через всю жизнь, — как об этом рассказывают Камю и Тахар Бенжеллун. Главное препятствие учебе — процесс декультурации, протекающий в тех кварталах, где в почете архаичная жестокость и эротизация смерти. В подобном контексте переносимая, а главное — наблюдаемая своими глазами жестокость провоцирует неуправляемые эмоции, приводящие к травматическим разрывам. В культурах предместий почти 20 % неполных семей, где ребенка воспитывает бедная, заваленная работой мать, неспособны защитить своих детей. Более 30 % тех, кто долгое время сидит без работы, лишают детей возможности восхищаться отцами. Отсутствие культурных ритуалов — например, необходимости прилично одеться, чтобы пойти в кино с друзьями, или вступить в жаркие обсуждения, обычно возникающие после просмотра какого-либо спектакля, снижает саму возможность дружеских встреч. В таком социокультурном контексте коварно подкрадывающиеся, но явные травмы следуют чередой[200]. В сообществах, отказавшихся от ритуалов, чувство страха и депрессии возникает гораздо чаще, чем в бедных, но образованных группах[201].
В среде, где спасение возможно лишь благодаря образованию, неудачи в школе порождают отчаянный стыд. Жан-Люк умирал от стыда, потому что провалился на вступительных экзаменах в старшую школу. «Я — хуже, чем дерьмо», — говорил он мне, избегая смотреть в глаза. Но в культуре, не предполагающей других путей спасения, кроме как соблюдения семейных традиций, стыд возникает именно от осознания своего нежелания соблюдать эти традиции. В квартале Дерб Галлеф, Касабланка, принято гордиться собой, если посвящаешь себя семье. Там не стыдно продавать мелкие предметы, чтобы накормить родных. На нечетко очерченной территории живут примерно 20 тысяч человек — в основном внутренние иммигранты, выходцы из Беррешида и Деруа; там придумали спать на матрасах, которые кладут поверх досок, и торговать старыми книгами, часами и рыбой. Мужчины и женщины, попавшие в этот мир, гордятся тем, что посвящают работу своей семье[202]. «Я первый год изучаю право в Университете Хасана II и имею диплом бухгалтера Института Гете. Мой отец болен. У меня четверо младших братьев и три сестры. Я счастлив торговать мебелью» Или другое мнение: «Мой отец подарил мне эту лавочку. И было бы унизительно от нее отказаться. Я предпочитаю работать на рынке, а не в компании, куда я мог бы устроиться IT-специалистом».
Подобный вариант социализации не знает исключений: «Я работал в банке, имел диплом и носил галстук. И я часто ощущал тоску. Теперь я латаю автомобильные покрышки, у меня есть друзья, я беседую с ними, слушаю их рассказы и хорошо сплю».
В нескольких минутах ходьбы от рынка живут богатые и образованные европеизированные марокканцы. Личный успех помог каждому из них выстроить собственную судьбу, и если у них что-то не получается, они тоже умирают от стыда. В культуре, сформировавшейся в непосредственной близости от рынка, принято касаться друг друга руками, разговаривать и помогать друг другу. Понятие успеха принимает иные формы, отчего в свою очередь трансформируется и само чувство стыда.
Ситуация с еврейскими детьми, подвергавшимися преследованию во время войны, способна помочь нам понять, как особенности формирования социальной структуры могут поселить в душе ребенка чувство стыда или гордости.
Рассказы окружения и интимные чувства
Менее чем за три года гонений в Европе было убито 70 % всех взрослых евреев и 90 % детей[203]. За исключением Франции, где каждый третий взрослый (всего 76 тысяч) и каждый четвертый ребенок (11 400) были отправлены в Аушвиц и сожжены в печах. Парадоксально, что даже в представлении антисемитов-христиан требование носить на одежде желтую звезду выглядело шокирующим и вызывало ответный порыв солидарности — с движением «Банальность добра» и Еврейским Сопротивлением, которые занимались спасением людей. Сорок тысяч спрятанных от недоброжелателей и оказывавшихся в разных условиях детей требовали заботы. Меньшая часть попала в услужение к всевозможным тенардье, которые эксплуатировали и притесняли их, некоторые остались с родителями, но большинство выжили благодаря отваге крестьян, заботившихся об этих детях. Абсолютно всем детям ради спасения пришлось скрыть свое еврейское происхождение. Подобная социальная необходимость заронила в их головы сложное представление о себе: «Если я скажу, что я еврей, меня ждет смерть. Если не скажу, стану предателем». Стыд глубоко укоренился в их душах.
Это чувство было вызвано вариативностью повествования: дети слышали чужие слова, согласно которым все евреи — грязные, думают только о деньгах, что евреи составили заговор с целью обладания миром и что необходимо истреблять еврейских детей, прежде чем они начнут совершать преступления, которые обычно совершают евреи. Устами других они фактически были приговорены к «упреждающей» смерти… если бы они могли ответить! Но чтобы выжить, надо молчать. Легко! Есть лишь одно «но»: промолчав, они предавали тех, кто их любил; ответив, они приговаривали себя и их к смерти.
Подобные негативные реплики иногда высказывались даже теми, кто защищал евреев. Возникавшая между крестьянами и спрятанными ими детьми связь — нежная и грубая одновременно — существовала до момента, когда взрослый, вечно раздраженный нехваткой денег, объяснял экономический кризис «еще одним происком евреев». Иногда, напуганный жестокостью оккупационной армии, взрослый добавлял, что «война началась из-за евреев, и без них все было бы гораздо лучше!». В ответ на эту риторику дети не могли возразить, они знали, что еще слишком малы и приговорены молчать, к тому же им не хотелось вызвать злобу крестьянина, который их любит. Тогда они с иронией спрашивали: «Если бы ты увидел еврея, ты бы сразу узнал его, папочка, правда?»[204] Было в этом некоторое удовольствие — наблюдать за «папочкиным» промахом; эта своеобразная «дразнилка» убеждала ребенка в правильности выбранной модели поведения: кое о чем умолчать, чтобы жить в безопасности. Но это защищающее молчание порождало стыд: «Я боюсь рассказать о себе все, рассказать, кто я такой на самом деле. Мне немного стыдно, что меня любят другим. А таких, кто я есть на самом деле, не любят; значит, эта любовь не настоящая».
Подобная реляционистская стратегия, основанная на том, чтобы показать лишь часть себя, позволяет оставить в тени другую часть — опасную. Раздвоение личности приводит к тому, что одна часть становится реальностью («если расскажу — умру»), а другая ее отрицает (это не столь серьезно, как первое). Можно играть со смертью. Можно даже рассказать — так, что получится скрыться за словами. Достаточно рассказывать определенного рода истории.
Так все время поступают взрослые: говорят о том, чего не знают, произносят слова, которые повисают в воздухе, ничего не означая, — например, о том, что такое быть евреем. В годы войны закон вишистского правительства сделал евреев очень заметными, обязав их носить на одежде звезду. Не нашив ее, они рисковали быть арестованными во время одной из бесконечных полицейских «зачисток» улиц и общественных мест, а потом исчезнуть. Сделав нашивку, они были (бы) схвачены у себя дома, ночью, и… исчезли. То есть ребенок сначала осознавал, что его родители слишком выделяются на фоне других, а потом внезапно терял их. До момента исчезновения он успевал привыкнуть к родителям, пусть даже не гарантировавшим ему защиту. Да и потом он все равно продолжал любить их — исчезнувших и оставшихся только в его памяти.
Чрезмерная психологическая связь с пропавшими родителями, тем не менее, не облегчала формирование связи с приемными. «Если я полюблю этих людей, значит, я предам моих исчезнувших родителей», — думали многие сироты. Тем более что и в наступившее мирное время евреи продолжали быть видимыми или невидимыми. Большинство из них, прожив несколько столетий во Франции, к ортодоксальным евреям не относились и считали себя скорее французами, были и такие, кто с удивлением обнаруживал у себя еврейские корни только в момент ареста, но все выжившие имели причину прислушаться к словам публичного человека — Мендес-Франса, заявившего о своей принадлежности к еврейской нации: «Я хочу сказать, что я — еврей, но в действительности я не знаю, что означает „быть евреем“». Этой фразой он раскрыл свое происхождение, хотя раньше всегда заявлял о себе исключительно как о лишенном национальности политике. Появившаяся немного позднее в Европе строгая одежда правоверных, большие черные шляпы, белые рубашки без галстуков, косички над ушами тоже связаны с признанием евреями своих корней.
Дети, рожденные в определенной среде, привязываются к тем, кто занимается их воспитанием. День за днем они впитывают — как нечто само собой разумеющееся и доказывающее их еврейское происхождение — манеру одеваться, совместные молитвы и беседы. Совершающиеся у них на глазах ритуалы внушают им мысль о родовой принадлежности к группе тех, кто их любит. Разделенная с кем-то вера формирует общение, представления о мире, встречи дают реальную возможность выстраивать связи — во время коллективных трапез, выходов, семейных и религиозных праздников. Гордость от того, что твои родители живы, возможность любить их и восхищаться ими, истории, рассказанные в культурном контексте, и ценности коллектива — все это придает детям веру в себя и внушает самоуважение.
Спасенные (спрятанные) дети не могли ощутить это чувство принадлежности. Их родители умерли, и они плохо понимали, почему и куда те исчезли. Они даже не могли представить, какими были последние дни их родителей, настолько были защищены отрицанием невыносимого ужаса, который вызывает попытка представить это. Как можно представить отца и мать, идущих обнаженными по направлению к печи? Скорее, надо подумать о чем-то другом! Они не могли слышать истории о жизни родителей до их смерти — некому было их рассказывать. И поэтому они могли только одно: представлять родителей через обрывки истины: фотография здесь, намек там, переданная соседями квитанция на оплату жилья, доказывающая, что они когда-то жили в этом доме. Публичная дискуссия становится единственной молитвой за исчезнувших родителей и попыткой сорок лет спустя рассказать о том, что они дали увести себя на бойню, как бараны. И лишь спустя шестьдесят лет историки, порывшись в архивах, расскажут о том, что евреи сражались с нацистами в составе всех армий и участвовали во всех движениях Сопротивления[205].
Стыд, вызванный происхождением
В приемных семьях и учебных заведениях, где спасались эти дети, говорить о таких вещах было не принято. Надо было возвращать к жизни, идти вперед и, главное, не пережевывать свое прошлое. Воспитатели, защищавшие детей, превратили процесс отторжения в элемент неизбежной коллективной психологии, уничтожив драгоценную часть представлений человека о самом себе. «Я думаю только о том, как двигаться дальше, я не знаю, откуда иду, не знаю, как молиться за мою семью, мне неведомо, какие ценности я должен уважать, чтобы мои умершие родители полюбили меня. Мне стыдно за мое происхождение, стыдно, что я не такой, как все, стыдно, что мое происхождение обросло коростой. Вперед! Вперед! Вот единственный способ не чувствовать себя дурно. Если я хочу вернуться к жизни, я должен придумать себе будущее и отказаться от прошлого» — так думали спрятанные дети.
Те, кто окружен семьей, способной защитить, все детство демонстрируют свою любовь, пусть и без слов: одеваются как положено, чтобы показать, насколько они гордятся своей принадлежностью, молятся, как родители, чтобы разделить их веру; они живут в том же ментальном мире, что дает им ежедневно ощущать радость и блаженство.
Во время войны, чтобы не умереть, спрятанные дети должны были скрывать, что они евреи. После войны им пришлось скрывать, что их прятали, — чтобы и дальше жить, отказавшись от прошлого. Следовательно, они любили своих исчезнувших родителей украдкой. Они не могли говорить о своей любви, поскольку их новое окружение не было знакомо с их родителями и не могло внушить детям мысль перестать думать о них. Они использовали малейший знак, чтобы вернуться к воспоминаниям: «Не знаю, откуда у меня фото мамы. Наверное, его нашли в моей папке в картотеке „Ассистанс…“. На обороте, когда мне было семь, я написал: „Это — мама Иосифа“. Иосиф — это я, но я не рискнул написать „Фото моей мамочки“. Наверное, я неправильно произношу это слово. У меня не было возможности выучить, как оно произносится. Мне было два года, когда она исчезла. Когда я вырасту, у меня будет много ее фотографий, и я все их подпишу».
Иосиф спрятал коряво подписанную фотографию. В стене фермы он отыскал шатающийся камень, вытащил его и засунул в нишу коробочку с фото. Только он знал, где лежит его тайное сокровище, символизировавшее связь. Он часто думал о фотографии, иногда приходил взглянуть на нее, но никогда никому о ней не рассказывал. Он оставил в тени эту часть своей биографии, чтобы лучше явить на свет то, с чем проще всего было мириться другим. Однако благодаря сценарию «Спрятанное сокровище» и подписанному фото Иосиф стал учиться на режиссера… и стал им двадцать лет спустя.
Выбор прост: спасенные дети, которые всю жизнь прожили, скрывая прошлое, зарыли стыд в глубине собственных душ. Те же, кто, наоборот, был вынужден заполнить пустоту исчезновения признанием своих корней, выбрали более креативный путь. Они превратили страх бездны в удовольствие расшифровывать тайну. Когда эта тайна становилась предметом, интересовавшим их окружение, ребенок, получивший приют, чувствовал возможность выразить себя и что-то сделать со своей травмой. Превращение пустой могилы в произведение искусства (роман, фильм, эссе) позволяет жертве стать из предмета торга «плодом воображения»[206]. Превращение гусеницы в бабочку возможно лишь тогда, когда об этом говорят окружающие.
Когда после войны окружение стало использовать в повседневной речи слова «жид», «бошское отродье», «педик» или «негр», эмоциональная нагрузка этих слов формировала репрезентацию, позволяющую забыть про нанесенные травмы. Грубый, надменный дискурс не оставляет обществу возможности для диалога; поэтому евреи, немецкие дети, гомосексуалисты и черные умолкают. Единственный дискурс, распространяющийся на все культурное пространство, наполнен триумфальным сарказмом: «Мы принадлежим к расе благополучных, мы не евреи! Наши женщины не практикуют „горизонтальный коллаборационизм“, они чисты. Наша сексуальность — здоровая, наша кожа бела. Значит, у нас есть все основания выиграть войну».
Вынужденное молчание не мешает размышлять, однако не дает возможности поделиться опытом. Когда социальный дискурс настолько презрителен, а унижаемый не способен восстать, он думает только об одном: своей совести. Зачастую он находит способ приемлемого всеми культурного самовыражения: поэзия, пение, театр, роман, эссе или ирония. Необходимость молчать вынужденно становится произведением искусства.
Культурная атмосфера военного и послевоенного периода, помимо прочего, характеризуется двумя противоположными (по смыслу) типами дискурса: «попугайной болезнью» и «склепом поэтов». Пситтакизм — способ как можно быстрее выплевывать слова, убеждающие, будто мы что-то понимаем. Естественно, все наоборот, однако прозрачность произносимого влияет на непонимающих. Подобный культурный прием дает возможность создать иллюзию внятности и защититься от чувства вины. Я могу на всех парах выпалить какую-нибудь психологическую теорию, в которой ни слова не понимаю. Но если, потренировавшись, я сносно ее излагаю, вы будете впечатлены моей виртуозностью. Я доволен тем, что впечатлил вас.
Заставляющие стыдиться и их лингвистический камуфляж
Если мне не по себе от того, что я за небольшую премию от комиссариата выдал полицейским своего соседа-еврея[207], у меня — дабы я не испытывал чувства вины — появляется вполне закономерный интерес пересказывать теорию жидо-масонского заговора. Если меня беспокоит моя сексуальность, простое презрение, обращенное на педиков, заставляет меня поверить, что я не так ничтожен, как они. А если я ничего не сделал в жизни, мне достаточно насмехаться над негром-шимпанзе, чтобы занять более высокое место в общественной иерархии. Этот лингвистический камуфляж[208] защищает меня, им я могу маскировать свою незавидную реальность, не чувствуя никаких угрызений совести.
В послевоенные годы все рассказы строились таким образом. Чтобы не воскрешать в памяти невыносимые картины смерти — тела гражданских лиц, погибших во время бомбардировок, — достаточно было поговорить о «вражеских союзниках» или «неизбежных потерях». Чтобы не думать о женщине или ребенке, застреленных в голову, достаточно поскорее написать административный рапорт и витиевато обойти неудобные пункты. Канцелярский язык состоит из клише и позволяет избежать выражения эмоций[209]. Общие места или стереотипы нивелируют представления об ужасном. Но в этом случае выживший оказывается в окружении историй, защищающих агрессоров. Убийца старается не думать, чтобы не страдать, а переживший травму думает лишь о ней, но не может сказать вслух. Он даже не может свидетельствовать о чем-либо, если недоверчивое окружение насмехается над ним или снижает значение травмы с целью избавиться от чувства вины. «Изнасилованные женщины сами отчасти виноваты, не так ли? Любопытно, что евреев постоянно преследуют. Что они такого сделали, чтобы их преследовали? Что делают женщины такого, что их насилуют? Посмотрите-ка на таиландского премьер-министра, заявившего, что в инфляции виноваты евреи. Что касается чернокожих, то, сколько им не дай денег, они думают лишь о футболе и о том, как бы перерезать друг друга своими мачете».
Очутившись в таком вербальном контексте, униженный совершенно ясно понимает: молчать — означает найти легкое решение проблемы. Молчание становится инструментом адаптации, позволяющим существовать в обществе, проникнутом такими идеями, не раскрывая часть своей личности. Восставать в одиночку кажется абсурдным в сравнении с гигантскими размерами и мощью культурного стереотипа. Но всегда есть возможность, по крайней мере, высказать что-то вслух и талантливо превратить свою травму в культурное событие. История одного человека, поначалу вполне маргинальная, способна изменять коллективные представления.
Любая вера принимает вид системы образных, словесных, мифических представлений, а также предрассудков, формирующих коллективные проекты. Любая вера — это индуктор внутренних чувств индивидов, разделяющих одни и те же воззрения. Рассказываемая история вызывает эмоции и увлекает абсолютно всех. Фразы, унижающие негров и педиков, — словесный прием, позволяющий унижающим сохранить самоуважение. Однако чернокожие и гомосексуалисты, оказывающиеся героями этих историй, вопреки своему желанию вовлекаются в чужие представления — тех, кто над ними насмехается. Согласиться с услышанным или отреагировать? Унижаемый не всегда обладает подобной свободой. В конце Второй мировой войны матери-француженки, родившие от немецких солдат, также были вынуждены прятать своих детей. Малыши росли в исключительно драматичных условиях. Едва они родились, как крах нацистского режима вынудил их испытать на себе все беды отцов и матерей, им пришлось научиться молчать, чтобы не подвергаться издевкам. В первые же месяцы жизни изначальная эмоциональная связь была утрачена — из-за родительского стыда, возникшего по причине участия матери в порочащих связях, — матери, всегда мрачной, беспокойной, а иногда и отказывающейся от новорожденного, ведь он означал для нее совершенно понятное: «Из-за тебя я в опасности. Мне стыдно, поскольку твое присутствие демонстрирует людям мою причастность к тому, что они называют „горизонтальным коллаборационизмом“, я — всего лишь немецкая подстилка». В подобных историях любовь француженки к немецкому солдату становилась синонимом предательства. Преследуемая мать и отец, о котором нельзя говорить, стали поводом наложить вето на любые рассказы о корнях. Ни малейшего права знать свое постыдное происхождение! Прежде чем эти дети смогли заговорить, они были вынуждены расти в семьях, где эмоциональные связи были нарушены материнским несчастьем и табу на произнесение имени отца. Вместо отца — тошнотворное черное пятно, к которому нельзя прикасаться. У этих детей слишком поздно и трудно вырабатывалась устойчивость. Некоторым пришлось ждать 1990-х, чтобы (вначале художники, а потом писатели) рассказали об этой проблеме в своих произведениях, таким образом поместив ее в культурный контекст[210]. Виноваты ли эти дети? Действительно ли их родители — преступники? Изменившийся социальный контекст позволил заговорить историкам, рывшимся в архивах и искавшим свидетельства тех событий[211]. Они обрели устойчивость спустя пятьдесят лет — примерно тогда же, когда и еврейские дети, спрятанные во время войны.
Чернокожие и желтая звезда
Чернокожие не должны бояться взглядов других и слушать истории, которые рассказывают нечернокожие. Любопытно говорить «чернокожие» — как будто произносишь: «Голубоглазые любят классическую музыку и работать». Значение, приписываемое цвету, логично связано с историей цивилизации — той эпохой, когда «нечернокожие» располагали кораблями, оружием, технологиями и идеологиями, закреплявшими за ними все права. Но отнюдь не цвет является доказательством принадлежности к низшей расе, он просто отражает определенное социальное положение. Иметь черную кожу или голубые глаза — само по себе мило, но когда «чернокожий» означает «недочеловек», а «голубоглазый» — признак тех, кто вручил себе власть управлять, «черная кожа» становится своего рода стигматом представителей низшей расы, наглядно рассказывающим историю унижения раба или изнасилованного ребенка. И именно смысл рассказываемого вызывает стыд, а вовсе не сам факт наличия черной кожи — ведь ее владелец, быть может, является потомком какого-нибудь принца, плодом большой любви или просто титулованным человеком.
Многие чернокожие испытывают чувство стыда, ловя на себе взгляды других. Они даже разработали собственную иерархию оттенков черного цвета. Обесценивание образа приводит к появлению историй о черных — и остальных, не— или менее чернокожих: «Я страдаю, когда вижу, как на меня смотрят белые; поэтому я буду покупать продукты белого цвета и разобью термометр, чтобы увидеть, как ртуть белеет на моей коже». Чернокожий даже может размышлять так: «Я презираю белых, презирающих меня, и заставляю их узнать об этом». Ответ агрессией на агрессию — закономерная защита, она требует от униженных вести себя «зеркально». Чернокожие выбирают жизнь среди себе подобных, чтобы в минимальной степени ощущать присутствие белых. Однако сегодня многие чернокожие, подобно Нельсону Манделе, решаются продемонстрировать свое благородство — чтобы белые посмотрели на них иными глазами: «Взгляните, как я красив, силен и благороден. Я не проповедую месть, я расскажу вам, что вы заставили меня пережить». «Показать, не обвиняя. Важность рассказываемого оказывается важнее процесса говорения»[212]. В ЮАР многие белые, представшие перед Комиссией Истины и Примирения, плакали и признавались: «Я не отдавал себе отчет в том, что именно мы заставили их вытерпеть». Когда истории выглядят иначе, нежели раньше, меняется и сам смысл рассказываемого.
Если женщина говорит: «Муж видит во мне красавицу», она участвует в игре «эмоциональное зеркало», где каждый сравнивает себя с представлениями о нем другого, словно говоря: «Я чувствую себя желанной, поскольку он меня хочет. Блеск желания в его глазах заставляет меня взглянуть на саму себя иначе».
Бенжамену было одиннадцать, когда ему пришлось пришить на одежду еврейскую звезду. Он рассказывает: «Я топтался за дверью целый час, не решаясь выйти, а потом резко бросался на улицу, где меня ненавидели, презирали, поносили, толкали. Простой взгляд другого на „меня-со-звездой“ заставлял меня буквально исчезнуть от стыда… После Освобождения я захотел поменять имя, хотел, чтобы меня звали Дюпон, как всех вокруг. Другие больше не смогли бы — как мне казалось — видеть меня насквозь, я стал бы свободен».
И напротив, многие евреи, перед тем как выйти из дому, тщательно выряжались — как в воскресный день. Сейчас слово «выряжаться» почти исчезло из нашего обихода, и по воскресеньям мы больше не надеваем красивый костюм, платье, шляпу и белые перчатки. Еврейская семья «выряжалась» и прикрепляла на одежду звезды, а некоторые христиане, проходя мимо и желая засвидетельствовать им свое почтение, приподнимали головные уборы.
Простая тканевая нашивка меняет отношение окружающих к носящему ее и перестает выглядеть банальной. При ее наличии все становится опасным. «Доктор Шарль Майер был арестован, потому что носил свою звезду слишком высоко… Одна из дам воскликнула: „Это — знак торжества их дурной веры!!!“»[213] За то, что он «не так» пришил звезду, Шарль Майер был измучен пытками и убит. Элен Берр, знакомая доктора, ощутила, как меняется ее собственный внутренний мир от того, что меняются люди вокруг. Прогуливаясь с другом, она зашла в маленький сквер возле собора Нотр-Дам и присела на скамейку поболтать. Сторож яростно набросился на нее и оскорбил — ведь сидеть на скамейке сада евреям было запрещено.
Чернокожие, зоопарк и психиатрические лечебницы
Чернокожие тоже сталкивались с этим: в ЮАР и Соединенных Штатах. Они должны были стоять там, где сидеть им не положено, а в автобусах занимали места в задней части салона, тогда как белые садились спереди. В 1930-е гг. во Франции негритянские семьи помещали в зоопарках между жирафами и слонами[214]. Маленькие хорошо воспитанные парижане приходили посмотреть на негритянок, умиравших от стыда и отчаяния, когда они пытались кормить своего малыша. Сегодня стыд живет не в душах этих женщин, выставленных напоказ в зоопарке, но в самой культуре, сделавшей подобный шаг!
И ведь такой шаг рискнули сделать все культуры! Как только человек перестает вписываться в норму, остальные — «нормальные» — принимаются уничтожать его своим высокомерием, словно похожесть на других является основанием для унижения тех, кто отличается от остальных. Устрашающая власть «попугаев» время от времени дает возможность наслаждаться садистскими забавами, унижая дурака, сироту, негра, иностранца или животное из зоопарка. Вы не ошиблись! Существует родство между психиатрической лечебницей, зоопарком и негром в клетке. В письме императору Карлу V Кортес рассказывает о «мраморном замке правителя Монтесумы, богато украшенном яшмой, великолепными садами, где порхают птицы… с большими клетками для львов, тигров, волков, лис… которых заботливо охраняют триста слуг… В другом доме, — пишет Кортес, — живут карлики, горбуны и прочие уродцы… странные существа, у которых от рождения совершенно белесые тела, лица, волосы, ресницы и брови… У них тоже есть свои сторожа»[215]. Врожденное отсутствие пигментов, придающих коже определенный оттенок, помещает альбиносов в ситуацию, схожую с той, в которой оказались позднее чернокожие. При диктатуре «нормальности» считается нормальным сажать в клетку странных существ: жирафов, слонов, альбиносов и негритянок.
Некоторые итальянские князья эпохи Ренессанса держали в своих зверинцах негров, татар, мавров, и даже знаменитый Виктор — «дикий ребенок из Аверона» — оказался в Ботаническом саду и находился там до тех пор, пока им не заинтересовался доктор Итар, передавший его своей гувернантке, которая стала учить Виктора говорить[216]. В то же самое время в Америке цирк Барнема показывал зрителям медведей, тигров и краснокожих, а в гамбургском зоопарке Хагенбек разгуливали семьи лапландцев, нубийцев, калмыков, патагонцев и готтентотов.
Когда «нормальность» — биологическая особенность, никто не избегает ее, поскольку всякое человеческое существо имеет сахар в крови, примерно один грамм на литр. Когда «нормальность» является аксиологической характеристикой, ее все избегают, поскольку у каждого из нас — своя собственная история, и мы приписываем тому, что видим, свои значения, наделяя увиденное собственной ценностью. Но когда «нормальность» закреплена нормативами, стремление к комфорту позволяет нам слушаться главного и считать, что существует лишь одна правильная манера жить — его! (и наша — ведь мы ее отстаиваем). И безо всякого смущения мы сажаем в клетку — ради удовольствия доминантов и обучения детей — слона, негра или дурачка.
Точно также в XVIII–XIX вв. люди посещали с визитом лондонский Бедлам. Триста человек ежедневно платили пенни, чтобы пройтись по переходам над двором, где находились сумасшедшие, или перед дверями комнат, где можно было заговорить с «психами», посмеяться и ради развлечения бросить им бутылку с алкоголем. Когда культура развивается и для изучения становятся доступны ментальные миры животных, сумасшедших, негров и альбиносов, их уже неловко сажать в клетку. Поэтому несколько десятилетий спустя мы наблюдаем за очеловечиванием приютов и зоопарков! Мы больше не можем посадить в клетку чернокожего, избранного президентом Соединенных Штатов, и сомневаемся, стоит ли нам запирать пантеру или льва, способных угадывать наши жесты и позы.
Если меняется культурный контекст, вслед за ним меняется и самоощущение человека. Негритянка в зоопарке умирает от стыда и отчаяния. Но когда культура тоже начинается стыдиться делать подобное, негритянка становится женщиной — такой же, как и остальные (те, что с голубыми глазами, — да-да, именно так). «Обожающий негров болен не менее, чем тот, кто их проклинает», — говорит антильский психиатр Франц Фанон[217], который признается, что ему было стыдно быть чернокожим. Лишь став «дипломированным негром», закончив «белый» университет, лишь начав сражаться против расизма и колониализма, он смог забыть про клеймо позора. Он постарался отыскать достойные подражания образы чернокожих, что помогло бы ему подняться в собственных глазах. И разумеется, он нашел их. Во время каждой встречи он убеждался, что в деградации его образа виноваты исключительно предубеждения. Ежедневное уничижение толкает стыдливых искать спасительные образы, а иногда придает им и долгожданную смелость. «Речь идет о выходе из адской межпоколенческой западни, возникшей из-за того, что образ чернокожих со времен рабства был обесценен. Потому-то… организация рынка потомков бывших рабов стала главным фактором исцеления наших душ»[218].
Глава 6
Смешанная парочка: стыд и гордость
Семья — атом общества
Стыд ничему не служит. Но стыдящийся уговаривает себя, что стыд морален. Он считает себя стыдливым, поскольку сам уважает других и приписывает взглядам этих других определенную значимость. Начиная учить кого-то другого, он чувствует себя униженным. Так стыд становится оружием, силу которого стыдливый приписывает взгляду другого.
В Древней Греции чувство стыда управляло культурой. Этот непростой процесс позволил зародиться демократии и дал возможность любому свободному человеку право судить. С тех пор общественное мнение получило оружие социального контроля: стыд!
Бургундцы считали стыд «зловонным», что позволяло укреплять супружеские пары, ведь любая встреча на стороне воспринималась как серьезное преступление. В Виндеби женщину, изменившую мужу, бросали в болото, где торф консервировал ее тело. Еще сегодня встречаются случаи удушения тринадцатилетних беременных кожаным шнурком[219]. В некоторых недавно открытых цивилизациях (1951 г.), например в племени бария на острове Новая Гвинея[220], мужчинам, изменившим своим супругам, вспарывали животы и подвешивали их печень сушиться на столбах, установленных посреди деревенской площади. Галльско-римский император Мажориан принял закон, предписывавший обманутому мужу убивать на месте жену и ее любовника. Франки оказались еще более радикальными: они считали, что все потомство женщины, запятнавшей себя неверностью, включая детей и внуков, покрыто позором. Иногда той, которую сочли виновной, давали шанс, подвергая ее водяной ордалии. К ее шее привязывали камень и бросали в реку: если женщине удавалось поплыть, это становилось доказательством ее невиновности.
Чтобы жить в коллективе, супружеской чете совершенно необходимо быть непогрешимой. Инцест благодаря своей эндогамии, воспринимаемой как связь, основанная на теснейшем чувстве близости, может считаться менее серьезным преступлением, чем адюльтер[221]. В социуме тело рассматривается как полезный инструмент. Девственность женщин и жестокость мужчин становятся моральными характеристиками. Потому-то девственниц и выбирали жрицами в храмах, считая их почти богинями; если же им случалось отдаться хотя бы одному мужчине, они, таким образом, начинали расшатывать звенья все скрепляющей цепи. Иштар, Астарта и Анат, божества плодородия и любви, считались девами, хотя — согласно мифам — у всех этих «великих матерей» (Magna Mater) были любовники и по нескольку детей. В данном случае «быть девой» не означало оставаться непорочной, но служило характеристикой «незамужней женщины»[222]. Ни один мужчина, пусть даже божественной природы, не мог прикасаться к этим «девам», которые, тем не менее, могли рожать. Египетская богиня Нейт не нуждалась в мужчине, чтобы родить солнечный диск Ра. Артемида не принимала любовь, а Афина, с ее-то стрелами и щитом, не видела необходимости иметь рядом с собой мужчину-защитника. Чтобы остаться чистой и непорочной, Гера, жена Зевса, мать многочисленного семейства, каждый год купалась в источнике Кана — и таким образом вновь обретала девственность[223]. Сегодня в Неаполе, Бейруте или Вашингтоне девственную плеву восстанавливают хирурги, а вовсе не воды Каны; это значит, что старый принцип все еще действует: женщина до свадьбы формально должна оставаться чистой, нетронутой. Даже если у нее был с десяток любовников. Принцип «непорочности» избавляет женщин от сексуальных контактов, не одобренных коллективом, и в то же время женщина сама выбирает мужчину, который станет отцом ее ребенка. Следовательно, девственность — характеристика моральная! Отцы Церкви утверждали, что Ева была приспешницей сатаны, но не могли сказать то же самое о Марии — ей необходимо было оставаться девой. В том случае, если сексуальная мораль структурирует общество, девственность становится символом чистоты, а ее утрата расценивается как доказательство безнравственности, разложения, коллективного стыда. Женщины, выходящие замуж с порванной плевой, не укладываются в идеалы коллектива. Плева выступает анатомическим доказательством, что дети, родившиеся у той, что до брака была девственницей, будут любимы мужчиной, благодаря которому они появились в коллективе. Девственница и ее супруг пользуются почетом, тогда как та, что потеряла невинность до брака, объявляется предательницей, покрывает позором семью — всю целиком, и даже ее последующие поколения. Родившиеся вне брака дети ужасающим образом страдают от этой культурной репрезентации.
Плева как предмет социального дискурса
Плева — предмет социального дискурса, характеристика женской чистоты. Подчинившись правилам брака, она поддерживает мораль в семье; напротив, женщина «нечистая» заставляет своих родных стыдиться. В таком культурном контексте дефлорация, совершающаяся в первую брачную ночь, — это доказательство «правильного» морального облика женщины и силы мужчины, который сможет стать отцом. Утром всем гостям демонстрируются простыни с пятнами крови, и толпа принимается аплодировать той, которая, сохранив себя невинной для мужа, согласилась стать прочным звеном цепи — надежной участницей коллектива. Мужчина дается женщине, а женщина — обществу. Она может гордиться своей девственностью, утраченной в первую брачную ночь, — согласившись с тем, что коллектив посвятил ее чрево усилиям, направленным на дальнейшее выживание.
Чувство стыда или гордости, коренящееся в глубине души, зависит от культурного дискурса — иногда удивительно вариативного. Главное — это супружеская пара, маленькая ячейка общества и фабрика по производству детей. В подобном контексте секс — лишь средство структурирования группы и воспроизводства детей. Поэтому до IX–X вв. церемония бракосочетания совершалась у входа в церковь. Было достаточно того, что священник соединял руки жениха и невесты и соединял пару вслух. Лишь в XVII столетии и позднее брак стали заключать непосредственно в храме — там было заметно, беременна ли молодая[224]. Возможно, невеста даже гордилась тем, что ждет ребенка, и она даже представить не могла, что в Викторианскую эпоху подобная ситуация будет источником жесточайшего стыда.
До XVIII в. нотариально заверенный акт о заключении брака был важнее, чем религиозная церемония, — это и сейчас проходят в школе, изучая мольеровские пьесы. Социальное значение совершившегося было намного важнее, чем интимное соединение молодых. Вступая в сделку, женщина заверяла всех в том, что она девственна, а мужчина — что он обладает мужской силой. Даже государь не мог избегнуть этой необходимой гражданской и сексуальной процедуры. «Мужской орган короля не твердеет по причине грусти…» Однако король, у которого «не твердеет» член, не может воспроизвести потомство и передать свою власть. «Сексуальная слабость равнозначна потере трона»[225].
У египтян, античных греков, бургундов, новогвинейских бария чрево женщины и мужская эрекция считались собственностью государства или племени. Нерушимая чета представляла собой некое подобие социальной молекулы, необходимой для выживания всего коллектива. После того как пара образовывалась, ее сексуальная жизнь никоим образом не могла быть кодифицирована обществом. Но до вступления в брак был широко распространен процесс содомии, считавшийся актом, исполненным определенной морали, — ведь он позволял избежать дефлорации до замужества[226]. Позднее, в христианское Средневековье, когда сексуальная жизнь стала выступать в роли социального контракта, заключаемого двумя людьми, содомию сочли худшим из всех преступлений[227], своего рода сексуальным обманом, суть которого состояла в отказе зачинать и рожать детей. В сегодняшнем культурном контексте, где выживание коллектива дело намного более легкое, чрево женщины уже не принадлежит государству, но только ей самой, тогда как содомия все еще воспринимается как мошенничество, на которое — ради сексуальной игры — решаются некоторые партнеры.
В техногенном обществе, где религия сохраняет свою организующую и запретительную силу, как, например, в Марокко, тамошние молодые люди отделяются от своих семей достаточно поздно — поскольку им необходимо время, чтобы овладеть какой-нибудь профессией. Однако в богатых семьях, где созданы хорошие условия для обучения и воспитания детей, процесс пубертации наступает гораздо раньше. Пробуждение интереса к сексу наталкивается, тем не менее, на необходимость ждать — ведь браки, повторю, в целом заключаются поздно. Тогда «молодые придумывают способ, как обойти возникшее препятствие… и прибегают к сексуальным актам без проникновения… сохраняя плеву нетронутой… что, по сути, больше не означает „сохранения девственности“»[228]. Вступая в брак в возрасте двадцати пяти лет, женщины имеют девственную плеву и богатый сексуальный опыт.
Похожий феномен существует и в пуританском обществе США, где некоторые девушки из Дакоты участвуют в «балах чистоты», практикуя такое, что заставило бы умереть от стыда европейку, к моменту вступления в брак давно переставшую быть девственницей.
Когда насилие обладало оттенком морали
Чувство любви, испытываемое в браке, рассматриваемое на Западе как доказательство сексуальной морали и взаимоуважения супругов, долгое время считалось абсурдным. Римляне насмехались над влюбленным мужчиной, который, томясь рядом с красавицей, был не готов к решительному сражению. В многочисленных культурах супружеская любовь воспринималась как нечто непристойное: «Нет ничего более нечистого, чем любить собственную жену, питая к ней чувство, подобное тому, которое испытывают к любовнице»[229]. Во время провансальских «Судов любви» XIII в. дамы всенародно объявляли, что выходить замуж можно только за имя или состояние мужчины, а никак не по взаимному чувству, которое остается уделом любовников[230]. В подобных культурных контекстах заявление мужа о том, что он любит жену, и наоборот, показалось бы нам настолько смешным, что стыд заставил бы нас молчать. Единственные авантюры, которые могли в то время вернуть мужчине гордость, — это Красное и Черное, оружие и вера, шпага и сутана. Любая чувственная связь, любовь, испытываемая в браке, унижали бы достоинство человека и становились источником смущения.
Что касается проявлений эротизма в браке, то здесь тоже есть о чем поразмышлять! До начала XX в. жены, уставшие от постоянной заботы о ребенке, отправляли своих мужей в бордель — чтобы чувствовать себя спокойно. Мне приходилось разговаривать с девяностолетними дамами, которые признавались, что, когда оргазм внезапно настигал их в объятиях мужей… они испытывали стыд! «Совсем как женщина легкого поведения, — добавляли они. — Порядочная женщина делает это только из чувства долга». Невероятно, в какой степени культурный контекст и определенная структура социума могут вызывать в глубине наших душ реальное чувство стыда или гордости.
Мужчины также подчинены этим социоинтимным процессам, правда, мы не говорим о плеве или материнстве, а говорим о смелости, физической силе и оцениваем себя как дар, преподносимый кому-либо. Мужчина умирает от стыда, если не может работать, — это значит, что он не достаточно крепок, находчив или даже не готов постоять за себя. В эпоху, когда образуются сообщества, неравность базируется на физической силе и на поддержке коллектива.
Начиная со Средневековья, социальное доминирование аристократов опиралось на владение землями и строительство замков с использованием рабочих рук простолюдинов. Физическая сила, владение оружием и знание определенных кодов вежливого поведения позволяло богатым по нескольким жестам узнавать друг друга; и наоборот, оказываясь среди черни, необученной хорошим манерам, они оказывались в растерянности. После периода Ренессанса (XV–XVI вв.) социальное доминирование определялось обычаями, ритуалами, кроем одежды, умением охотиться и сражаться на дуэлях. Боязливый мужчина, не решающийся драться, не мог законным образом доказать, что достоин править. Многие предпочитали умереть на дуэли, чтобы только не умереть от стыда. Таким образом, для того чтобы править, опираясь на чувство стыда, достаточно изобрести какой-нибудь кодекс чести, который позволит удалить из сообщества тех, кто не вписывается в него. Чем ниже мы спускаемся по иерархической лестнице, тем больше наблюдаем стычек, где в дело идут кулаки, ноги и головы. Конформизм неравенства заставляет мужчин выбирать между почетом насилия и стыдом, вызванным отказом от этого насилия[231]. Мужчина, умевший сражаться на дуэлях или выяснять отношения с помощью кулаков, считался достойным, поскольку он был готов принести свою брутальность в помощь коллективу в трудной ситуации. Но когда коллектив больше не находится в состоянии опасности, та же самая жестокость утрачивает свою защитную функцию и становится разрушительницей семей и коллектива в целом.
Если мы больше не нуждаемся в жестокости, чтобы с ее помощью поддерживать социум, можем ли мы сказать, что материнство сохраняет свое социальное значение? В эпоху, когда мужчины формируют общество посредством кулаков, а женщины — чрева, любовь становится отдаленно похожей на розовую воду. Мы смеемся над влюбленным римлянином, сочувствуем сентиментальному приключению Элоизы и Абеляра, восхищаемся любовными заявлениями Данте, обращенными к Беатриче. Любовь, конечно, существовала, но присутствовала лишь в поэзии. Это сентиментальное второстепенное чувство могло бы стать самостоятельной культурной ценностью лишь при условии, если социум приведет себя в порядок. Женитьба унижала бы мужчину, а любовь — еще сильнее, поскольку она мешала приключениям на стороне. Еще недавно великий навигатор Табарли говорил, что только большая любовь могла бы помешать плаванию по морям. Он довольно поздно нашел себе женщину, которая стала сопровождать его в мореплаваниях, то есть ждал этой любви шестьдесят три года, и только в этом возрасте согласился на столь прекрасное сентиментальное приключение, признав, что пора остепениться.
Не так давно женщины согласились с возможностью жить благополучно. Новые условия существования позволяют им избегать окружения. В этом контексте брак и дети воспринимаются теперь как вмешательство в частную жизнь и даже как причина отчуждения[232]. Материнство меняет свой смысл: родить ребенка более не является актом, способствующим выживанию коллектива; теперь это — препятствие к самореализации. Святой Павел писал, что мы можем вступать в брак, если не способны на большее, Паскаль полагал, что жизнь в браке унижает мужчину, а Табарли утверждал, что только большая любовь может помешать его путешествиям. И эти мужчины сегодня передают эстафету женщинам, которые тоже полюбили свободу.
По-прежнему ли необходимо страдать?
Еще не так давно страдание было неотъемлемой частью существования: каждую зиму люди умирали от голода и холода, как до сих пор происходит в бедных, слабо развитых странах. Искусство переносить страдание также было частью кодекса чести. Мужчина не имел права избегать страдания, ведь с этим напрямую была связана его мужественность[233]. Он должен был страдать и молчать, малейшее сожаление покрыло бы его позором. Мужчины воспринимались как герои, когда спускались в шахту или спали прямо в спецовках на стройплощадках. Они гордились возможностью молча страдать и отдавать все заработанное супруге, управлявшей домашним хозяйством. Но для женщины подобная героизация не носила положительный оттенок, поскольку узаконивала власть мужчины: «Я страдаю ради тебя, отдаю тебе все, что заработал, это мой долг чести, а ты должна прислуживать мне за столом». Честь и мужественность считались тесно взаимосвязанными, и когда мужчина не был столь мускулист, чтобы грузить уголь в вагонетки, когда болезнь вдруг делала его слабым или когда употребление алкоголя ставило его вне общества, то семья умирала от стыда. В подобном суровом контексте, провоцирующем страдание, мужские мускулы и женская добродетель — суть адаптивные ценности. Мы молча страдаем и гордимся этим. Мы сохраняем себя для супруга, которого выбрал для нас социум, мы служим ему и гордимся этим. Однако когда — благодаря развитию технологий — окружение становится более терпимым к нам, честь превращается в нечто «старомодное», а мужественность приобретает смешной оттенок — мы говорим «мачо», тем самым выражая свое презрение.
Только представьте, что в идеальном социуме, в культуре, где царит мир и любой человек имеет невероятные возможности для развития и роста, нам не требуются никакие механизмы защиты семьи или коллектива. Дети, рождавшиеся на свет случайно или ради удовлетворения архаичной прихоти иметь ребенка, оказались бы в ситуации полного обеднения связей. Эмоциональная индифферентность, которая в подобной ситуации стала бы результатом воспитания, привела бы к появлению людей с чрезмерно развитым чувством нарциссизма, сосредоточенных лишь на самих себе.
Разумеется, реальность всегда сложнее, чем мы думаем, поскольку мы можем оценить лишь очень и очень небольшую ее часть, с которой мы соотносим выстраиваемые нами репрезентации. Невидимая часть может внушать нам страх или даже наносить травмы. Чтобы противостоять неведомой реальности, надо попытаться представить то, какова она у других, — те тысячи различных форм, возникновение которых зависят от культурных особенностей. Все они необходимы и часто оказываются дорогостоящими, но мы охотно платим эту цену, чтобы защитить себя.
Когда насилие направлено на внешнего врага, подчинение вождю становится более действенным. Мы направляем силы на уничтожение врага, устранение ледяной атмосферы, охоту на животных, которых боимся, а иногда и на то, чтобы приручить их; на то, чтобы победить соседний народ, посягающий на наши блага. Насилие, обращенное на внешнего врага, сочетается с подчинением вождю — именно так мы можем выжить. Мужчина, не готовый посвятить коллективу свою силу и брутальность, и женщина, не готовая предоставить в распоряжение мужчины свое чрево и прислуживать ему, достойны бесчестия. В подобном контексте архаической социализации преданность усиливает власть вождя, а он в свою очередь может рассчитывать на поддерживающих его людей. Если он победит, верная толпа разделит с ним эйфорию, а часть его славы достанется подданным. «Гордясь своим вождем, мы гордимся собой, но если вдруг он окажется не на высоте, мы пожертвуем им — чтобы не делить с ним его поражение». Эта стратегия предполагает, что любой лишенный верности своему правителю индивид способствует ослаблению коллектива — он должен быть изгнан, отвергнут, выброшен прочь, подвергнут пыткам или перевоспитан в соответствии с идеологическими установками. Стыд становится оружием сплоченных. Угрожая позором не желающему подчиниться, конформизм способствует приходу к власти того, кто подчинился.
Совокупность чувств — гордости подчинившегося и стремления обрушить всю жестокость на внешнего врага, узаконивает существование войска и объясняет, почему солдаты должны быть красивы, послушны и относиться к врагу с бешенством, которое подогревает в них командир. Дезертирство или простой отказ подчиниться — повод для позора; предатель должен быть изгнан прочь из коллектива, ослабленного его действиями. Нацисты говорили: «Стыдно быть слабым и не повиноваться, не иметь сил выстрелить в голову ребенку: тем самым мы рискуем оставить в живых будущего врага Гитлера»[234]. В Руанде хуту пользовались похожим аргументом, передавая по «Радио Тысячи холмов»: «Не жалейте детей. Если вы не будете их убивать, через несколько лет вы столкнетесь с ними, но тогда у них в руках будет оружие, обращенное против вас»[235]. «У меня не было сил пытать этого человека», — признается солдат, стоя перед военным трибуналом, который обвиняет его в том, что он не смог пыткой вырвать у врага местонахождение вражеского оружейного склада. Малодушие этого солдата стало причиной смерти его товарищей.
Когда подчинение придает силу
Чувство стыда или гордости зависит от того, какое место мы занимаем в коллективной репрезентации. Именно поэтому риторика играет здесь основополагающую роль. Мы клянемся в верности королю, президенту, главе нашей компании и даже властителю наших дум. Повиновение сакрализовано, мы горды тем, что подчиняемся тому, кто правит благодаря нашей верности. Именно поэтому вполне логично, что люди со всем тщанием повинуются приказам бредящего вождя. Нам было бы стыдно предать того, кто представляет наши интересы. Любое вероломство стало бы нашим отказом от самих себя. Эта риторика в конце концов превращается в семантическую систему идеологического контроля. Когда гусары Наполеона заплетали косички над висками, собирали в пучок волосы на затылке, чтобы казаться мужественнее, и носили облегающие штаны, стремясь подчеркнуть размеры своих гениталий, они следовали дословной риторике, социальному дискурсу, означающему буквально следующее: «Я подчиняюсь норме, правильно одеваюсь — именно так должен одеваться гусар, готовый следовать за своим командиром повсюду и даже погибнуть». Попробуйте сегодня, дорогой месье, заплести косички над висками, собрать волосы в пучок и прийти на работу в облегающих брюках. Вас встретит смущенное молчание коллег и два-три дружеских совета.
Социоинтимные ситуации, заставляющие нас испытывать то стыд, то гордость, совсем не редки. До 1970-х гг. дети, рожденные вне брака, «бастарды», как их называли, испытывали ужасный стыд от того, что сексуальная жизнь их матерей не была подчинена общественному благу. Сегодня почти 60 % детей рождаются вне брака, благополучно растут и развиваются. Они уверены в себе, потому что их матери не придают культурному контексту того значения, которое способно вызвать стыд, или, скорее, потому, что культурный контекст потерял это значение.
До начала Второй мировой войны считалось неприличным рожать в больницах, в окружении простых женщин, у которых не было достойной семьи. Домашние роды служили доказательством того, что мать в достаточной степени социализирована, а ее муж зарабатывает денег столько, сколько нужно, чтобы заплатить за это. Девушки стыдились, если не выходили замуж до двадцати пяти лет, замужние дамы испытывали стыд, если через год после вступления в брак у них все еще был плоский живот, равно как стыдились сетовать на трудности жизни. Если мужчина заканчивал жизнь самоубийством, его семья умирала от стыда, тогда как сегодня близкие мучаются от чувства вины.
До XIX в. на Западе не считалось постыдным оставлять детей чужим людям — эта практика была обычной. Тогда как передача малыша кормилице[236], которая пользовалась бутылочкой с соской, приравнивалась к детоубийству, и до сих пор так думают многие[237]. Во времена Империи были предприняты шаги, позволявшие отдать новорожденного в специальный приют, где у него был маленький шанс выжить. Ламартин, поэт-депутат, отстаивал возможность отказываться от детей, рожденных вне брака. Чтобы спасти честь семьи, он восхвалял «социальное родительство» — заботу государства о детях, рожденных без отцов[238].
Стыдно искать отца в кафе, стыдно предстать голой перед любовником, стыдно испытывать сексуальное наслаждение, стыдно, когда тебя разглядывают в гинекологическое зеркало — как будто переживаешь своего рода «медицинское изнасилование», стыдно вставлять свечи, стыдно болеть, стыдно испортить воздух — любые причины стыда, иногда заставляющие нас смеяться, проистекают из многообразия дискурсов, порожденных нашим окружением.
Насилие и театр чести
Культуры, в которых большое значение уделяется соблюдению кодекса чести, порождают ритуалы, неуважительное отношение к которым вызывает негодование. Проще умереть физической смертью, чем от стыда, поскольку выживание под презрительным взглядом другого становится ежесекундной пыткой: нет уж, лучше смерть!
Театр чести предполагает величественную осанку. Умение изящно одеваться, высокоморальное поведение, смелость и достоинство — все это роли, которые должны вызывать уважение окружающих. Недостаток чего-либо из перечисленного провоцирует разрыв шаблона, возникновение травмы. И должно наказываться смертью.
Подобное подчинение кодексу чести, где предпочтение отдается смерти, а не стыду, выступает отличным маркером культур, основывающихся на четкой иерархии. Если нищий оскорбляет принца, выходящего из кареты, его высочество, испытывая некоторое смущение, не вызывает того на дуэль. Мы не будем драться до смерти, если нам противостоит неравный. Аристократ не ждет уважения от бродяги. Слуга аристократа оттолкнет бродягу палкой, этого будет вполне достаточно. Но если человек, достойный своего имени, высмеивает благородного, не уважая заведенные правила, это неуважение заслуживает смертельной схватки, не так ли? Только равный или конкурент обладает властью ранить принца. Взгляд недочеловека не имеет значения, он лишен власти заставить аристократа устыдиться. Но когда шевалье Захер-Мазох, благородный поляк Гомбрович или французские аристократы «Ночи 4 августа» разрешают представителям простого народа судить себя, они начинают воспринимать простолюдинов как равных себе или, по крайней мере, как достойных собеседников.
В культурах, основанных на кодексах чести, жестокость всегда где-то рядом: насилие, обращенное на женщину, отдающую свое чрево мужчине, а не социуму, насилие по отношению к мужчине, отказывающемуся жертвовать жизнью ради защиты семьи, насилие, направленное на выпускников академии Сен-Сир, отказавшихся в Первую мировую снять под дулами пулеметов свои плюмажи и белые перчатки и расстрелянных ухмыляющимися немецкими солдатами. Эти курсанты гордились тем, что умирают подобным образом.
Когда культура принимает более цивилизованное обличие и может хотя бы на треть быть уверенной в собственной защищенности, кодекс чести теряет цену — оскорбленному человеку теперь нет нужды подвергать унижению того, кто его оскорбил, он может просто прибегнуть к защите полицейского или адвоката. В обществе, где действуют судебные институты, честь стоит меньше, чем возмущение жертвы. Но как только государственная система начинает слабеть, коллектив почти сразу же вновь возвращается к кодексу чести. В странах, где работа полиции недостаточно налажена или где полицейские коррумпированы, мужчины группируются, чтобы «вершить самосуд». Их попытки вершить правосудие часто влекут за собой ошибки и чреваты трагедиями, однако таким образом этим мужчинам удается избежать чувства стыда. Этими же принципами пользуется мафия, поэтому ее члены именуют свою организацию «благородным сообществом», где любой досадный промах и малейшая конкуренция «законным образом» наказываются смертью.
В обществе, где развиты дуэли, куртуазное поведение стало целью всей жизни, поскольку неверно употребленное слово могло повлечь за собой смерть. Необходимо было дождаться момента, когда сильное государство Людовика XIV запретит дуэли, на которых гибли французские, немецкие, русские дворяне. Сегодня на Западе происходит процесс упразднения военных судов. Вежливость теряет свою защитную функцию и приобретает реляционистский оттенок, мы более не рискуем жизнью, оскорбляя других непристойными жестами или грубыми словами. Выражения «сын шлюхи» или «твою мать» раздражают соперника, однако мы не рискуем получить в ответ смертельный выпад. Даже процесс героизации кого-либо в хорошо организованном обществе, где представители закона вмешиваются в ссоры отдельных индивидов, теряет свое значение. Сегодня «плохо воспитанные» подростки могут крушить общественный транспорт или хамить путешественникам, не получая никакого отпора. Еще двадцать лет назад люди, молча наблюдавшие за подобной ситуацией, умирали от стыда. Недавно на одного моего знакомого напали возле брюссельского вокзала Миди. Человек крепкий и не робкого десятка, он ударил агрессора и заставил того обратиться в бегство. Тогда его окружили свидетели, начав упрекать, что, вступив в драку, он-де поступил неправильно. Предыдущее поколение обвинило бы его, если бы он, напротив, решил уклониться от драки.
Честь — благородное чувство, скрепляющее коллектив и заставляющие индивида следовать дискурсу вождя, таким образом признавая творимую им жестокость. Слово «мужественность» характеризовало человека грубого, способного страдать молча, решительно сражаться за место под солнцем, с гордостью выступать в драку. Женская честь, смысл которой был в сохранении девственной плевы и верности мужу, давала силу почувствовать себя нужной коллективу. Хранимая ими духовность сопряжена с гордостью и позволяет преодолевать трудности повседневного существования. «Бог требует от меня соблюдения правил морали. Благодаря мне моя семья остается сплоченной».
Речь, само собой, идет о социоинтимном процессе, когда дискурс вызывает в душе субъекта чувство стыда или гордости, или и то и другое одновременно. Мы смогли изменить чувства, различающиеся в зависимости от культурных репрезентаций. Некоторые американские соискатели включают в свои приукрашенные резюме заведомо курьезные фразы типа «Должен сообщить, что ударил мужчину, оскорбившего мою жену»[239]. В северных штатах США главы компаний комментируют подобные фразы следующим образом: соискатель не управляет своими эмоциями. Напротив, большинство руководителей компаний, расположенных в южных штатах, говорят, что подобные фразы отличают человека чести, на которого можно положиться. Если вам однажды придется кого-нибудь убить, знайте: это преступление будет расценено как проявление слабости или, наоборот, силы — в зависимости от того, где именно вы живете.
Интересно, как соискатели отвечают на следующий вопрос: «Если пьяный мужчина толкнет вашу жену, какой вариант ответных действий вы выберете:
— объясните ему, что он поступил неправильно;
— молча толкнете его в ответ;
— ударите его кулаком в лицо».
Пятнадцать процентов мужчин, живущих на Юге, сочли нормальным ударить обидчика в ответ — против восьми процентов северян.
На вопрос: «Если мужчина попытается изнасиловать вашу шестнадцатилетнюю дочь, посчитаете ли вы нормальным всадить ему пулю в голову?» 50 % южан ответили, что испытали бы позор, не сделай они этого; и всего 20 %мужчин из северных штатов ответили «да»[240]. Когда государственная система ослабевает из-за того, что политики не умеют управлять или потому, что полицейские посты находятся слишком далеко друг от друга, люди прибегают к жестокости — этому вновь обретающему популярность фактору формирования архаичных социумов. Однако если социум правильно организован, политики грамотно управляют, а полиция всегда находится где-то поблизости, жестокость приобретает невыносимый оттенок социальной дезорганизации, и эмоционального травматизма.
Женщины интерпретируют физическое насилие так же, как и их партнеры-мужчины. Женщины гордятся агрессивностью своих собственных мужей: это отлично вписывается в контекст формирования архаического социума, но сразу же заставляет испытывать стыд, как только общество начинает идти по цивилизованному пути.
Подобный феномен легко наблюдать в мегаполисе. В центре городов, где процесс урбанизации упорядочен историей и богатством, любезность становится реляционистской ценностью. В то же самое время в фавелах, где наспех сделанные постройки почти громоздятся одна на другую, у обитателей нет времени выдумывать культурные ритуалы, а банальные межличностные отношения строятся на насилии: «Когда я ловлю на себе взгляд, который мне не нравится, я набрасываюсь на этого человека, нечего ему лезть на мою территорию»[241]. Мальчику, который рассуждает подобным образом, 12 лет, он весит 70 килограммов и занимается борьбой, поскольку она помогает ему найти применение своей жестокости. Контекст, противоречащий нормам и правилам, являющийся своеобразным «стилем» урбанизации, позволяет направить жестокость в определенное русло, но, разумеется, не дает возможности справиться с ней полностью и уж тем более обесценить ее. Даже напротив, подростки из этих кварталов обожают наблюдать за гордыми победителями уличных драк.
Когда реальность отличается от рассказа о ней
Поскольку психологический контекст играет важнейшую роль в том, какое чувство (стыда или гордости) вызовет у разных людей одно и то же событие, вероятно, можно повлиять на культуру, имея целью выйти из состояния стыда. Любопытно! Уместно ли сказать «выйти из стыда» — подобно тому, как выходят из норы или вылезают из укрытия, играя в прятки.
Почти все дети, спрятавшиеся, чтобы избежать смерти (евреи во время Второй мировой войны или тутси — жертвы руандийского геноцида), страдали от душевной пытки. Пытки не болью — обесчеловечиванием. Когда мы ломаем ногу, мы испытываем сильную боль, но мы не чувствуем себя ущербными — ведь нами занимаются, помогают перемещаться и просят рассказать, как все произошло. Спрятавшийся ребенок не испытывает боли, однако он беспрестанно страдает от болезненного представления о себе: «Ты стоишь меньше остальных… быть самим собой опасно, поскольку если ты скажешь, кто ты такой, то умрешь… Ты происходишь от родителей, семьи и народа, которых общество отвергло, их преследуют, и это преследование коснется и тебя, стоит тебе рассказать, кто ты на самом деле».
Подобные представления о себе, болезненные и вызывающие стыд, порождают поведенческие стратегии — дорогостоящие или же основанные на самобичевании, позволяющие искупить ошибки. Отказ от образа действий случается, если культурные стереотипы внушают нам: «Это нормально, что он незаметен и плохо учится в школе, — учитывая то, что с ним произошло». Даже успех может вызвать стыд. Порой случается, что успехи «спрятавшегося» ребенка унижают остальных детей, которые изо всех сил стараются добиться успеха, но не преуспевают — из-за того, что находятся в комфортных условиях. В такой ситуации выйти из стыда довольно сложно — ведь необходимо не только работать над собой, но надо научиться не унижать других, достигнув успеха. Соединение этих факторов может провести к выработке устойчивости.
«Мои бабушка и дедушка, мои дяди и тети… Я часто слышал, как они говорят между собой на идиш… Они дорожили этим языком и в то же время испытывали стыд, потому что он символизировал бедность, изгнание, ничтожность евреев по сравнению с другими народами Европы и вообще нечто бесполезное для их потомков… двойственное наследие, вызывающее одновременно чувство нежности и стыда… кроме того, это еще и тайный язык, поскольку они переходили на идиш тогда, когда не хотели, чтобы мы, дети, понимали их»[242].
Выход из стыда в подобной ситуации требует серьезной работы. Быть может, более действенным было бы сначала как-то повлиять на окружение? Стереотипное представление о том, что евреи позволили вести себя на бойню, как бараны, распространено по всему миру. Даже в Израиле сабры — евреи, родившиеся на территории этой страны, — одержали столько побед над арабскими войсками, что у них вошло в привычку с презрением относиться к европейским ашкенази, чей жир в Аушвице превращали в мыло. В 1950-е гг. они обращались к ним не иначе, как мыло. Это вызывало у выживших ощущение, что они — вещь: после того как немцы называли их словом Stck («кусок»), израильские соотечественники теперь именовали их «мылом». Стыд быть презираемыми заставил их бешено стремиться к поискам выхода из этого стыда. Исключительное мужество, подогретое презрением, заставляло этих людей постоянно, без устали трудиться. «Куски» стали университетскими преподавателями, промышленниками или известными артистами. Надо же, я только что употребил слово «известный»! Вся мудрость, которой только обладают слова, уместилась в три слога: «из-вест-ный» — а ведь именно это я пытался сформулировать на протяжении трех предыдущих страниц своего текста. Отныне эти люди могли существовать на глазах у других спокойно и без всякого стыда, потому что их больше не называли «кусками» или «мылом» — теперь они стали «известными»!
Чтобы изменить свой образ и слово, которым их называли, им пришлось прежде всего изменить собственные представления о себе. Несколько лет назад, роясь в архивах, историки обнаружили следы реальности, противоположной той, которую привыкли считать истинной. Вопреки сложившемуся стереотипу евреи сражались с нацистами во всех армиях мира и всех движениях Сопротивления. В Испании, в Интернациональной бригаде, в рядах которой сражался Хемингуэй, каждый третий солдат был евреем. Во Франции Иностранный маршевый полк практически полностью состоял из испанских республиканцев и недавних еврейских иммигрантов; уже в самом начале войны этот полк стал подобием Иностранного легиона. В отрядах Сопротивления евреи также были представлены в большом количестве: в подпольной сети, находившейся под прикрытием ОПД (Организация помощи детям), занимавшейся изготовлением фальшивых документов и организации побегов из лагерей. Вооруженное сопротивление французских евреев возникло позднее, поскольку они были лояльны к новой власти и не могли допустить мысли, что правительство страны готовит их уничтожение. Однако после облавы, в результате которой многие из них оказались на Вель-д'Ив, сомнений больше не осталось: пора браться за оружие. Отряды франтиреров и партизан принимали в свои ряды евреев-коммунистов и армян. Просвещенные израильтяне и члены ОСР (Организация сражающихся евреев) организовывали нападения на немецких солдат и офицеров. Восстание в варшавском гетто (апрель — май 1943 г.), где несколько сотен голодных, чудом выживших евреев противостояли трем тысячам солдат противника, вооруженным пушками, пулеметами и огнеметами, доказало, что немецкая армия не является несокрушимой, и это дало сигнал к действию всему европейскому движению Сопротивления.
В конце войны евреи, сражавшиеся в рядах советской и польской армий и, таким образом, участвовавшие в сокрушении нацизма, ожидали, что, когда они вернутся домой, их встретят, как героев. Однако их дома, квартиры, их ателье и лавки были заняты соседями. Именно это стало причиной нападения на евреев со стороны гражданского населения — я имею в виду послевоенные погромы на территории Литвы, Белоруссии, Украины и Словакии. Погром в Кёльце, Польша, 4 июля 1946 г. (спустя 16 месяцев после немецкой капитуляции) привел к переселению евреев в Западную Европу и Палестину — всего уехало 250 тысяч человек[243]; этот исход стал результатом действий воинствующих антисемитов. Евреи присоединились к своим «палестинским собратьям», называемым так до момента голосования ООН по вопросу о независимости двух государств — израильского и палестинского. «Палестинские собратья», разбившие немецко-арабские отряды Африканского корпуса Роммеля (40 тысяч человек из их числа влились во французские войска, и еще 30 тысяч — в ряды британской армии), встретили изгнанников враждебно.
В течение всей войны «евреи вовсе не шли на смерть послушно, как бараны»[244], напротив, они участвовали в любых возможных боях. Совсем другими изображают их в кинохронике: бесконечные конвои, шесть миллионов гражданских лиц, которых сдали собственные соседи. Но есть и другая хроника. Разве спрашивали солдат, бегущих в атаку, или участников Сопротивления, привязанных к столбу перед расстрелом, какую религию они исповедуют? А те, кто вел тайную войну, старались не попадать в объективы камер.
В сражениях на территории Северной Африки и на Ближнем Востоке еврейские отряды увенчали себя славой. Палестинские евреи сыграли столь выдающуюся роль в победе над немцами возле ливийского города Бир-Хакейма (1942 г.), что генерал Кёниг потребовал, чтобы их отряды шли не под сине-бело-красным французским флагом, а под собственным — бело-синим, со «звездой Давида». Во время войны за независимость 1948 г. этот гордый народ, неожиданно, в одночасье, повзрослевший, триумфально сражался с захватчиками. Кадры хроники, запечатлевшие те дни, стали для израильтян символом великого отпущения грехов. Красивые еврейские кавалеристы стремительно атакуют противника среди пламени. Или хорошенькие женщины с ружьями на плечах, они же — ведущие трактора через пустыню, чтобы сделать эти земли плодородными, в то время как злобные сирийцы бомбят хижины на склонах Голанских высот. Ни одной фотографии убитого, никакого документального подтверждения исхода палестинцев…
Эти свидетельства не лгут: в Европе и в самом деле бесконечные вереницы гражданских поднимались в вагоны для перевозки животных, которые затем направлялись в Аушвиц; израильтяне действительно одержали невероятные победы над пустыней и вражескими армиями соседних государств, однако, рассказав всему миру только часть правды, они тем самым оттенили другую ее часть: Сопротивление евреев в Европе и изгнание сотен тысяч невинных арабов; эти сюжеты вообще не были запечатлены, не стали частью репрезентации реальности. И поскольку наши чувства связаны непосредственно с нашими репрезентациями, сабры в Палестине испытывали великую гордость, а европейские евреи — великий стыд, в то время как ближневосточные арабы испытывали чувство великого унижения.
Бесстыдство
Но даже в условиях персональной или коллективной катастрофы всегда находятся индивиды, не испытывающие ни стыда, ни гордости. Способ их существования и манера воспринимать внешний вид реальности — «видеть вещи», как они говорят, — не вызывают у них никаких эмоций.
Иногда это безразличие обусловлено физиологическими свойствами, но чаще проистекает из бесконечных страданий морального характера, приводящих к тому, что у этих людей вырабатывается определенный механизм замалчивания собственной истории, что облегчает их физическую агонию. Среди них мало извращенцев, однако те, о ком мы все-таки узнаем, очаровывают нас полнейшим отсутствием эмоций. Они похожи на твердый кусок льда, а герои романов-нуар и фильмов ужасов, в которых рассказываются истории девиантного поведения, вызывают у нас приятную дрожь. (На деле бесконечный легион не испытывающих стыд пополняется извращенцами — теми сохраняющими спокойствие людьми, которые получают удовольствие от подчинения вождю.)
Некоторые из нас никогда не стыдились, поскольку относятся к мнению других с полнейшим безразличием. Нашим детям приходится дожить до четырех лет, чтобы обнаружить: внутренний мир других отличается от их собственного. Такой онтогенез, развивающаяся эмпатия делают нервную систему способной вычленять информацию из контекста, реагировать на стимуляции, оставляющие след в памяти и связанные с формированием будущих представлений о мире. Мозг будет успешно работать только в том случае, если эмоциональный фон, создаваемый окружением, позволит ребенку чувствовать себя в безопасности и даст ему толчок для дальнейшего движния[245]. Психотики с трудом воспринимают репрезентации окружающих, обычно не видя различия между ними. Поэтому они отвечают голосам, звучащим у них внутри, или мастурбируют на публике — так, словно вокруг никого. Те, чьи лобные доли оказываются поврежденными в результате автокатастрофы, и те, кто страдает слабоумием по причине того, что их мозг атрофировался из-за болезни, теряют возможность к эмпатии, поскольку утратили нейрологическую способность предвидеть, предугадывать то, что может произойти вскоре. Следовательно, они могут производить какое-либо действие, не думая об эффекте, которое оно вызовет в голове другого. Мозговой абсцесс, контузия или геморрагия разрушают миндалину мозжечка в глубине нижней части мозга, и больной, потеряв возможность реагировать эмоционально, абстрагируется от событий, не имеющих для него никакого значения. Как можно стыдиться, если другой для нас не существует, если наш изменившийся мозг делает нас более неспособным представлять себя в мире других? Мы реагируем только на то, что касается нас лично, и уже не способны выходить за пределы своего «я».
Подобные нейрологические нарушения не исключают, впрочем, влияния внешних разрушителей, приводящих к тем же результатам. Преклонный возраст упрощает восприятие времени — когда смерть становится все более реальным фактом, а не просто смутным, отдаленным событием, старики перестают сдерживаться, избавляются от необходимости вести себя так, как того требует социум. Они наконец-то могут высказать вслух то, что думают, — не принимая во внимание реакцию окружающих, без всякого стыда они будут говорить о том, что раньше всегда старались скрывать.
Меланхолия, которой охвачена душа больного, повторяющиеся депрессии изолируют субъекта и обедняют его эмоциональную среду; в течение нескольких недель может даже развиться атрофия правой височной доли[246]. Аффективные реакции затрудняются, поскольку традиционно отвечающая за возникновение эмоций височная доля более не функционирует, — и тогда стыд превращается в сущий пустяк, затихает: «В моем состоянии больше нечему стыдиться». Подобное признание, облегчающее страдания, предотвращает боль от борьбы за жизнь. Когда окружение не потакает желанию человека, впавшего в депрессию, смириться с ней, происходит достаточно быстрый перезапуск процесса обретения нейронной устойчивости, что дает возможность воздействовать на больного словом. Неразделенные эмоции разрушают мозг столь же эффективно, как и психическая травма, но если жизнь возвращается в свое привычное русло, возвращаются и эмоции, и тогда удовольствие от жизни ощущается одновременно с болью.
Утрата чувств оказывается особенно деструктивной в детский, наиболее эмоциональный период жизни. Когда реакции миндалины мозжечка не гармонизированы по причине испуга, возникающего параллельно чувству уверенности, приобретаемому в результате возникновения личной связи, ребенок не способен сделать из собственных эмоций то, что поможет укреплению этой связи. «Когда мне грустно, я знаю, что это пройдет», — говорит тот, кто уверен в безопасности выстроенной связи, но если утрата чувств приводит к безразличию, можно наблюдать явное отсутствие у ребенка чувства страха. Он не боится опасности, он не боится реакций других. Нейрообразность демонстрирует, что у изолированного ребенка миндалина мозжечка перестает реагировать. Почти лишенный эмоций, он готов чрезмерно рисковать[247]. Такой ребенок невнимателен к другим, не колеблясь, вступает в драку, готов воспользоваться благами других. Лишенный эмоциональных тормозов, в качестве которых выступает чужое мнение, он делает все, исходя лишь из собственного удовольствия, без стеснения и стыда.
Можно применять любые градации, описывая тех, кто нечувствителен к чужим взглядам, мало— и гиперчувствителен. Введение подобного, основанного на работе нейронов деления позволяет нам охарактеризовать различные манеры строить связи. Я знал молодых людей, которые, испытывая сексуальное желание, домогались всех встречных девушек или просто звонили, чтобы предложить им переспать, — абсолютно без каких-либо прелюдий. В большинстве своем девушки — забавляясь или испытывая шок — отказывались от предложений, правда, не все. Получая отказ, молодой человек спокойно набирал номер следующей. Подобная эмоциональная слабость создавала у партнеров обоюдное ощущение легкости и чувство свободы в виду отсутствия привязанностей. Получивший отказ никогда в дальнейшем не стеснялся женщин — он знал: достаточно одного слова, и они перестанут ему докучать. Эта эмоциональная «слабость» позволяла мужчинам никогда не терять лицо, никогда не испытывать стыда из-за резкого отказа.
Я знал и других юношей — относившихся к девушкам с пиететом. Они настолько обожали их, что считали недоступными. Уверенные в своей неспособности вызывать желание, они бежали прочь от тех, кого любили, поскольку были бы глубоко травмированы даже самым мягким отказом. Они предпочитали избегать любых встреч с объектом своих чувств, поскольку отказ вызвал бы у них неудержимое чувство стыда.
Мне приходилось видеть женщин, которые молча давали едва знакомым мужчинам свою визитную карточку, где от руки были записаны свободные часы. Другие женщины приходили в ярость и бежали в полицию, если какой-нибудь мужчина вдруг решал им улыбнуться.
Подобное удивительное многообразие реакций — начиная с максимально спокойного отношения к изнурительному стыду — возникает в процессе аффективного взросления, под влиянием сенсориальной среды, по-разному стимулирующей мозг в процессе его роста и развития.
Как только мозг сформировался, он уже менее спокойно начинает воспринимать реакции окружающих. Отношение к разным событиям зависит от внешних обстоятельств и от того, что со временем мозг становится менее пластичным. Как только индивид оказывается в шокирующей ситуации, он принимается изо всех сил приспосабливаться к ней, однако, преодолев определенную грань в развитии, подавленная психика не позволяет индивиду сохранить достоинство.
Когда Примо Леви прибыл в Аушвиц, он был изумлен увиденным. Очень скоро стыд, «испытываемый в начале заключения, был вытеснен необходимостью приспосабливаться ради выживания… те, кто слишком стыдился, быстро погибали… уходя в себя, отказываясь общаться с остальными, убежденные, что случившееся можно преодолеть в одиночку»[248].
Клошары переживают тот же процесс деперсонализации. Три этапа краха[249] — в начале социальный (потеря работы), затем психологический (одиночество) и, наконец, физический (грязные и больные, они оказываются на улице) — приводят к исчезновению чувства стыда. «Мы вышли за пределы любого стыда, мы скользим в сторону обесчеловечивания»[250].
Популяция «бесстыдных» крайне разнообразна. Среди них — доходяги, которых в лагерях смерти называли так потому, что они смирялись с собственной участью, вставали на колени в молитвенной позе, были близки к состоянию эмбриона и позволяли себе умереть. Подобный отказ от себя, утрата чувства стыда характерны для тех, кто пережил процесс дегуманизации и для кого взгляд со стороны ничего не значит. Но в лагере были и другие. Коммунисты, «свидетели Иеговы» и несколько представителей СХД (Студенческого христианского движения) сохранили солидарность. Они пытались организовывать побеги — взаимопомощь делала их страдание осмысленным. Только одно было важно для них — взгляды товарищей, позволявшие им сохранять человеческое достоинство. Они знали, что проиграли, что находятся в заключении, но не ощущали себя ни униженными, ни ущербными недочеловеками, поскольку они не разрешали охранявшим их солдатам смотреть на них именно так. Их эмпатия не распространялась на солдат СС, они не ставили себя на их место — просто не доверяли им; они поддерживали дружеские отношения, сохраняя в себе силы бунтовать: то есть они страдали, как люди!
Стыд испытываешь только тогда, когда желаешь сохранить гордость под взглядами тех, кому ты сам разрешил унижать себя. Дети до четырех лет не интересуются тем, во что верят взрослые[251]; депортированные в лагерь коммунисты противостояли фашистам, а потерявшие человеческое достоинство клошары утратили желание жить в социуме, находиться рядом с другими. Эти люди не испытывали стыда, несмотря на то что оказались в крайне унизительной ситуации. Ребенок не достаточно развит, чтобы испытывать стыд, воюющий не желает изучать ментальный мир своего врага, у клошара более нет сил думать о ком-либо другом. Необходим ли нам стыд, чтобы жить вместе? Станет ли его отсутствие показателем отсутствия солидарности, нашего безразличия по отношению к другим?
Мораль, извращения и извращенцы
Извращенцам не стыдно никогда — ведь для них другой попросту не существует, он, другой, — всего лишь паяц, созданный исключительно для того, чтобы они могли наслаждаться игрой с ним. XIX век был очарован извращениями — именно тогда социальный контекст придал цену самопожертвованию ради укрепления семьи и блага нации. Извращенцы нацелены лишь на «быстрое» удовольствие, а это ослабляет чувство солидарности. Они безнравственны, поскольку их развитие остановилось на детской стадии, и организуют свою манеру существования «в соответствии с догенитальным принципом, повинуясь частичным импульсам», — как объясняет Фрейд[252].
Стремление отказаться от собственного блага и принести его в жертву воспринималось в XIX в. Церковью и медициной как извращение[253]. Женщины производят на свет максимально возможное число детей, посвящают тело мужу и силы — семье. Мужчины — зарождающейся промышленности и нации. Из этих жертв рождается социальный порядок. В XXI в. представления о чести стали выглядеть иначе: мы больше не сражаемся на дуэлях, не тонем, стоя «солдатиком» на палубе, когда наш корабль погружается в воду, мы предпочитаем спасаться — это разумнее. В культуре новейшего времени цель родить ребенка, выкормить его и воспитать ставит перед выбором: быть женщиной или матерью[254]? Глупо заниматься другими в ущерб собственным интересам. Это — своего рода «ценности для недалеких», эмоциональное жульничество. Мужчины сегодня имеют полное право заниматься собой, тогда почему этого права лишены женщины? Естественное неравенство полов порождает социальную несправедливость. Тот факт, что женщина носит ребенка и в ее груди появляется молоко, становится препятствием на пути ее процветания. Жертвенность, имевшая высокую моральную цену в XIX в., оборачивается социальным мошенничеством в XXI столетии. Но почему тогда моральную ценность обретает нарциссизм, порождающий страдание окружающих и размежевание с коллективом?
Появление разных возможностей, связанных с воспитанием детей, позволяет выстроить такую образовательную систему, которая самым лучшим образом помогает родителям растить детей, минимально жертвуя собой. Многие страны, делавшие ставку на теорию привязанности, и ее правильное применение в вопросах воспитания достигли замечательных результатов[255]. Однако для того, чтобы изменить культурный контекст в этом направлении, необходимо, чтобы наши государственные деятели начали выстраивать новую политику в отношении детства.
До сегодняшнего дня структура наших обществ была скорее подчинена необходимости найти возможность обязательно наказать тех, кто выступает против самой идеи жизни в социуме. Любой ценой следить за выполнением законов! Рецепт прост: достаточно лишить исполнителя его привычных полномочий, избавить его от роли зубчатого колеса, вращающего социальную систему. И тогда он оказывается способным на самые худшие поступки, не испытывая ни стыда, ни чувства вины[256].
Наиболее иллюстративен в этом плане пример палача. Он не отвечает за решения, принимаемые судебной системой. Казня приговоренных к смерти, он лишь исполняет эти решения. Он вовсе не садист, наслаждающийся созерцанием чужой смерти, он просто работает. Но при этом он теряет способность к эмпатии: «Таков итог отделения от остального мира и ухода в мир, находящийся где-то в стороне»[257]. Когда человек по собственной прихоти убивает нескольких себе подобных, его считают опасным сумасшедшим, ведь он забирает жизни своих жертв во имя некоей идеи. Но когда он просто подчиняется решению судебной системы, выступающей в роли хранителя законов, о нем не говорят: «Он — убийца», для всех он — простой исполнитель. «Виновен вот этот, — заявляет палач, — он свернул шеи нескольким невинным. Я же не виноват, я убиваю по требованию общества. Делаю свою работу, вот и все». Примыкание к миру, стоящему особняком (к секте или группе политиков высшего звена) приводит к отмежеванию от остального мира.
Чаще всего движение в сторону другого происходит подспудно, без каких-либо внешних изменений. Давайте представим, что в 1939 г. одной служащей пражского ателье скажут: «В течение двадцати четырех часов ваша хозяйка будет казнена — без всяких причин. Пользуйтесь этим, устраивайтесь в ее кабинете и берите дело в свои руки. Скорее». Я убежден, что служащая возмутилась бы: «За кого вы меня принимаете? Это же воровство! Моя хозяйка ведет себя со мной очень корректно, ездит в Париж продавать платья, уверена во мне, и то, что она делает, приносит мне выгоду».
Несколько лет спустя полиция действительно арестовывает хозяйку. В течение нескольких месяцев ателье работало без руководителя, а потом новый закон позволил выкупить его по невероятной низкой цене — в рамках программы «ариизации» еврейского имущества. В 1945-м выжившая хозяйка вернулась домой. Любезная служащая показала ей документ на право владения собственностью, а потом неловко пригласила «к себе» на ужин, чтобы рассказать об ужасах войны и о пережитых страданиях. Та, что выжила, отведала превосходной еды — с «ариизированной» посуды, а затем отправилась ночевать в палатку — в устроенный поблизости лагерь[258].
В 1930-е гг. люди умерли бы от стыда при мысли о том, чтобы хозяин предприятия, на котором они работали, отправился в газовую камеру, — это-де даст возможность выкупить его дело и посуду. Однако несколько лет спустя «изменения условий жизни, ежедневная рутина, новые обычаи, новые органы власти… и прочие свидетельства „нормальности“ новых условий существования формировали у людей ощущение того, что все продолжается, как в добрые старые времена»[259]. Они не совершали ни преступлений, ни ошибок — все, что они теперь делали, было разрешено законом. «Никаких причин стыдиться, — подумала бывшая служащая ателье. — Я даже пригласила к себе на ужин бывшую хозяйку».
Во время краха нацизма в 1945 г. крушение социальных устоев «разрешило» солдатам насиловать немецких женщин. Русские полагали, что это не слишком серьезное преступление, если вспомнить о двадцати миллионах убитых и городах, стертых с лица земли на Востоке. Французские солдаты тоже занимались этим, не думая, что совершают преступление. Вернувшись домой, ни один из этих солдат не испытывал ни чувства вины, ни стыда от того, что совершил недостойный поступок. Когда мы повинуемся распоряжению властей, безумному закону или сексуальному импульсу — на войне, где акт, связанный с насилием, имеет безусловный вес, индивид, утративший чувство ответственности, становится простой «шестеренкой» в системе. Не существует более никаких индивидуальных тормозов, если мы должны повиноваться распоряжениям власти, на которую возлагается вся ответственность, или когда социальный кризис упраздняет законные и естественные системы. Невозможно ощущать эмпатию, рассуждая следующим образом: «Я разрешаю себе абсолютно все». В начале процесса социализации эмпатия распространяется лишь на близких людей — относящихся к клану или армейскому подразделению. Закон существует лишь внутри группы, прочие не воспринимаются как человеческие существа — следовательно, нет преступления в том, чтобы изнасиловать женщину из чужой страны, которая благодаря своему рождению связана с несчастьем, обрушившимся на нас.
Не существует чувства стыда, если другой не смотрит на нас.
Сила носочков. Вместо заключения
«Мы — марионетки наших историй»[260]. Чувство стыда или гордости, изнуряющее наше тело или облегчающее душу, проистекает из наших представлений о самих себе. Слову «представление» я придаю и некий театральный смысл. Мы все — комедианты на сцене, драматурги и актеры одновременно. Эмоции, вызванные представлением, которое мы играем в своем театре, зависит от важности того, что мы доверяем зрителю. Когда зал пуст, мы не испытываем ни гордости, ни стыда — лишь немного тоски, вот и все. Что еще сказать? Немой ничем не рискует, слепой не страдает от чужих взглядов, но ведь люди живут не так.
Мои чувства зависят от того, как вы отреагируете на мою игру. Играть драму собственного существования перед пустым залом не имеет смысла, однако эта игра доставляет нам ликование, если нам аплодируют, или, напротив, вызывает у нас отчаяние, если зрители свистят.
Часто нечто подобное разыгрывается за обеденным столом, в театре нашей повседневной жизни. Стыдящийся хотел бы просто, в двух-трех словах, поведать о своем нищем детстве. И вдруг кто-то сидящий рядом заключает: «То, что вы нам тут рассказываете, — настоящая история Козетты!» Все начинают смеяться. Представление окончено. Молчание. Зал пуст, но — если говорить объективно — еда все-таки была неплохо приготовлена.
Зрителю нет нужды существовать в реальности. Стыдящемуся достаточно представить реальность или просто вспомнить — и вот он уже начинает слышать голос, клевещущий на всех и вся. Когда стыд оказывается бессловесным, изнутри нас рвется критика, она становится самоцелью, и ее сила не является предметом сделки. Но если переживший травму, играя, выводит на сцену ту драму, которая унизила его, чувство презрения, отравляющее его душу, смягчается. Следует отметить, что, разыгрывая стыд перед публикой, он отдается чужим взглядам. Но к чему вообще произносить слово «отдаваться»? Не сообщит ли нашим противникам силу, которая станет оружием, обращенным против нас, простой факт рассказа о той драме, которую мы пережили?
Мать Жюльена обожала своего «птенчика». «Птенчиком» его назвал я. Он играл в футбол в команде таких же «птенчиков» из Форкалькье. Счастье этой женщины заключалось в необходимости быть хорошей матерью. Ей было приятно заниматься семьей, готовить еду, чтобы накормить своих «голодных мальчиков», гладить одежду, в которой они выглядели превосходно. Футбол ее не интересовал, однако она испытывала удовольствие, когда видела своего «птенчика» на поле, безупречно одетого (в форму деревенской команды — желто-голубую футболку и белые шорты). Через несколько минут после начала игры она вдруг переставала ощущать гордость — едва замечала, что носочки ее «птенчика» испачканы грязью. И, стремясь сделать свой маленький клан совершенно счастливым, она быстро выскакивала на поле и передавала мальчишке чистые носки. Во время этой демонстрации материнской привязанности ее «птенчик» умирал от стыда!
Его убивала не любовь, а пьеса о самопожертвовании, разыгрываемая матерью. Она унижала ребенка, заставляя его быть «птенчиком», тогда как он считал себя орлом! История с чистыми носочками превращала его в «маменькиного сынка», и, глядя на него, десятилетние язвительные сверстники просто умирали от смеха.
Стыд заставлял ребенка морщиться и отталкивать собственную мать. Разочарованная, травмированная, она решила, что мальчик ее разлюбил, — в то время как он грубо отталкивал ее только, чтобы не испытывать унижение.
Эта женщина думала о благополучии своих близких: «Я бы все отдала, чтобы он был счастлив», — однако демонстрация самопожертвования поселила в душе ребенка чувство стыда. Аффективные противоречия нередко встречаются в семьях, где привязанность превращает носочки в способ ранить тех, кого мы любим.
Я спрашиваю себя, имели ли эти носочки подобную власть в эпоху, когда наше общество состояло из крестьян и рабочих? Помню Маргерит, испольщицу из Пондора, которая в 1944 г., то есть в конце войны, управляя фермой, ежедневно раздавала задания десятку своих рабочих. Каждый вечер за ужином она молча сидела с краю стола. Она представляла себя отцом всех этих крестьян — отцом, в образе которого присутствуют наполеоновские черты: «Именно такому человеку общество доверило заботу об остальных».
В подобной структуре повседневности, подчиняющейся императивам сельского хозяйства, необходим руководитель, который сможет направлять коллектив, решать вопросы, связанные со сбором урожая и все остальные проблемы. Физическая сила, невосприимчивость к боли становятся в этом контексте основными ценностями. Дети тоже работали на ферме: они носили воду из колодцев и загоняли стада домой с пастбищ. В их обязанности входило также разувать мужчин, вернувшихся с поля. Мне следовало бы написать «стаскивать с них сабо», поскольку в то время (время наших родителей и бабушек-дедушек) кожаной обуви было очень мало. Многие носили деревянные сабо и, чтобы избежать появления волдырей, оборачивали ноги соломой. Каждый вечер солома разбухала от влаги и пота, и дети должны были стягивать эти сабо, ведь сами мужчины не могли снять их без посторонней помощи.
В техногенном обществе, где люди тесно связаны друг с другом, носочки ровным счетом ничего не означают. Мысль о том, чтобы вынести чистые носки своему «птенчику» на поле во время игры в футбол, больше не придет в голову ни одной матери. Чтобы они совершили этот «милый поступок», чреватый для ребенка травмой, необходимо, чтобы культурные ценности вновь изменились. Общество крестьян и рабочих нуждается в вожде, которому можно доверить власть и перестройку коллектива таким образом, чтобы тот смог лучше соответствовать сельскохозяйственным и промышленным императивам.
В техногенном, пропитанном условностями мире манера строить конфликтные отношения с теми, кого мы любим, к кому привязаны, вызвана проявлениями Эдипова комплекса. Когда семья хорошо структурирована, миф делает из отца своеобразного домашнего короля, а мать в этом случае становится подобием «идола привязанности», и, конечно, она сексуально неприкосновенна. Этот маленький мир абсолютно прозрачен, в нем царит порядок. Но этот порядок может быть нарушен исчезновением Эдипа, когда отец столь далек от нас, что мы лишь смутно осознаем его существование; а не зная, кто наша мать, мы рискуем вступить с ней в связь! Худшее из всех преступлений — инцест — есть результат этого эмоционального беспорядка. «Я должен был понять, что это — моя мать, — произносит Эдип, выкалывая себе глаза. — Но чтобы я мог узнать ее, необходимо вначале было узнать, кто мой отец, необходимо, чтобы мне его назвали!»
Социум, в котором мы теперь живем, уже практически лишен деления на крестьян и рабочих. Каждое утро отец и мать покидают ребенка, отводя его в школу, и его занятия там лишены всякой сексуальной специфики. Это справедливо для общества, где третьеразрядный сектор стал главным. Каждый вечер родители, вновь соединяясь с ребенком, начинают рассказывать новый миф, влияющий на детское сознание: «Твой отец больше не король, кормящий семью, он — подкаблучник, „помощник матери“ (если такое выражение вам больше нравится)». Отец должен согласовывать свои действия с матерью — это облегчит правильное развитие новых индивидов. Любая помеха на пути каждого члена этой семьи будет сурово осуждаться.
Таким образом, Эдип все больше и больше становится похож на Нарцисса, не находите?
Во времена крестьян, рабочих и буржуа душевное страдание очень часто порождало конфликты отцов и детей. Дети не желали жить по законам, которым следовали их отцы, а женщины, чтобы сохранить моральный облик, должны были подчиняться мужчинам. Общество требовало от отцов представлять внутри семьи государственную власть и следить за исполнением законов. Эта власть не всегда была привилегией, ведь она была связана с необходимостью гордо умирать в траншеях, страдать в глубине шахт и задыхаться от силикоза. Такой ценой соблюдалось выполнение законов и функционирование ментальных шаблонов — ценой нервного истощения, возникавшего, если психический конфликт переходил предел компромисса между желанием и самозащитой, приспособленной к нуждам семьи.
В новых условиях, когда общество предлагает индивиду огромный выбор персональных авантюр и путей развития, любая помеха выглядит, как нечто несправедливое, любой провал попытки самореализации становится травмой нарциссического характера. Технический и культурный прогресс, меняя мифы, не так давно превратили чувство стыда в залог будущего страдания.
Вот почему сегодня наша нарциссическая культура делает из носочков предмет, обладающий властью вызывать у нас чувство стыда.