Развал/схождение Константинов Андрей
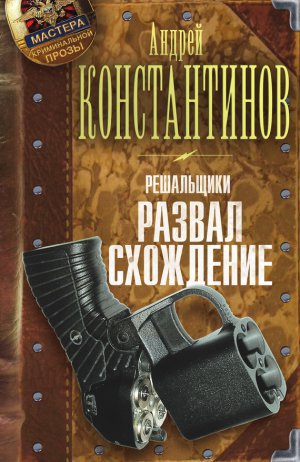
— Ван Хальс, морской пейзаж. Между прочим, вторая половина девятнадцатого века!
— И что же? Отдал вам Радецкий деньги?
— Нет. Не отдал.
— Зачем же тогда он вас пригласил?
— Мы обговорили условия оплаты, и Радецкий выдал мне расписку. Но я сказал, что сумма слишком серьезная для простого клочка бумаги, и настоял, что в ближайшее время к нему подъедет нотариус и оформит всё надлежащим образом.
— И сколь серьезной была сумма? Я к тому, что из квартиры похищено не менее двадцати тысяч долларов США. Мне кажется, этих денег вполне достаточно, чтобы оплатить не один, а сразу несколько морских пейзажей?
— Сразу видно, молодой человек, что вы — не специалист. Мой Ван Хальс стоит восемьдесят тысяч. Евро!
— Ого! Вы позволите взглянуть? На «простой клочок»?
В диалог вынужденно вклинивается Асеева.
— Мой клиент уже давал показания, что по возвращении домой его избили и ограбили: забрали расписку и мобильный телефон.
— Даже так? Что ж это, Петр Николаевич, у вас при себе никакой наличности не имелось?
— По какой-то причине мое портмоне грабителя не заинтересовало, — мрачно отзывается Московцев.
И этим объяснением вызывает у следователя саркастическую ухмылочку:
— До чего ж у нас избирательный грабитель пошел! Деньги, понимаешь, не взял, но вот клочком бумаги — не побрезговал. К слову, Петр Николаевич, никакой картины с морским пейзажем в квартире Радецкого мы не обнаружили…
— Если честно, после той беседы у меня остался неприятный осадок, — довершила свой рассказ Яна Викторовна и, устав от монолога, откинулась в кресле. От чего ее и без того «выдающиеся» соски «выдались» еще отчетливее.
Реакция на сие женское телодвижение последовала мгновенная: в глазах у двоих мужчин рефлекторно зажглись огоньки плотоядного интереса, а в глазах у мужчины третьего — тоже огоньки, но только нервического, собственнического происхождения.
— А в каком смысле «неприятный»? — первым отогнал от себя визуальный морок Петрухин. Вспомнив, что отныне его дожидается дома грудь размером поболее.
— У меня сложилось впечатление, что в отношении Московцева этот следак всё давно решил и настоящий опрос проводил сугубо формально, для галочки.
— Вот только поделиться подобными ощущениями со мной ты так и не удосужилась?
— Так у Московцева и в самом деле была картина этого… как его? Хальса? — поспешил на выручку любимой Леонид.
— Была, — кивнул Брюнет. — Петюня рассказывал, что в России всего три Ван Хальса: один в Эрмитаже, один — в частной коллекции, в Москве и еще один — у него. Он так пёрся от осознания сего факта, что я решительно не понимаю — на хрена понадобилось продавать картину?
— Так, может, он и в самом деле её того… не продавал? — предположил Купцов, вызвав предсказуемую реакцию босса:
— Хочешь сказать, — скривил губы Брюнет, — что Петька в натуре антиквара замочил?
— Ну, не то чтобы замочил. Просто мне кажется, что Московцев далеко не всё рассказал.
— Вот и выясните, чего он там не договорил. С этого момента от прочей работы я вас освобождаю. Сейчас главное — разобраться с нашим скандинавом, хрен ему между…
— А что ты подразумеваешь под глаголом «разобраться»? — уточнил Петрухин.
— Задача минимум — выяснить все детали и понять, чем для нас эта нездоровая канитель обернуться может? Потому, не надо быть семи пядей во лбу аналитиком, чтобы увязать последние скандинавские темы Петюни с нашими последними проектами. Я уже молчу за трубный кипеж в Смольном.
— Что за кипеж? — насторожилась Асеева.
— Потом, — отмахнулся неосторожно сболтнувший лишнее Брюнет. — Там пока еще все очень неопределенно… А возвращаясь к Московцеву, задача максимум: вытащить мудака из узилища. Хотя бы на подписку. Всё, работайте. А я поехал на встречу к «ново-», он же «пере-» избранному депутату Омельчуку. Осчастливившему наш городок очередным посещением.
— Ты сам напросился на визит, или?
— Или, — мрачно ответил Виктор Альбертович. — И, по правде сказать, это меня малость напрягает.
— В смысле?
— Ежели еще и Антон от нас открестится, как только что поступила крыса в чине старшего офицера, — пиши край… Э-эх, Микита-Микита, дружок круглосуточный, хрен тебе между… Рыцарь, блин, плаща и дрища…
Судя по нездоровому блеску глаз, всего за полтора часа девушка успела всё: и заполучить наркотик, и, попользовавшись оным, временно приобрести некоторую живость в членах.
Засим, вернувшись домой и застав Коптева спящим, Джули осторожно, буквально на цыпочках, прошла к лежавшей на полу коптевской сумке, потянула молнию и, пошарив во внутренностях, нащупала манящие купюры…
— Положи на место!
Джули вздрогнула и испуганно обернулась:
— Серенький! Я… я ничего такого… Я… просто хотела поднять. Сумку. Смотрю, валяется на полу. А пол грязный…
— Так возьми — и помой пол. А то, и в самом деле — срач, как в… Ладно. Телефон принесла?
— Да. И симку тоже, прямо у Искандера купила. Сказал, что она — левая и ей можно свободно пользоваться.
— Хорошо. Сдачу можешь оставить себе.
— Да какая сдача? Там почти в ноль вышло, — соврала Джули.
Коптев достал из сумки шариковую ручку и, не сумев отыскать в комнате ни единого клочка бумаги, написал семь цифр прямо на обоях:
— Это мой домашний номер. Наберешь прямо сейчас.
— Зачем?
— Если кто-то отзовется, попроси к трубке… ну, скажем… Кирилла.
— Какого еще Кирилла?
— Неважно. На том конце у тебя спросят примерно то же самое. В ответ ойкнешь, скажешь, что ошиблась, и сразу сбросишь звонок. Всё поняла?
— Сам и звони. И вообще — че ты тут раскомандовался? — набычилась осмелевшая после дозы Джули.
— Я сказал: набери этот номер! — повторил незваный гость и посмотрел на девушку ТАК, что от сиюминутной вспышки смелости не осталось и следа.
Она покорно взяла мобильник и набрала семь цифр…
— …Здрасьте, а Серге…
— Кретинка! — зашипел стоявший рядом Коптев, делая одновременно и страшные, и страдальческие глаза.
— …ой, то есть я хотела сказать — Кирилла можно?.. Ой, я, наверное, не туда попала…
— Идиотка!
Сергей выхватил у девушки трубу, пихнул в карман и нервно схватился за початую бутылку.
— Я чисто машинально, Серенький. Правда… А кто это был?
— Кто-кто? Менты!
— А почему менты?
— Твари! Какие же твари! — горько, на срыве заблажил о своем Коптев. — Правильно говорил Зосипатыч: один раз можно поверить кому угодно, хоть самому дьяволу. И только менту верить нельзя. Ни разу. Никогда.
— Так ты же сказал, что тебя отпустили.
— Заткнись!
Сергей грубо оттолкнул девушку и…
…не рассчитал свои силы: пушинка-Джули отлетела в противоположный угол комнаты, ощутимо ударилась головой о стояк батареи и в слезах сползла на пол.
Коптев отхлебнул из бутылки, выдохнул и виновато присел на корточки перед рыдающей подругой бывшей подруги:
— Извини, Джули. Я… я не нарочно, правда. Извини, слышишь?.. Просто… Просто мне сейчас очень хреново…
Простимулированный, а главное — в кои-то веки ощутивший свою практическую полезность Комаров рьяно взялся исполнять поручение.
В чем, как ни странно, преуспел: уже в районе пяти вечера Иван Иваныч отзвонился решальщикам и голосом, в коем витал легкий хмелек, сообщил, что в данный момент они со свояком находятся в кабачке на Большой Московской. Что, само по себе, на событие не тянет. Однако на кармане свояка лежала интересующая Асееву копия постановления о задержании. И вот это уже смахивало на полновесный трудовой подвиг.
Побросав все дела, решальщики поспешно оседлали «фердинанда» и выдвинулись за документом. Поскольку в попутчики к ним напросилась и Яна Викторовна, на руль был посажен Дмитрий, а давно нетайные «тайные любовники» расположились в салоне.
Литейный в этот час стоял плотно, так что Петрухин вынужденно дал кругаля, проложив маршрут через Суворовский. Где, уступая дорогу паркующемуся свадебному кортежу, приветствовал молодоженов затяжным сигналом клаксона.
— Интересно, бракосочетание в день понедельника — это к невезению, или наоборот? Что на сей счет гласят легенды и мифы?
— А легенды гласят, что дела, начатые в понедельник, трудно завершаются, — отозвался Купцов. — Следовательно, такой брак будет тянуться долго.
— Ты полагаешь? Кстати, сколько раз этой дорогой проезжал, а не обращал внимания, что Главк, оказывается, рядом с Загсом квартируется.
— А мне всегда казалось, что оперативник должен знать свою землю как свои пять пальцев, — отпустила подколочку Асеева.
— Не только знать, но и регулярно ее метить, — подтвердил Леонид. — По периметру.
— Я давно замечал, инспектор, что в обществе красивых женщин ваше и без того не выдающееся чувство юмора становится еще более плоским. Тебе, Лёня, следовало бы начать брать уроки остроумия у признанных корифеев. Таких, например, как ваш покорный. Или тот же Брюнет.
— Если у Виктора Альбертовича и есть чувство юмора, то оно весьма своеобразное, — заметила Яна. — И исключительно черное.
— Так это как раз самый сложный жанр! Взять хотя бы наши утренние посиделки: согласитесь, лихо он Пономаренку обоср… хм, пардон, уделал? Кстати, Лёня, помнишь, когда мы с ним предпоследний раз виделись? В день, когда Ольгу Глинскую задержали?
— Допустим. И чего?
— Пономаренко тогда тебя на «пошепчемся» вытащил. И шептались вы, если память мне не изменяет, минут двадцать. Чего он от тебя хотел, наш настоящий полковник?
Этот невинный вопрос отчего-то заставил Купцова «взбледнуть».
— Да так… ерунда.
— А все-таки?
— Предлагал восстановиться в органах. С повышением в должности.
— Вот уж воистину: «К плеши ум не пришьешь», — расхохотался Дмитрий. — Ну да, я надеюсь, ты его изящно послал?
Леонид поймал на себе выразительный, испытующий взгляд Яны и…
…и все равно не смог решиться.
Промолчал.
— Э-э-э! Я не понял? — встревожился Петрухин. — Алё, гараж! Купчина?! Надеюсь, ты не был настолько туп, чтобы…
К счастью Купцова, именно в этот момент в дамской сумочке затрезвонил телефон.
— Слушаю! Представьтесь, пожалуйста… А, поняла. Здравствуйте, Василий Александрович… Даже так?.. Поняла. И как скоро это можно устроить?.. А если вот прямо сейчас? Ну, скажем, минут через сорок?.. Хорошо, так и сделаем. Тогда, если вам не трудно, закажите мне пропуск… Спасибо…
— Кто это был?
— Звонил тот самый следак, Ощурков, — озабоченно ответила Яна. — С его слов, Московцев отказывается от беседы под протокол, настаивая, что сперва ему требуется консультация со мной. Надо срочно ехать в «Кресты».
— Блин! Нет, чтобы полчаса назад позвонить! — раздосадованно крякнул Петрухин. — Когда мы находились на расстоянии пошаговой доступности.
— Так или иначе, но ехать все равно надо.
— Согласен, надо. Вот только… Боюсь, пока мы будем возвращаться и давать крюка через изолятор, эти два брата-акробата наклюкаются до положения риз, и толку от них будет не много.
— Есть такое дело, — согласился Купцов. — Поэтому давай-ка где-то здесь прижмись. Мы с Яной… хм… с Яной Викторовной возьмем тачку. Попробуем убить двух зайцев одновременно.
— Бедные животные. Мне уже их жалко…
Кафешка, что ныне облюбовали родственнички, была Петрухину известна. В былые служивые годы его здесь неплохо знали и принимали, а порою даже отпускали в долг. Правда, с тех пор сменились (причем не единожды) и хозяева, и персонал, но вот атмосфера и публика остались прежними. Сиречь — непритязательными и даже, отчасти, маргинальными.
Комаров и его свояк сидели за самым дальним столиком, скрытым от сторонних глаз густой, сигаретного происхождения завесой. Стол был уставлен пивными бокалами — как пустыми, так и пока не тронутыми, а в самом центре торжественно громоздилась презентованная Брюнетом, наполовину опустошенная бутылка вискаря. При том, что на стене, прямо над головой Ивана Иваныча висела табличка, предупреждающая о недопустимости распития любого рода напитков, приобретенных вне заведения.
— Да не сочтите за третьего лишнего, а примите за прохожего! — приветствовал собутыльников Петрухин.
— Ты кто? — строго вопросил уже изрядно нагрузившийся свояк.
— А вот и Дмитрий Борисыч! — преувеличенно-радостно вскинулся Комаров. — Собственной персоной. Микола, познакомься! Это… Короче, мой подчиненный. Бывший. Тоже из нашенских. Бывший опер.
— Опер бывшим не бывает, — философически изрек Микола, протягивая лапу для приветствия.
«Лапа» была — что надо, многовмещающая. В такую — давать/не передавать.
— Мудро. Глыбко. Дмитрий.
— Николай Алексеевич.
— Ух ты! Прям как Некрасов!
— Это какой Некрасов? Из Калининского РУВД?
— Да не важно, — отмахнулся Петрухин. — Дозволите присесть?
— Конечно-конечно, — засуетился Иван Иваныч. — Милости прошу к нашему гаражу. Водочки? Или сперва пивка для марш-броска?
— Ни того ни другого. Я за рулем.
— Да ты не переживай, Диман! — успокоил тезка известного поэта. — Если нужно, мы тебя с эскортом да с мигалкой доставим.
— Спасибо, непременно воспользуюсь. На собственных похоронах, — отшутился Дмитрий и нетерпеливо поинтересовался: — Иваныч, ты сказал, что копия постановления уже у вас?
— Само собой. Микола, выдай человеку цидулю.
— Не вопрос. У нас от бывших оперов секретов нет.
Микола вручил Петрухину файловый кармашек с ксерокопией, и, пока инспектор знакомился с текстом, родственнички споро оприходовали еще по рюмочке.
— Ну как? Оно? Ты ее хотел? — смачно рыгнув, уточнил свояк.
— А? Да-да, оно. Спасибо огромное, дружище.
— А раз оно, тогда че такой мрачный сидишь?
— Да вот размышляю, как при такой скудной доказательной базе ваш коллега умудрился вынести постановление о заключении под стражу? — честно озвучил свои сомнения Дмитрий.
— Ощурков-то? Да он известный перестраховщик. Кабы не ограниченное число посадочных мест, у него бы все клиенты до суда под замком сидели. Про него даже поговорка по конторе ходит: «Попал, как к Ощуру в ощип».
— Каким бы перестраховщиком не был, все равно последнее слово остается за судьей, — рассудительно сказал Комаров, и Дмитрий посмотрел на того с плохо скрываемым удивлением:
— Иваныч! Похоже, в твоем случае алкоголь расширяет не только кровеносные сосуды, но и мозговое вещество! Молодца! — он всмотрелся в оборотку документа. — И кто же у нас здесь судья? Некая «Устьянцева В. И.». Хм… Суд этот хорошо знаю, а судью почему-то нет.
— Вичка, что ли? — уточнил свояк. — Стервозная баба, себе на уме. Правда, там всё при ней — и задница, и буфера.
— А ты что, щупал-проверял?
— Иваныч, я че, похож на самоубийцу? Вичка, она же с подполковником Архиповым спит. А у него, знаешь, какие связи по верхам?
— Понятия не имею.
Тезка поэта ткнулся грязным указательным пальцем в Петрухина:
— А ты?
— И я тоже. Не имею.
— Во-от! И лучше вам обоим этого и не знать! Крепче спать будете. Ну давай, Диман, булькнем. За Фрейда и за здоровый сон. Не-не, никаких откатов… в смысле, отказов я не принимаю. Мы тебя уважили, с копией этой?
— Еще как.
— Тогда алавердуй.
— Чего сказал?
— Я говорю: теперь и ты нас уважь.
— Да я бы с радостию, мужики, но… Кстати, еще один вопрос: Николай Алексеевич, а ты не мог бы попробовать сделать для нас ксерокопию с еще одной… хм… казенной бумажки? Разумеется, обратно не за спасибо?..
Пока Петрухин общался с хмельными родственничками, в следственном кабинете СИЗО № 1, то бишь в печально известных «Крестах», продолжалось непростое общение подозреваемого в совершении убийства и его адвоката.
Невзирая на гарантированную Законом конфиденциальность подобных бесед, вмонтированный в столешницу микрофон продолжал сейчас фиксировать каждый звук. Автоматически запустившись, едва только Асеева пересекла порог невеликого и аскетически обставленного помещения…
— …Радецкого я знаю… знал лет восемь. Мы не были приятелями — отношения строились сугубо на деловой основе.
— Поясните, пожалуйста, Петр Николаевич.
— Пояснить что?
— Какого рода дела вас связывали?
— Иногда я приносил ему какие-то безделушки на реализацию. Порой уже он просил меня продать какую-то вещь через Анечкин салон. Анечка — это моя сестра.
— Да-да, я в курсе.
— Но в последнее время мы стали общаться все реже.
— Почему?
— Георгий свел знакомство с очень серьезными чиновниками и переориентировал бизнес на обслуживание випов. Причем большею частью столичных. Сейчас, знаете ли, модно вкладываться в антиквариат, живопись, ювелирку. Искусство, увы, дорожает и априори становится объектом интереса дилетантов.
— И все-таки, Петр Николаевич, почему вы вдруг решили продать своего Ван Хальса?
— Я его не то чтобы продал…
— Как это понимать?
— О-ох… Хорошо, чего уж теперь… Чуть больше месяца назад мы встретились с Анатолием Яковлевичем на выставке Глазунова «Художник и Время» в Манеже. Спустились в буфет. Там я позволил себе слегка злоупотребить… И ненароком рассказал о своей, будь она неладна, идее фикс.
— Сделать карьеру по партийной линии?
— Можно и так сказать. Радецкий внимательно выслушал и сказал, что, дескать, нет ничего проще. И действительно — буквально на следующий день познакомил меня с господином Комоловым. Вам знакома эта фамилия?
— Безусловно.
— Мы вместе, в смысле — втроем, поужинали в «Джельсомино». И там в процессе общения Комолов озвучил мне стоимость кресла в Политсовете. Признаться, цифра меня ошеломила.
— Даже так?
— Да. Я рассчитывал максимум на половину от запрошенного. И почти уже решил отказаться. Но тут Комолов сказал, что есть вариант решить этот вопрос к взаимному удовольствию сторон. Для чего я должен презентовать своего Ван Хальса… хм… Ну, вы понимаете кому?
— Учитывая, что Комолов служит референтом у…
— Да-да. У лица, назовем так, из первой пятерки федерального партийного списка московской региональной группы.
— А почему речь зашла именно об этой картине?
— Картина нужна была для пары. В таком случае Ван Хальс в России имелся бы лишь в двух местах: в Эрмитаже и у… Знаете, как это говорят: понты дороже денег?
— Знаю. И что же, вы передали картину лично Комолову?
— Ван Хальса я отвез Радецкому. Не исключаю, что на этой теме он срубил для себя неплохие комиссионные.
— А свидетели тому есть?
— Что вы?! Вопрос слишком деликатный, чтобы посвящать в него посторонних.
— Жаль.
— Почему?
— Потому что факт передачи картины подкрепляется лишь вашими словами. А тут еще и пресловутая расписка Радецкого куда-то испарилась… Странно, что он вообще решился ее написать.
— А что в этом странного?
— Допустим, они изначально намеревались вас… кинуть. Что им мешало теперь, когда картина у них, включить дурака и заявить: знать ничего не знаем и ни о каком Ван Хальсе не ведаем?
— Дело в том, уважаемая Яна Викторовна, что мой Ван Хальс внесен во все серьезные художественные каталоги. Его нельзя легализовать вот так вот запросто, на шару. Иначе разразился бы жуткий скандал. Собственно, об этом я и предупредил Радецкого. После чего тот согласился с моими доводами и написал расписку.
— Сразу согласился?
— Нет, не сразу. Сперва он вышел из кабинета и позвонил кому-то по телефону. Скорее всего, Комолову. А может — и… самому.
— И как долго продолжался этот телефонный разговор?
— Как долго — не скажу. Но в комнате Радецкий отсутствовал минут семь-десять… Яна Викторовна! Скажите, что мне делать?! Я… я не знаю, что мне говорить следователю? Упоминать ли мне Комолова и?..
— Извините, Петр Николаевич, но мне нужно какое-то время на осмысление. Все, что вы мне сейчас поведали, безусловно, очень важно, вот только… Ах, ну почему вы сразу всего этого не рассказали?
— Я… мне… мне было очень стыдно… Что я… ну, в общем, повелся, как последний лох… А потом, после этого убийства… Я… я испугался… Яна Викторовна! Родная! Умоляю, вытащите меня отсюда! Я для вас… Я… Любые деньги… По гроб жизни… Мне… мне здесь так страшно… Один… в четырех стенах… Кажется… у меня начинает развиваться клаустрофобия…
В крохотной комнатушке, закрепленной за Управлением «Л»,[13] бесшумно крутились бобины огромных старорежимных, способных пережить даже ядерный удар магнитофонов. Фсиновский «слухач» продолжал беспристрастно фиксировать разговор арестанта с адвокатом. Уголовные дела нескончаемым потоком шли, а контора, соответственно, нескончаемо писала…
— Слушаю тебя, Дима.
— Вы там закончили? С Московцевым?
— Яна еще в изоляторе. А я тут неподалеку, в забегаловке у Финбана. Кофием по-шараповски давлюсь.
— Понятно. Все работают в поте морды, и один только инспектор Купцов привычно бьет баклуши.
— Ни фига подобного! Я это… короче, анализирую. Ситуацию.
— Слышь, мыслитель, давай-ка напряги свой мозжечок и санализируй мне что-нить за судью Устьянцеву. Случайно не знаешь за такую?
— Как-как ты сказал?
— Устьянцева Виктория Ивановна.
— А ты зачем? С какой целью интересуешься?
— Покамест вопросы здесь задаю я.
— Устьянцева — это та самая судья. Которая… Из-за которой меня вычистили из органов. «Дело Городецкого». Помнишь?
— Даже так? Охренеть! Нет, это не город с претензиями на столичность, а самая натуральная коммунальная квартира в районе одесского Привоза.
— А с чего вдруг возникла тема с Устьянцевой?
— Потом, завтра, в конторе поговорим. А ты давай дожидайся Яну и продолжай анализировать. Если она расскажет что-то интересное, звони. Только не очень поздно: я теперь по ночам того — сплю.
— Так ты с Комаровым — всё?
— Еле-еле от этих клоунов отвязался. Хотя, клоуны, надо признать, оказались небесполезными.
— Так подъезжай сюда, к нам? Прямо сейчас и поговорим, чего время терять?
— Вот уж хренушки, мой рабочий день на сегодня «алес капут». Меня ждут ужин и красивая женщина.
— Понятно. На лицо все признаки обострения хронического Петрухинского цинизма.
— И в чем ты здесь углядел цинизм?
— В отличие от тебя, этим вечером Московцева ждут баланда и, при лучших раскладах, сокамерники-туберкулезники.






