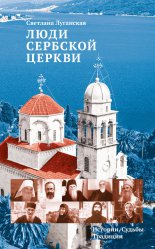Добронега Романовский Владимир

© Владимир Дмитриевич Романовский, 2015
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru
Предисловие автора
в котором объясняется, почему события, описываемые в тетралогии, следует считать подлинными, а людей, участвовавших в этих событиях, реальными
Несколько лет назад, в солнечный апрельский полдень, я сидел на ступеньках Публичной Библиотеки на Пятой Авеню и читал скучно написанную монографию об ацтеках. Я не очень понимаю, зачем некоторым людям необходимо писать скучно, если можно писать весело и увлекательно, о тех же ацтеках, но у всякого свой вкус. Из монографии я рассчитывал извлечь какие-нибудь интересные факты для моей новой пьесы.
В какой-то момент я почувствовал, что кто-то стоит возле и смотрит на меня. Я поднял голову.
Оказалось – да, толстый мужик лет тридцати или чуть старше, в костюме и при гластуке, с толстым старомодным портфелем. Он вежливо ко мне обратился по-русски с легким акцентом:
– Прошу прощения. Вас зовут…
Он назвал мои имя и фамилию.
– Да.
– Вы пишете исторические романы … по-английски … под псевдонимом…
Он назвал один из моих псевдонимов. Действительно, я написал к тому моменту два исторических романа, именно под этим псевдонимом. Я кивнул. Тогда он назвал себя. Его собственные имя и фамилия мне ничего не сказали.
– Мы знакомы?
Он отрицательно мотнул головой. И сказал:
– Дело не в этом. Я являюсь потомком Тауберта. По материнской линии.
Я попытался вспомнить, кто такой Тауберт, и не вспомнил. Спросил наугад:
– Оперный певец?
Потомок заверил меня:
– Гораздо хуже. Иван Иванович Тауберт, немец по происхождению, родившийся в России, историк, классификатор, типограф.
– Что-то знакомое.
– Он был некоторое время коллегой, но не другом, Ивана Семёновича Баркова.
– Баркова? Поэта?
– Его самого.
У моего собеседника появилась на лице улыбка, которая всегда появляется у тех, кто знает русский язык, при упоминании имени Баркова. У меня, скорее всего, тоже появилась на лице такая же улыбка. Толстяк продолжил:
– Он был не только поэт, но еще и историк, и типограф, в точности как мой предок.
– И ученик Ломоносова, – добавил я, демонстрируя эрудицию.
– Да. Он был ученик, а мой предок был враг.
– Чей враг?
– Ломоносова. Ломоносов его ненавидел. И даже написал на него что-то вроде доноса.
– Ага. У вас интересное произношение.
– Я родился в Белорусии неподалеку от польской границы, у нас там все так говорят. И несколько лет прожил в Германии. И сейчас живу в Германии. Преподаю … в университете … Позвольте объяснить, что мне от вас нужно.
– Да, пожалуйста.
– Недавно скончалась моя дальняя родственница.
– Примите мои соболезнования.
– Не трудитесь, я даже не знал о ее существовании. Юристы посовещались и решили, что я – ее наследник. Ближе никого не нашлось. Она жила в захолустье – такая дыра, знаете ли, ужас.
– В России?
– Нет, в Германии … Так от всего удалено, что никакие войны ее, дыру, не задели. Представляете? И Наполеон ходил с войском, и Коалиция, а в двадцатом веке … сами знаете … и все прошли мимо почему-то. И авиация мимо пролетела. А дома добротные, и церковь готическая в прекрасном состоянии. А в домах подвалы. Тоже в хорошем состоянии. Ну, вы знаете, наверное – немцы люди аккуратные. Я получил в наследство этот дом дурацкий, вместе с подвалом. Немецкой крови во мне не очень много, но порой сказывается. Я решил все тщательно изучить, прежде, чем принимать какие-нибудь решения, обследовал дом, и подвал тоже. В подвале я обнаружил сундук. Старинный. То, что было в сундуке, меня поразило.
Он улыбнулся – мне показалось, что чуть застенчиво. Но только показалось – застенчивостью потомок Тауберта не страдал.
– Там оказался архив моего предка, того самого Тауберта. Он был, предок мой, говорят, сволочь страшнейшая. Брал взятки. Не давал хода русским ученым. Подсиживал, не пускал, срывал эксперименты, топил проекты. Собственно поэтому-то Ломоносов и написал на него … донос … ну, может, просто жалобу. Донос – противное слово. Но при этом был он, Тауберт, человек очень дотошный. Конспектировал все подряд, записывал … И в какой-то момент, напару с Барковым, они издали … книгу…
Я что-то вспомнил. И поднялся на ноги.
– Позвольте…
– «Повесть временных лет», Кеннигсбергский Список. Или Радзивилловский, как вам будет угодно.
Я кивнул. Толстяк продолжал:
– Часть своего архива Тауберт переправил в Германию, где он к тому времени купил себе дом – тот самый, который сейчас принадлежит мне. Надо бы продать. Дыра … Скупердяй он был, предок мой. Мог бы и в приличном месте купить … В сундуке я обнаружил…
– Оригинал Кеннигсбергского Списка?
– Да, но и еще кое-что. Много. Хотите посмотреть?
– Хочу.
Толстяк раскрыл поставил свой портфель на ступеньку, открыл, и извлек из него пачку распечатанных фотографий. И протянул ее мне. Я поразглядывал – и ничего не понял. Спросил:
– Что это?
– Кириллица.
– Вижу, что кириллица. Но явно не Кеннигсбергский Список.
– Присмотритесь.
– Это негативы?
– Нет. Это береста. И, вот, взгляните – хартия … пергамент.
– Э…
– Не пугайтесь, пергаментный лист всего один. И бересты тоже не очень много. Зато много бумаги. Дотошный мой предок все это разбирал, сортировал, и переписывал. Некоторые части переводил на немецкий, переписывая, иные – на русский того времени. Вот титульный лист.
Я взял у него распечатанное фото. Посмотрел.
– Я не понимаю по-немецки.
– Не вопрос, я все давно перевел … Видите – имя в нижней части?
В нижней части было написано – Hegle … неразборчиво … Jagare … Smolensk und Sigtuna … и еще что-то. Я вопросительно посмотрел на собеседника. Тот улыбнулся.
– Вам это имя ничего не говорит, разумеется. Какой-то отпрыск рода Ягаре, уроженец Сигтуны, со смоленскими примесями…
– Сигтуна – это тогдашняя столица Швеции? – снова похвастался я эрудицией.
Толстяк посмотрел на меня неодобрительно. И сказал веско:
– Я историк. Специалист по средневековой Руси. Это – воспоминания, или мемуары, как хотите, очевидца событий того времени. Огромного количества событий. Я изучил их, мемуары, я знаю их почти наизусть. Они подлинные. За это я вам ручаюсь. Но никто их таковыми признавать не собирается. За это я вам тоже ручаюсь.
– Почему?
– Потому что они опровергают сегодняшнюю парадигму. Потому, что если их признать подлинными, историкам нужно будет признать ошибки и пересмотреть очень, очень многое. Слишком многое. Никто на это не пойдет. Сегодня, во всяком случае. Уж вы мне поверьте. Но в них – настоящая, всамделишная Русь того времени, и всамделишные русские люди. Настоящие. Живые. Вы себе представить не можете … да … и написано все это вовсе не сигтунцем из рода Ягаре.
– Из чего вы это заключили?
– Сигтунец сносно владел тогдашним славянским наречием, а вот склонности к письму у него не было никакой. И к чтению тоже. А написано все это явно человеком просвещенным. И я знаю, как его звали. Хотите скажу?
– Скажите.
– Звали его Нестор.
– Стоп, стоп. Какой Нестор? Тот самый Нестор? Монах? Автор…
– Да, автор галиматьи, к изданию которой приложил руку мой предок – тоже. Но галиматью он писал ради денег, или почестей, заказ выполнял. Монахом он скорее всего не был. Изображал монаха – может быть. А это всё, – он тряхнул пачкой распечаток, – в отличие от заказа, написано честно, вменяемым языком, с массой подробностей из жизни, с подлинными разговорами … словом, это как раз и есть история. Вы себе не представляете! … Там, к примеру, объясняется, кто на самом деле был Илья Муромец. И на былинного деревенщину он совершенно не похож, уверяю вас. И сестра Ярослава там … эка баба неуемная … Ну, много там всего – заговоры, интриги, похищения, подкупы … чего там только нет. И я даю все это вам.
Он снова залез в свой портфель и выволок оттуда толстенную папку.
– Мне?
– Вам.
– Э…
– Нет, я не стану присылать вам все это на мыло. Не хочу. И вам не рекомендую загружать подлинник в интернет. Оно так надежнее. А даю я все это вам для того, чтобы вы все это переписали, ничего не упуская, в форме романа.
– Позвольте…
– Да, вы правы, в один роман тут не уложиться, нужно писать три или четыре. Пусть будет – ну, скажем, тетралогия. «Русская Тетралогия». Звучит? Писать это нужно по-русски. Потом переведем, ежели нужно.
– Знаете, я…
– Ну?
– Я пишу в основном по-английски.
– Я знаю.
– По-русски – только стихи, и несколько статей написал. И путеводителей несколько. Про Париж, про оперу…
– Что мне ваш Париж. Тут целая эпоха, и все подлинное.
– Да, но…
– А вы возьмите и попробуйте.
– Хорошо. Ответьте на вопрос.
– Попробуйте, попробуйте.
– На вопрос ответьте!
– Ну?
– Почему я? В России чего, романистов не стало?
– Я читал ваши американские исторические романы.
– Польщен, но при чем тут…
– Это как раз то, что нужно. У вас своеобразный, но очень легкий, очень жизненный стиль, и юмор – именно такой, какой нужен в данном случае. Монографии читают единицы. Романы читают миллионы.
– Краснею, но все-таки…
– Хорошо, объясню.
Потомок Тауберта поморщился. И сказал так:
– В России до сих пор никто не удосужился написать нормальный исторический роман. Ни разу. За всю историю русской литературы. Попыток было много, но почему-то даже самые лучшие романисты – и в прошлом, и сегодня – романисты, чувствующие людей, все видящие насквозь – вдруг меняются, когда дело касается истории. И пишут какую-то чепуху, какие-то лозунги, идеологию примешивают ко всему. У них утром женщина из мелкопоместных дворян, стоя в нижнем белье перед зеркалом, думает о государственной необходимости и коварстве поляков. И стиль делают такой, что читать и трудно, и противно. Я не знаю, почему так происходит. Пишут, пишут – и пишут хорошо, но как только доходит до истории – хоть плачь! А ваш стиль тут как раз бы подошел. Это будет первый нормальный, правильный, достойный русский исторический роман. Вернее, целых четыре романа. А вы будете первооткрыватель. Как вам?
– Не знаю.
– Вот моя визитная карточка. Ознакомьтесь с рукописью. Через неделю, или раньше, позвоните мне.
– А как же…
– О публикации поговорим. И о гонорарах. Гарантировать ничего не могу, но посодействую, как умею. Имейте в виду, это долгосрочный проект, а не однодневная сенсация. Долго будет набирать обороты. Но перспективы есть, и они весьма интересные. Все-таки – первый русский исторический роман, не поделка какая-нибудь, не лубок, не фентези. А настоящий роман. Вернее, четыре романа. Только прошу вас ничего не переделывать, пусть события остаются такими, какие они в рукописи. Додумывать можете, а переделывать не надо. Подумайте. Всего доброго. Позвоните мне.
Он подхватил свой портфель и пошел ловить такси. А я остался стоять с папкой в руках, и весила эта папка тонну.
Я решил, что от меня не убудет. Подобрал монографию про ацтеков со ступеньки, пихнул ее в рюкзак, а папку понес в руках – в рюкзак она не помещалась.
Я читал рукопись несколько дней. Делал записи, сверялся со справочниками, штудировал попутно писания дотошных немцев того времени или около – путевые заметки, хроники – и находил массу подтверждений тому, что и события, и люди, описанные в рукописи – подлинные. Hegle … из рода Jagare … в начале рукописи наивный шведский сопляк, прибывший на Русь в поисках неизвестно чего, и сразу попавший в такой водоворот событий, что никакие интриги французских, английских и немецких дворов не шли в сравнение … а потом он повзрослел, и начал даже некоторые из этих событий направлять … Сестра Ярослава мне понравилась сразу – не потому, что она была хороша собой и чиста душой, скорее наоборот, а потому, что во мне заговорил романист, оценивший огромные возможности персонажа. «Додумывать можете, а переделывать не надо». Да не шибко то и хотелось мне что-то переделывать – настолько захватывающим оказалось повествование.
На пятый день я закончил чтение и позвонил моему новому знакомому. Он сказал:
– Начинайте писать. Я позвонил в одно московское издательство, они уже ждут.
Ну, раз ждут, то надо писать. И я начал.
Читатель! Нет ничего увлекательнее истории, если не занудствовать, а просто излагать события и передавать диалоги.
Я только успел закончить черновик первого романа, когда мне позвонил потомок Тауберта.
– Присылайте как есть.
– Нужно редактировать.
– Нет, не нужно. Потом будете редактировать.
Он прочел черновик за два дня, позвонил мне, и сказал, что все очень здорово, он в восторге, и отправляет в издательство. Я возразил, но он не стал меня слушать.
В издательстве черновик приняли и опубликовали, изменив в нем одну строчку (в следующей редакции я это изменение убрал). Со вторым романом вышла еще бОльшая спешка. Я был против, но меня не спрашивали – и поместили романы в «серию». Я позвонил толстяку и сказал, что буду редактировать первый и второй романы, там много лишнего, и многого не хватает, а третий в издательство не отдам, если будет все тоже самое, серии всякие. Он заверил меня, что прекрасно меня понимает. И сказал:
– Я ведь вас предупреждал, что это долгосрочный проект. Будем выкручиваться своими силами.
Я написал третий роман, отредактировал, и послал ему. Он прочел. Позвонил и сказал:
– Произошла заминка. Если мои коллеги в университете узнают, что я имею отношение к этим романам, я моментально стану изгоем. К самим романам у них претензий нет. Поскольку это художественная проза, а в художественной прозе можно писать что в голову взбредет. А вот ко мне претензии появятся. Поэтому нам с вами следует поступить так. Мы прекращаем знакомство. Романы эти – ваша собственность. Делайте с ними все, что хотите. Рукопись оставьте у себя – пусть это будет мой подарок вам. Всего доброго.
Вот же сволочь, подумал я с досадой. Немецкой крови в нем мало … Подумаешь – испугался за карьеру. Впрочем, кто бы не испугался. Карьера – вещь удобная.
Что ж! Вот они – эти три уже написанных романа «Русской Тетралогии», в авторской редакции. Если читателям они понравятся – напишу и четвертый.
А теперь – пора переходить к повествованию, как говаривал мой французский коллега во время оно.
Действие первое. Аллегро
Глава первая. Сага о помолвке
Среди норвежцев, как правило, встречается много людей молодых. Возможно именно поэтому молодому норвежцу трудно выделиться из общей массы. Нужны какие-то особые достоинства или приметы.
Конунг Олаф, двадцатилетний, деятельный норвежец, выделялся своими размерами и смелыми идеями по поводу государственной власти, а именно, был он толст и считал, что государственная власть должна принадлежать исключительно ему, желательно во всех известных ему странах.
Вернувшись из похода в Англию, где он со своим войском нагнал страху на бриттов, саксов, и датский контингент, Олаф объявил себя конунгом Норвегии и Дании. Датчане возражали в том смысле, что у них уже имеется свой конунг, от которого житья нету, и совершенно неизвестно, будет ли новый лучше, посему не оставил бы их Олаф в покое? Олаф отложил решение датского вопроса и стал приглядываться к Швеции, настроившись в этом случае действовать более дипломатично. Прибыв в столицу страны Сигтуну со своей дружиной, которая тут же начала все крушить и ввязываться в безобразные драки с местными жителями, Олаф прошествовал в замок к своему соседу и тезке, конунгу Олофу. Шведский конунг глубоко вздохнул, нахмурился, и очень перепугался. Приняв пятнадцать лет назад крещение, он постепенно отошел от военных дел и занялся управлением и реформами, что пошло на пользу стране и ему самому, несмотря на обидное прозвище Собиратель Налогов, данное ему соотечественниками. Другие конунги налогов собирали не меньше, но их военная деятельность отвлекала и развлекала народ, и прозвища воякам давали другие. Воинственный толстый норвежец весело и грозно посмотрел на лидера шведов, годящегося ему в отцы, и заявил нагло, —
– Говорят, конунг, у тебя есть дочь на выданье. А мне необходимо жениться, дабы иметь отдохновения источник, восстанавливающий потраченные в сражениях тяжких силы мои. Вы, шведы, хитрый народ, но знаю я, что рад ты предложению моему в глубине сердца твоего. Зять у тебя будет именитый. Но не след мне удостаивать тебя чести великой, доколе не увижу, какая она, дочь твоя. Где она? Вели ее привести сюда.
Шведский конунг оторопел от этой речи и не нашелся, что сказать. В этот момент в зал вбежала дочь его, пятнадцатилетняя Ингегерд, подпрыгивая и стесняясь. И уставилась на норвежца.
– Ага, – сказал норвежец, любуясь. – Именно. Вот и хорошо. Ну, о приданом мы договоримся. Земли какие-нибудь. Я очень спешу, поэтому свадьбу назначим на завтра, а пока прикажи подать дружине и мне ужин да уложи нас спать в хоромах твоих.
Дочери шведского конунга понравился толстый норвежец. Ей стало его очень жалко. Ей часто было жалко людей, и она любила делать им, людям, приятное, скрашивая их неустроенную жизнь. Толстяку явно не хватало счастья, внимания, и еще много чего.
Шведский Олоф собрался наконец с мыслями.
– Я бы хотел, уважаемый кузен, поговорить с тобою наедине.
Норвежец склонил голову на толстой шее вправо, а левую руку водрузил на эфес широкого бредсверда.
– Что ж. Отойдем.
Они отошли в угол. В тишине слышалось потрескивание дров в камине и погромыхивание свердов и доспехов норвежской охраны.
– Предложение твое, дорогой кузен, меня радует, – дипломатично уведомил Олоф Шведский Олафа Норвежского. – Лестное оно.
– Да, – согласился норвежец.
– Но народ мой чтит традиции, и старые, и новые.
– Я тоже их чту, – сказал норвежец грубо.
– Я это знаю, – живо откликнулся швед. – Именно поэтому я и говорю с тобой. Ты ведь, как и я, христианин?
– Да, – норвежец утвердительно кивнул. – Давеча крестился. Нынче все крещеные.
– Ну так вот, по традиции, принятой у шведских христиан между помолвкой и свадьбой должен пройти время. Год или два.
– Нельзя, – норвежец покачал головой. – Через месяц мне нужно уехать в Италию по делам и пробыть там долго.
– Я и моя дочь терпеливы и готовы ждать.
Олаф задумался. Он не то, чтобы очень уважал традиции, но знал, что их нарушение вызывает недовольство среди собственных его воинов. Воинство всегда консервативно.
– Хорошо. – Он строго посмотрел на конунга шведского. – Завтра будет помолвка. Через год я вернусь, женюсь на ней, и уведу ее с собой, а ты подаришь мне Ладогу.
Шведский конунг побледнел, но ничего не ответил.
– Но смотри, – предупредил норвежец. – Против меня не идти! И не смей в мое отсутствие отдать ее еще за кого-нибудь.
– Что ты, что ты! За кого же я ее отдам? – притворно изумился швед.
– Не знаю. Вон Владимир Киевский недавно овдовел.
– Он слишком стар, – заметил швед. – Франки меня не любят, поляки считают одновременно и своим, и предателем, и кроме тебя, на примете никого нет. Если бы ты не приехал, я бы через месяц-другой отправился бы к тебе сам. И, как я теперь понимаю, не застал бы тебя. Но дай мне слово, дорогой кузен, что в путешествии своем в Италию не будешь ты подвергать жизнь свою опасности, равно как и засматриваться плотски на встречающихся по пути женщин. Мне не нужен развратный зять, и еще меньше нужен зять мертвый.
Норвежец, уловив соль примитивной этой шутки, польстившей его молодому самолюбию, рассмеялся.
– Будь по-твоему! – рявкнул он залихватски. – Так и быть, старый хитрец! Так даже лучше. Предвкушение усиливает дальнейшее хвоеволие, получаемое от брачных утех и детей. Моя дружина пока что отдохнет, и я с нею, а ты позови священника и пусть готовит церковь для завтрашней помолвки. Очень мне нравится дочь твоя, конунг. У других конунгов дочки уродины, а у тебя нет. Чувствуется в ней польская… э… утонченность, как бы. Благородная непосредственность. Худышка она пока что, ну дак скоро раздастся. Они в этом возрасте все худышки. Когда мне было пятнадцать, ты не поверишь, я был как соломинка сухая. А теперь глянь на меня – молодцом! А? Ну вот.
Он дружески хлопнул тезку по плечу.
Отдав соответствующие распоряжения и послав за священником, Олоф Шведский уединился у себя в апартаментах. Он еще раз пожалел, что так долго тянул с постройкой каменного замка. В деревянный наглый норвежец вошел, как в крог, только что не сунул серебряную монету привратнику на пиво. В каменном замке можно было бы запереть ворота и отстреливаться со стен.
Священник, расторопный длинный латинянин, прибыл через час. Он поздравил счастливого отца с важным биографическим событием и заверил его, что к утру в церкви все будет готово, добавив к этим уверениям замысловатую латинскую фразу, объясняющую, зачем все идет именно так, как должно идти. Замечательный язык – латынь, подумал конунг. Поговорки на все случаи жизни. Любое свинство можно оправдать.
Дочь его Ингегерд вскоре явилась, краснющая, заикающаяся, притихшая, и сообщила, что все очень здорово улаживается.
– Дура, – сказал конунг. – Где Хелье?
– Где-то поблизости. Он вчера вернулся из Старой Рощи.
– Найди его и приведи сюда. Живо.
– А после помолвки мы будем… – она запнулась. – Возлежать?
Олоф побагровел.
– Я тебе возлягу! Хорла малолетняя! Кыш! Ищи Хелье!
Хелье был двоюродным братом Ингегерд, на год младше наглого норвежца – ему было девятнадцать. Рос он более или менее на глазах Олофа, но сам по себе. Сам по себе учился чему попало у местных римлян-священников, сам по себе однажды сбежал в Старую Рощу и там, в последнем серьезном лагере викингов, учился диким боевым приемам и пьянству. Родители его, польско-смоленских кровей, махнули на него рукой. К счастью, у них были другие, более почтительные, дети.
Именно Хелье был нужен теперь конунгу. С неприятным удивлением Олоф понял, что ему не на кого больше положиться.
Спрятать дочь возможным не представлялось – норвежцу тут же донесли бы, за медный грошик, а то и вовсе из подобострастия, и по извлечении Ингегерд из укрытия, норвежец, давая волю законному возмущению, сжег бы Сигтуну до тла.
Просить защиты у франков – себе дороже. Поляки – ненадежные, они не любят Олофа. В Италии стоит норвежский контингент. Предложить дочь в жены кому-то из лидеров Второй Римской Империи – вряд ли возьмут. Хайнрих Второй по уши завяз в конфликте с Польшей, ему сейчас не до Скандинавии. Оставался Хольмгард.
В Хольмгарде правил улыбчивый, обаятельный, неженатый Ярислиф, сын и вассал Владимира. То есть, не сам правил, правили за него, но появлялся в нужные моменты, почетным гостем присутствовал в правлении. Люди Ярислифа постоянно пользовались услугами шведского воинства и, наверное, были бы непрочь узаконить военные связи Сигтуны и Хольмгарда. А если норвежцу это не понравится – его дело. За Ярислифом стоит Владимир Киевский. Он не жалует сына, но не потерпит норвежских поползновений на земли своего вассала. Лучше Ярислиф, фатоватый но, очевидно, добрый, чем этот хам и самозванец. Конунг он, видите ли. Топить в пруду таких конунгов надо.
Хелье появился только через два часа. Олоф наорал на Ингегерд, желавшую присутствовать при беседе, и выгнал ее вон из апартаментов, велев ей основательно помыться, а то уже неделю не мылась, гадина. Когда дверь за ней в знак дочернего протеста яростно захлопнулась, конунг оглядел Хелье с ног до головы.
Тощий, среднего роста … хмм … подросток, несмотря на вполне зрелый уже возраст. Лицо частично славянское, скуластое. Глаза большие, серые. Нос прямой, внушительный. Очень светлые, длинные волосы аккуратно расчесаны на пробор. Взгляд туповатый и насмешливый одновременно. Из-под короткого плаща торчит внушительный сверд, правое плечо чуть пригибается под его тяжестью, перевязь явно натерла ключицу. Одет слишком легко для марта месяца.
– А поручу-ка я тебе важное посольство, Хелье, друг мой, – велел конунг строгим голосом. – Сядь.
Хелье сел, грохнув свердом.
– Кузина твоя, Ингегерд, в беду попала, Хелье.
– Я слышал, – отозвался Хелье. – Она говорит, что он ей нравится.
– Говорит она… говорит! Через два года его зарежут его же горлохваты, а заодно и ее!
– Но надо же ей за кого-то выйти замуж, – резонно заметил Хелье.
– Молчи! – крикнул конунг. – Молчи, дурак! Что мне делать, – пожаловался он. – Меня окружают одни дураки. И союзники дураки, и враги тоже дураки. Все эти дураки все время о чем-то договариваются между собой, дерутся, безобразят, мирятся, и все это в обход того, что я им говорю, потому что дурак с дураком договорится скорее, чем с умным. Им даже понимать друг друга не надо. В общем, кроме тебя, Хелье, защитников у Ингегерд нет. Ее нужно выдать замуж за Ярислифа.
– Он старый и глупый, – заметил Хелье.
– С чего ты взял?
– Так говорят.
– Ему тридцать четыре года.
– Старый.
– О его уме ходят легенды.
– За которые он платит, конечно же.
– До чего ты, Хелье, остер на язык стал. Неприятно остер. Что ни слово, то яд горький. В Старой Роще тебя всему этому обучили?
– Не обращай внимания, конунг. Это, говорят, по молодости. Пройдет.
Конунг не выдержал и рассмеялся.
– Слушай меня, мальчик. Ты поедешь в Хольмгард к Ярислифу. Ты скажешь ему, что за Ингегерд он получит в приданое Ладогу. Ты скажешь, что я освобожу всех шведских воинов, ему служащих, от пошлины в мою пользу. Таким образом он сможет меньше им платить. Не он, но его люди, но это все равно. Объяснишь ему, как сумеешь, насчет норвежского хама. Если он тебе откажет…
– Да?
Конунг вздохнул.
– Если откажет, езжай дальше. На Русь. В Каенугард. Владимир недавно овдовел.
– По-моему, это глупо, – заметил Хелье. – Неприлично как-то. Владимиру лет сто двадцать, по меньшей мере.
– Пятьдесят восемь, – сказал Олоф.
– Неприлично.
– Не твое дело. По мне, так лучше он, чем…
– По тебе, конунг, кто угодно лучше. Чем тебе не нравится Олаф? Вояка как вояка.
– Что ты за него вступаешься!
– Я очень хорошо помню, – глаза у Хелье сузились, – как чувствует себя человек, у которого из-под носа увели невесту. Ты был когда-нибудь в таком положении? Не был. А я был. Ах, милый Хелье, – пискнул он фальцетом, передразнивая кого-то, – ты хороший мальчик, но недостаточно знатен и совсем не богат! Кстати, – добавил он с оттенком мстительности, – почему это я не богат? Вот почему? Вот объясни мне. Положим, состоять в родстве со шведским конунгом – это еще не знатность. Но где мое богатство? Где состояние?
– Сам виноват, – заметил конунг.