Ангел Кумус Васина Нина
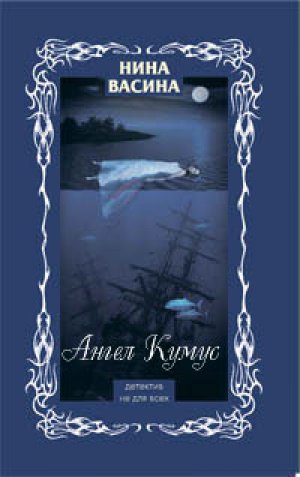
Молодой инспектор криминальной полиции и пожилой неопрятный следователь уныло разглядывали голый торс мужчины. Этот обрубок без головы, рук и ног был обнаружен в мусорном контейнере спального района на окраине Москвы. Сначала тело отвезли в ближайший морг, сотрудники местной милиции составили описание. Они подробно указали все имеющиеся на торсе родинки, седой волосяной покров, слаборазвитость грудных мышц и мышц живота, что указывало на спокойную, без излишних физических усилий жизнь обладателя этого торса, мужчины, приблизительно от шестидесяти до семидесяти лет.
Следователь раз десять подумал, прежде чем решиться и приказать доставить торс ему. Инспектор же настаивал на доставке, горячо призывая следователя осознать очевидное: кто-то раскидывает по городу расчлененку, и это может быть делом рук одного человека.
Следователь устал в который раз объяснять, что руки, найденные ими на днях, принадлежат одной женщине, голова – другой, а тело – старику. Инспектор с неохотой соглашался признать фактор наличия в их профессии совершенно не связанных друг с другом случайностей или закономерностей, но почему-то был точно уверен, что в данном случае эти разрозненные останки людей как-то связаны друг с другом.
Вечером старик позвонил в квартиру, в которой были обнаружены голова и руки. Трубку взял мальчик. Старик попросил встретиться, мальчик согласился на зоопарк. Инспектор доложил, что мальчик сирота, родителей нет, находится на попечении дядюшки, который в данный момент в отъезде и к найденным останкам навряд ли имеет отношение.
– Только не обезьянник! – старик протестующе выставил руки перед собой и остановился, как только у них проверили входные билеты в зоопарк.
– Именно что обезьянник, – настоял мальчик.
Под вопли и визги словно обезумевших обезьян старик пытался говорить, но потом замолчал, уставившись в разделительную сетку и то и дело вытирая лоб платком. Поговорить, похоже, придется разве что у слона. Или у бегемота, хорошо бы он не вылезал подольше из своей вонючей лужи.
– Почему тебе не нравятся обезьяны? – мальчик оторвался взглядом от мелькающих за сеткой темно-коричневых тел и посмотрел на старика.
– Мне кажется, что они – карикатура на людей! – прокричал старик. – Мне становится стыдно, – тут старик отвернулся от занимающегося онанизмом шимпанзе. Слишком резко отвернулся, это привлекло внимание мальчика, он нашел глазами шимпанзе.
– Они действительно были сделаны в насмешку над людьми, – совершенно серьезно заявил подросток и поинтересовался: – Ты – сыщик?
Старик кивнул.
– А ведь тебе не нравится смотреть на них не потому, что они – насмешка. А потому, что в своем естественном поведении зеркально отображенного но карикатурного образа человека, они человека унижают. Своей свободой, раскрепощенностью и наглостью.
– Подумайте, какие сложности! – пожал плечами старик, – Я только знаю, что мне противны обезьяны. Если ты считаешь, что они мне противны как изнанка меня самого, раскрепощенного и наглого, ну что ж, может, и так, – старик взял мальчика за руку и отвел к скамейке. – Никто, – сказал он, с удовольствием усаживаясь и разглядывая гуляющую публику, – не заставит меня смотреть на самого себя, обросшего грязной шерстью и трясущего в возбуждении половым членом. Или мы сидим и разговариваем тут, или, в крайнем случае, идем смотреть на слона.
– Сидим тут и разговариваем, не надо слона, – вздохнул мальчик и поинтересовался: – Вы зачем меня позвали? Вы нашли что-то еще? Постойте, – подросток тронул рукой старика за колено, растянув рот в глупой улыбке узнавания, – вы нашли тело Звездочета?!
Старик вздохнул, выдохнул и решил больше не тратить время на душевные беседы, на выяснение состояния мальчика, проснувшегося в комнате, где скромненько в углу лежат отрубленные руки и голова. Старик безразличным тоном поинтересовался, сколько еще будет продолжаться отсутствие дядюшки – хозяина квартиры – и как зовут врача, у которого мальчик наблюдается? Узнав, что подросток не состоит на учете у психоневролога, старик решил это тут же исправить, достал мобильный телефон и вызвал психологическую санитарную службу прямо в зоопарк.
– Зачем вам это? – заинтересовался мальчик, но желания удрать или возмутиться не проявил.
– Как только мне скажут, что ты психически здоров, я задам тебе все интересующие меня вопросы. С надеждой получить адекватные ответы. А пока у меня такое чувство, что ты малость свихнулся, хоть и не утратил намерения поиздеваться. Трудно мне с тобой говорить, я не умею говорить с детьми. Ну-ка, послушай… Это нас? – старик встал и взял мальчика за руку. По громкоговорителю объявили о приезде «скорой помощи».
– Не имеете права без адвоката, – зевнул мальчик, – я же к вам по-хорошему, я же вас в зоопарк пригласил, а вы!
– Посидишь пару дней в клинике под наблюдением специалистов, ничего страшного. Но если вдруг объявится наконец неуловимый дядюшка, если ты укажешь какого-нибудь близкого родственника, или хорошего знакомого старше двадцати пяти лет, я сразу же…
– У меня никого нет, – перебил его мальчик. – Патологически одинок.
В детском отделении психиатрической клиники был тихий час. Я без сожаления смотрел на недоделанных кукол разного возраста и детей, рожденных невпопад и потерявшихся во времени и пространстве. Они счастливы хотя бы тем, что совершенно не осознают границу между смертью и жизнью, тогда как для взрослых и по здешним понятиям психически здоровых людей, эта граница переживалась весьма болезненно: при смерти кого-либо, окружающие сокрушались и страдали, а во время своего рождения – что практически было одно и то же – орали от страха как резаные.
Ну что ж, я был прав, что пришел искать тело Звездочета в то самое пространство, где нашлись руки не понравившейся мне куклы и голова Аспасии.
– Я мышка, – шепотом сообщил карапуз с непомерно большой и лысой головой.
– Нет, – вздохнул я, – это я мышка. Белая.
Конечно, риск был, но те пару минут, что я скользил по только что вымытому линолеуму розовыми когтистыми лапками, уборщица употребила не на попытку моего истребления, а на непереносимый визг, который был странным для тучного тела с отекшими ногами – как будто орал нечаянно попавший в закрывающуюся дверь котенок. Визг прекратился, когда ее потрогал сзади неслышно подобравшийся большеголовый лысый ребенок. Он спросил с надеждой:
– Я тоже мышка?
Внизу в отделении для взрослых были отдельные комнаты для буйных с обшитыми стенами и полом, палаты, где люди лежали привязанные крепко за руки и ноги и большая игровая комната, в которой проводили время самые спокойные и благонадежные. Я осмотрелся, надеясь в этом скопище заблудившихся во времени и пространстве людей обнаружить что-нибудь интересное, и сразу же узнал художника.
Он стоял, расставив ноги, и энергично двигал рукой с судорожно сведенными в захвате невидимой кисти пальцами перед невидимым ни для кого, кроме него, мольбертом.
– Художник, – я подошел и поклонился.
Мгновенный взгляд-бросок в мою сторону:
– Ты меня знаешь?
– Да, Художник.
– Краски ни к черту, ни к черту! Ты мой служка? Ты рассыльный из лавки? Мне обещали свежие яйца, говорят, у этой торговки яйца с ярким желтком. А, может быть, ты посланник? – рука дернувшись, бросает невидимую кисть и цепко хватает меня за больничную рубаху: – Скажи Кукольнику, что я умер. Я умер! Нищий и больной. По дороге в Рим. Так и скажи, я не дошел до Рима, а натурщица бросила меня еще раньше. Просто исчезла и все. У меня все украли, ты не знал? Мой служка или натурщица указали на тайники. Все вынесли, все, – его изможденное лицо сморщилось, нагоняя слезы, но слезы не пришли. – Ты знаешь, кто я?!
Я оторвал от себя сильную руку, развернул ее вверх ладонью, посмотрел на переплетение звездных нитей и опять чуть поклонился.
– Ты Караваджо. Зачем ты понадобился Кукольнику?
– Он ищет женщину. Он хотел забрать мою натурщицу, а я заколол его шпагой. Испанский король обещал защиту, я бежал из Рима.
– Ты заколол Кукольника шпагой?
– Я очень вспыльчив. Ничего не могу поделать, – старик вдруг сел на пол и поманил меня пальцем к себе: – Но он ее не нашел! Один мальтийский рыцарь отрекся от всего сущего, когда увидел мою «Смерть девы Марии»!
– Она умерла? – спросил я шепотом и тут же понял, что сморозил глупость.
– Да нет же, придурок, это картина такая, я нарисовал картину с натуры, как она может умереть!! На Мальте мне было хорошо, – старик вздохнул, – пока меня не посадили в тюрьму. Ерунда, проткнул одного высокомерного мальтийца, но у них с этим строго.
– Я хочу видеть эту картину, – я встал и протянул ему руку.
– Бежал в Неаполь, просил о помиловании, – старик с трудом поднялся и гордым жестом забросил через плечо край невидимой одежды. – Меня опять бросили в тюрьму, судьба отвернулась, я видел только ее костлявый зад. Будь все проклято! Столько раз уходить от возмездия и оказаться ложно обвиненным, ну как тут не поверить в торжество высшего разума! Куда ты меня ведешь?
– Мы вернемся обратно. Я буду растирать тебе краски.
– Мальчик, ты что тут делаешь? – санитар с опухшим лицом вглядывался в меня. Тошнотворно пахнуло переработанным высоко-градусным напитком.
– Ничего, – отвернул я лицо, – я сейчас выпал из периодов, чтобы найти Караваджо.
– Пошел прочь, это мой служка! – старик вздернул голову и старался смотреть на санитара сверху. – Ты стражник? Где твое копье?
Я показал санитару мордочку подскального осьминога в тот момент, когда он нацеливается ртом на добычу. Санитар отшатнулся, бессмысленно тараща глаза, и быстро ушел.
– Куда мы вернемся? – Караваджо оперся о мое плечо и осмотрелся. – Я ведь сын простого каменщика, потом слуга, потом рисовальщик фруктов на картинах мастеров. Но я же и первый в вещественном реалисе!
– Мы вернемся в тысячу пятьсот девяностый год.
– Тысячу… пять…ностый, – бормочет старик, рука на моем плече тяжелеет. – Ради всего святого, почему именно туда?!
– Потому что это семьсот девяносто пять умноженное на два. А в семьсот девяносто пятом году я уже мою женщину видел. Она отлично выдумывала сказки. Звезды выстроятся в одну линию. Я опять ее увижу. Не останавливайся, старик. Только не останавливайся.
– Я не пойду, – Караваджо оседает у стены. Торчат, чуть прикрытые больничным балахоном острые коленки. – Я опять убью Кукольника и судьба моя будет проклята! Куда… Куда я хочу? Я не хочу приносить уголь и выносить помои, не хочу рисовать фрукты и бегать по приказам…Отведи меня туда, где я совсем ничего не помню, где я маленький и не понимаю, зачем живу…
– Ты не можешь убить Кукольника. Вставай. Идем же. Откуда ты вообще знаешь это имя?
– Он сказал. Когда я отказался показать ему девушку, изображенную «Амуром-победителем», он закричал: «Ты знаешь, с кем разговариваешь?! С самим Кукольником!» А мне что? Я спросил, знает ли он, с кем разговаривает?! Я не пойду с тобой. Мне нужно закончить здесь картину. Я допишу «Лютниста». Я все картины делал с нее. «Вакх» – тоже она. Если бы я не стал делать «Смерть девы…», может, я бы не накликал на себя несчастья. Вот тебе золотой, мальчик. Принеси вина. – Караваджо уронил голову на скрещенные руки и затих.
Я сел рядом на пол. Толкнул его плечом.
– Если ты не пойдешь со мной, ты останешься здесь. В этом самом месте, куда тебя засунул Кукольник. Ты умер по пути в Рим, но остался старым. Ты сейчас в том возрасте, в котором умер. Это значит, что Кукольник очень на тебя обижен и зол.
– Конечно, зол! Я два раза проткнул его шпагой! – Караваджо поднял голову и вздернул вверх подбородок.
– Пойдем со мной. Вернемся туда. Даже самая незначительная деталь может иметь важные последствия. Мы что-нибудь изменим. Иначе ты останешься в вечности старым, как Звездочет. Ты второй такой человек, награжденный злобой Кукольника. Ты не будешь собакой, птицей, другим человеком, куклой, цветком или овощем, ты будешь только стариком, умершим по дороге в Рим.
– Не пойду. И я не хочу быть собакой или овощем. Оставь меня. Раз уж так получилось, пусть я останусь таким. Хоть какое-то спокойствие. Больше ничего не случится, и шпагу мне уже не удержать.
– Сколько дней ты здесь? – я вгляделся в близкое изможденное лицо. В коричневые наплывы морщин и пронзительные глаза.
– Нисколько. Солнце еще не садилось.
– Значит, на рассвете ты опять умрешь. Нищий и больной. Каждый рассвет будет одинаковым. Ты то, что люди в этом времени называют привидением. Через несколько рассветов ты обезумеешь и будешь умолять, просить нормальной смерти.
– Кто ты… такой?! = выдохнул старик. – Что тебе от меня надо?
– Ничего. Мне нужна твоя натурщица.
– Ах ты, щенок! – Караваджо замахнулся, вставая.
Я убегал сначала медленно, оглядываясь, потом, когда убедился, что гнев его неукротим, быстрее и быстрее, в расщелину между малахитовым свечением холода и оранжевым пологом огня.
Она была беспокойной натурщицей. Она ловила солнечных зайчиков, почесывалась, хихикала, просила есть, пить и выйти по нужде в тот момент, когда глаза Караваджо теряли земное притяжение и он переставал понимать что-либо, завороженный ее образом, украденным кистью и проявившимся на холсте. Вечерами мы сидели втроем у огня и молчали, и не было у меня раньше никогда, и я знаю, что никогда уже не будет таких вечеров, хотя, как я смею провоцировать самого себя?! В любой момент, как только я разочаруюсь чучелом в кабинете мужа Нинон Ланкло, я могу тут же броситься в эти вечера, в их тепло и негу, в миндалевидные глаза девушки, в разбавленное вино, в тихое содрогание времени у меня на коленях – это мурлычет кошка. Я просто смотрел, она молчала, Караваджо, обессилев, грелся у огня и пил вино, кошка дрожала внутренностями, и ее шерсть пахла свежим сеном. Потом девушка брала лютню, смешно, но «Лютнист» не умел толком играть, она перебирала струны и смеялась, и на лице художника появлялось узнавание, и он возвращался к нам из воронки вдохновения или забытья. И мне ничего от нее не было нужно, как и от сказочницы, я просто не хотел, чтобы Кукольник нашел мою женщину. Потому что она была моя. Я ни разу к ней не прикоснулся, не задел крылом, не потерся усатой мордой молодого тигра, не ткнулся влажными ноздрями коня, не пощекотал холодным телом змеи ее ноги, когда она болтала ими в ручье.
– Ты меня больше не любишь? – спросила она на рассвете, когда измученный большими надеждами и видениями художник заснул. – Помнишь? – она раскрыла ладонь и дунула на невидимое перышко. Я, как последний дурак, захотел объяснить:
– Однажды я спросил у Кукольника, что такое любовь…
– Убей Кукольника! – она схватила меня за руку и трясла ее, приблизив к моему лицо свое – вплотную.
– Он сказал…
– К черту Кукольника! К черту твои подсчеты! Ты уже наметил, когда мне в следующий раз нужно будет сидеть примерной кукушкой и ждать, пока ты залетишь в окно?
Тысяча пятьсот девяностый плюс семьсот девяносто пять… Я вздохнул. Это будет уже в третьем тысячелетии.
– Так вот, – девушка разозлилась, бросила мою руку, скулы ее полыхнули гневом, а под глазами и треугольником вокруг рта бледнела печаль. – Ни тебе, ни Кукольнику так просто меня не найти! Я уйду, когда захочу, и приду, когда захочу!
– Бред! – мне оставалось только пожать плечами и улыбнуться.
– Всемогущая парочка, да?! Ничего у вас не выйдет.
В этот момент мне почудился – легким движением ветра в листьях деревьев, странным звуком в полной тишине – раздраженный вздох Кукольника, и как он грозит ей пальцем, прищурясь: «Не шали, куколка моя!»
– Я вижу и знаю все, что существует. Тебе не спрятаться! – главное, разговаривать спокойно, но ее настойчивость стала раздражать.
– Будешь любить меня в мастерской художника? – девушка опять приблизила свое лицо к моему, я услышал на веках ее дыхание.
– Любить?! Лучше я покажу тебе казнь…
– Да не надо этого, не надо! Зайди в любой раскрашенный позолотой и иконами балаган, и увидишь, как наскоро вылепленный или выструганный из дерева казненный висит, прибитый к деревянному кресту и капает сладостными каплями крови в резные чаши, подставленные именно для такого случая! А тряпка, в которую его завернули, снятого! Знаешь, сколько она теперь стоит?! – она кричала и размахивала руками, совсем рядом, можно тронуть и вдохнуть, но почему она кажется плоской, как мираж за дрожащей пеленой расплавленного жарой воздуха? – А уж сколько работы подвалило художникам, когда можно стало святых рисовать с людей! Сколько портретов твоей предполагаемой избранницы висит по свету, знаешь? Сколько мамаш показывают миру толстых сосущих младенцев с полотен, сколько пылится статуями?! Ты развернул неплохую рекламную компанию, возлюбленный мой! Только ведь и Кукольник не спал! Он унизил твоего сына желанием попрать смерть!
– Что… Что ты сказала?! – закричал я сквозь яростный шум взлетевшего остроносого авиа-такси.
– Твой сын не просто так пошел на крест. Он попросил одного человека предать его. Ну и кто из них двоих после этого достоин поклонения? Тот, кто умер в мучениях плоти, или другой, не вынесших душевных страданий от предательства, на которое его обрек собственный учитель?!
– Ученик моего сына?.. Предательство? Кто?! – я неистово топнул ногой.
Мир содрогнулся, потом наступила полная тишина. Время остановилось. Слова моей избранницы шли ко мне через линзу столбняка – увеличительное стекло для микроскопических мгновений прошлого и будущего.
– Кукольник подослал своего человека. Его звали Иуда. Он так преданно и беззаветно любил твоего сына – своего учителя, что согласился на его просьбу предать. Получается, что твой сын вошел в свои страдания не единолично, а через страдания своего ученика.
– Что… с ним? – прошептал я, и выдох застыл испариной на линзе.
– Повес-с-сился… – шепот испарины незаметно исчез. С ним и линза расплылась. Говорившая со мной девушка дрожала как мираж в мареве горячего дыхания пустыни и становилась прозрачной.
– В этом времени люди разделись на два лагеря. Половина поклоняется Иуде. А может, это того стоит – поклоняться самопожертвованию униженного и проклятого подлеца – как тебе такая идеология? Не ищи меня. Мне не нравится, как вы с Кукольником делите мир и играете судьбами людей. Так что, не трать время зря, мальчик, иди отдыхать, ловить бабочек и отрывать руки статуям.
Я, обомлев, оглянулся. В огромном здании аэровокзала по всему периметру светились мониторы видеосвязи: желающие могли пообщаться с родными перед дальней дорогой.
– Вернись сейчас же обратно! – я стукнул кулаком по ладони, – Немедленно вернись, мы должны быть рядом, когда Караваджо проснется!
– Ты, наверное, сейчас топчешься от злости на месте и кулаками размахиваешь? – ее лицо на экране было размыто, но на лбу – металлическая полоска с орнаментом, такая же, как у разговаривающих рядом женщин, и в ноздре цветок! – Не сердись, мой хороший, я не могу сидеть кукушкой и ждать, кто из вас первый найдет меня! – я вдруг понял, что она меня не слышит, что связь односторонняя, и как в тяжелой воде, медленно, еле двигая рукой, нажал «выход» и вытащил блестящий кружок диска. Экран погас.
Она не слышала меня. Я просто читал письмо. Неизвестно кем и когда отправленное. Непонятно кем вставленное в видеотелефон.
– Какой сегодня год? – бросился я к первому же человеку, он отшатнулся, я опустил глаза и замер. Такое со мной произошло впервые. Я стоял во времени, не приспособившись к нему: из-под складок моего платья выступали не очень чистые колени и ноги в кожаных сандалиях, обвязанных веревками вокруг щиколоток. Впервые я шагнул в другое пространство и время, даже не подумав об этом, словно чихнул.
Я нащупал сзади себя пластиковый стул, опустился на него, и стул обхватил мой зад упругой массой приспосабливающейся мебели. На огромном табло высвечивалось время, день недели – среда, и год – 2385. Семьсот девяносто пять на три. Я встал. Я осмотрелся. В здании аэропорта царила паника. Тошнотно завывали сирены. От секундного содрогания земли на взлетных полосах образовались глубокие трещины. Я запустил в зал маленький плоский кружок диска, и он взлетел, сверкая и дробя собой направленный свет невидимых ламп. Я был одинок, так одинок, как никогда еще. Потому что в этом году ее не было. Это точно. Это я чувствовал остро и страшно, как потерявшаяся собака. Не было здесь и Кукольника. Я еще раз осмотрел сандалии. Что художник сделает с моей женщиной в своем времени? Если вернусь туда, смогу ли поймать губами хоть кончики ее пальцев – реально?
Сын каменщика дрался на шпагах яростно и лихо. Я огляделся. Я осмотрел дом, каким-то образом за время моего отсутствия совершенно разоренный, с раскиданной мебелью и перебитой посудой, потом пристроенный винный погреб. Ее уже не было. Только что мы разговаривали, стоя вот здесь под деревом, когда небо началось розоветь рассветом. И как только Караваджо угораздило проснуться и затеять драку? Я так устал, что мелькание клинков множилось перед глазами и сверкало вдруг распахнувшимся веером.
– Убей его, Караваджо, – прошептал я, – убей Кукольника…
– Это не Кукольник! – крикнул художник, не отрываясь от драки, он перемещался по небольшому дворику гигантским кузнечиком, поднявшимся на задних лапах, – Это продажный поэт, а второй! – Караваджо пошел наскоками, подталкивая к себе землю выбросами правой ноги, – Это стражник, шпион и доносчик!
Через несколько минут все было кончено. Совершенно взмокший Караваджо, тяжело дыша, разглядывал поверженных соперников. Шпион и доносчик был еще жив, Караваджо раздумывал, не заколоть ли его окончательно. Я помог оттащить тела в тень, мы заперли все двери на засовы, и утро определилось жарой и криками птиц. Раздевшись наголо, художник стоял во дворике у колодца и выливал на себя воду ведрами, смывая чужую кровь и свою – с многочисленных порезов и небольших ран.
– Она ушла, – сказал я между двумя ведрами.
– Она умерла, – сказал Караваджо, застыв мокрым анатомическим пособием в солнечном свете. – Поэт написал похабные стишки про меня и моего мальчика-натурщика. А стражник донес, что я рисую смерть Девы, и позирует мне юноша, с которого я писал Вакха. Пока тебя не было, еще затемно пришла толпа и растерзала мою натурщицу.
– Какой юноша? – я ничего не понял. – Ведь тебе позировала девушка?
– Не просто девушка… Это была сама жизнь! – художник завернулся в простыню сомнительной чистоты и подошел ко мне, оставляя на плитах двора мокрые следы, я в оцепенении смотрел, как эти следы исчезают на солнце, словно за художником шел призрак. – Я надевал ей на голову тюрбан, или венок из фруктов, утром – девушка, вечером – юноша, она была моим Вакхом и Лютнистом, а для соседей – просто служанкой. Сейчас ведь не принято брать в натурщицы простолюдинок, сейчас за счастье писать женщину, платят гетерам! У меня не было денег сначала, – Караваджо стоял передо мной, закрыв собой солнце, я заслонился рукой от нимба вокруг его косматой мокрой головы. – А потом… Ты видел ее, скажи, смог бы я найти кого трепетней и прекрасней!
– Никого, – я опустил голову.
– Помоги мне одеться в торжественное платье, – Караваджо пошел в дом, не дожидаясь моего согласия, ни в голосе его, ни в движениях не было горя, только озабоченность, словно предстояло важное дело.
Он поинтересовался, пойду ли я с ним в театр мертвецов? Я кивнул, не задумываясь, мне было все равно, что он имеет в виду. Плохо понимая, что делаю, я помог загрузить два мертвых тела на тележку, мы отвезли эту тележку к магистрату и вывалили поэта и стражника перед ступенями, у которых уже сидели ранние просители.
Потом мы пошли в театр мертвецов, так Караваджо называл анатомический зал, куда врачи и художники отбирали некоторые невостребованные тела для исследований. Я так устал, что не мог ничему удивляться, но бледный молодой художник, рисующий наряженное в дорогие одежды тело мертвой старухи, усаженное в кресло с закрепителями для головы, привел меня в исступленное состояние тоски. Мы осмотрели все женские тела, я осматривал мертвецов, когда Караваджо не мог подойти близко из-за удушья разложения, и качал головой – не она. Ее здесь не было. Пришлось идти в монастырскую больницу и осматривать все опознанные тела, а Караваджо при этом нес под мышками по мертвой мужской ноге, он выловил их в чане театра, но моя усталость сделала меня совершенно не любопытным. Мне было все равно, куда и зачем он тащит эти ноги, отделенные от туловища у самых тазобедренных суставов. И за нами увязалась толпа, сначала это было несколько человек, они перешептывались, потом толпа обросла бездельниками и искателями шумных скандалов, уже платья простолюдинов мелькали вперемешку с дорогими одеждами зажиточных граждан. Караваджо, в бархатном камзоле с широкими, в складку рукавами, не очень чистых чулках, но довольно новых туфлях с богатыми пряжками, подметая камни мостовой тяжелым плащом, молча тащил ноги мертвеца и гордо смотрел перед собой, вздернув голову над пышным белым воротником.
– Это твой натурщик, Караваджо?! – кричали в толпе, – Какой хорошенький! Еще один? Он же совсем мальчик, ты сгоришь в аду, Караваджо!
Полетели камни. Мы побежали, и художник не мог закрыть руками голову, потому что тащил под мышками мужские ноги. Ему камень попал в голову, а мне в плечо. Я остановился и выставил перед собой руки. Толпа замерла. Прищурившись, я посмотрел на небо и закрыл пальцем солнце. Мгновенно наступила тьма. Люди закричали и побежали в разные стороны, падая и давя друг друга. Караваджо, открыв рот, смотрел в дыру на небе, куда провалился солнечный диск, оставивший после себя неяркую подсветку по кругу. По его виску стекала кровь, капая на пышный воротник. Он бросил ноги мертвеца и с удивлением протянул руки к небу, словно хотел потрогать дыру и не понимал, почему не достает до нее. Я схватил его за руку и потащил, спотыкающегося за собой. Мы сели у дверей какого-то храма и смотрели, как солнце выползает из-за черного круга сначала тонким ярким полукругом, потом смотреть стало невозможно.
– Солнце вернулось? – недоумевал Караваджо. – Как ты это сделал?
– Я ничего не делал. Это было затмение. Своего рода траур по твоей и моей возлюбленной.
– А что закрыло солнце?
– Тень луны.
– Но я же видел! – Караваджо смотрел на меня с удивлением и досадой, – Ты ткнул пальцем! Ты что-то сделал!
– Так бывает, – я замялся, – когда моя печаль сильнее любви ко всему живому.
Мы помолчали.
– Я потерял ноги мертвеца, – развел руками Караваджо, повернувшись в сторону возбужденно орущих на площади людей, тычущих пальцами в небо.
– Зачем тебе, ради всего живого, эти ноги?!
– Я нес их соседу гончару. Гончар безногий. Он давно просил меня сделать ему деревянные ноги, но чтобы они были красивые. Таких красивых мужских ног я не видел никогда. Уверен, они бы ему понравились, но все равно надо было показать. И сделать эскизы.
Я почувствовал, что по моему лицу текут слезы.
– Не плачь, мальчик, – вздохнул Караваджо. – Может, это и к лучшему, я еще не продумал толком крепления. Откуда ты пришел? Кто твои родители?
– Я пришел ниоткуда, – ответил я, и это была сущая правда.
– Но ты знаешь мою натурщицу. Знал…Пойдешь со мной ночью в больницу?
– Зачем?
– Если найду, я вынесу ее оттуда, отмою, одену, посажу у себя в мастерской. Они хотели картину, будет им «Смерть Девы Марии!» И не будет Девы мертвей и прекрасней ее.
– Нет, Караваджо. У меня дела. Я не пойду с тобой в больницу.
Я представил себе, как ночью он потащит по городу мертвое тело под мышкой, посадит у себя в мастерской… А вдруг я попался?..
– Что ты сделаешь потом, когда нарисуешь? – я напряженно вгляделся в художника, его уже засосала воронка воображения, он был не со мной, но ответил, не задумываясь:
– Отнесу обратно. Оплачу похороны. Вырежу камень на могилу.
– Ты ведь не оставишь ее возле себя надолго? Не захочешь иметь ее тело всегда?
– Нет. Ее тело заслуживает дорогих похорон.
– Как хорошо, – вздохнул я с облегчением.
– Что тут хорошего? – возмутился Караваджо.
– Хорошо, что ты – не Кукольник.
– Я известен. Я богат. И я должен бежать, бросив свой дом и мастерскую. Только потому, что убил в честном бою на дуэли негодяя с мерзавцем! Тут еще подумаешь, кем бы мне стоило быть!
– Прощай, художник, – я взял его за руку, и сильные пальцы сжали мое запястье. – Узнай меня, пожалуйста, если еще раз встретимся.
В два часа ночи звонок телефона разбудил следователя. Он встал, пошатываясь и соображая, как получилось, что телефона нет под рукой, но потом понял, что заснул не в кровати. Мертвецки пьяный, он заснул около полуночи в кресле перед включенным телевизором. Следователь взял трубку, уставившись на экран, на многоцветный праздник ночного эротического канала. Под лирическую музыку и приличную, без излишеств, легкую эротику, ему сообщили, что на крыше детского сада обнаружены две человеческие ноги. По размерам и степени волосатости, предположительно, ноги принадлежали мужчине. На крыше также находился и сторож детского сада. Задержан. За следователем отправлена машина, районное отделение криминальной полиции предупреждено о деле, которое ведет следователь, поэтому на крыше поставлено оцепление, улики никто не трогал, ждут его.
– А какое дело я веду?
– О маньяке, расчленяющем свои жертвы.
– Еще вопрос, пожалуйста, я не понял, где поставлено оцепление?
– Вокруг детского сада, и несколько человек на крыше.
Пошатывающийся следователь спустился по лестнице и вышел из подъезда, все еще плохо соображая. В машине он погрозил кому-то невидимому указательным пальцем и пробормотал:
– Или пятница, или суббота…
– Простите? – шофер нашел его глазами в зеркале. Следователь сидел, обмякнув, на заднем сидении.
– Сегодня может быть только пятница, или суббота. Эротический канал бывает в эти дни по ночам.
– Я тоже смотрю, если получается, – улыбнулся шофер.
Во дворе детского сада следователь грустно посмотрел на крышу, на бодрых спецназовцев у входа в здание, на металлическую лестницу вверх по стене, вздохнул и попросил спустить ноги вниз. Спускали ноги в пластиковом мешке.
– Посмотрите? – офицер оцепления удивился, что следователь не осмотрел крышу.
– Нет. Что на них смотреть? Пусть везут в морг специзолятора. Почему позвонили мне?
– Не понял?
– Почему вызвали меня, а не дежурного инспектора?
– Дежурный инспектор на крыше. Он сразу потребовал вас. Он и оцепление приказал сделать.
С плоской крыши двухэтажного здания махал рукой инспектор. Следователь ругнулся лениво, про себя. Теперь на всю Москву разойдутся слухи про расчлененку. По наружной лестнице вниз спускался инспектор.
– А вы зря не захотели осмотреть место происшествия!
Он был нестерпимо бодр, весел и разговорчив!
– Я немедленно приказал обзвонить все морги, не пропадал ли там анатомический материал, понимаете, я вечером подумал, вдруг, это студенты-медики шалят. Материал не пропадал, но и заявок на пропавших без вести в ближайшие дни молодых женщин и старика тоже не поступало. То есть, на старика было заявление, но по описанию это был тучный старик, а у нас тело сухое, неоткормленое. А что касается молодых женщин, то за последние пять суток по Москве пропало четверо, но описание головы не подходит ни одной из них, и руки другой, как выяснилось, тоже не от пропавших, у пропавших брюнеток были отличительные особенности, поэтому…
– Где сторож?
– Сторож? Сторож… А, конечно, сторож! Он находится в помещении детского сада. С него были сняты показания, вот, пожалуйста. Три листа.
– Три листа? – удивился следователь, сдерживая зевок.
– Я же говорю, вы зря не поднялись на крышу, потому что там кроме мужских ног находилось еще тело мертвой козы, и полно крови.
Следователь проснулся и протрезвел одновременно. Он огляделся и несколько раз прочел адрес на здании детского сада. Синий прямоугольник, подсвеченный изнутри. Улица и номер дома. Следователь кивнул, словно угадал, развернул инспектора лицом к стоящему рядом дому.
– Видите этот дом? Здесь живет подросток, в квартире которого были обнаружены голова и руки.
– Потрясающе, – пробормотал инспектор, – ночь, понимаете, темно, я не узнал это место.
– Я тоже не узнал, но я помню улицу и номер дома. Значит, коза, говорите, и три листа показаний?
– Так точно, три листа! Я сделал фотоснимки, кровь с крыши взята на анализ, верхняя одежда сторожа тоже взята на анализ, его отпечатки пальцев сняты, и он предупрежден об ответственности за дачу ложных показаний. На основании этих показаний я приказал сторожа задержать за хулиганство во время исполнения служебных обязанностей.
– Я ничего не понимаю, – сознался следователь. – Какое хулиганство?
– Вот, прочтите! – инспектор потрясал листками. – Я не отвез его немедленно в отделение, потому что вы должны были вот-вот подъехать.
– А где мальчик?
– Разрешите доложить, никакого мальчика ни в здании, ни на крыше не было. В наличии имелись только отсоединенные от тела ноги мужчины, сторож и зарезанная коза.
– Зарезанная коза?
– Так точно. Горло перерезано.
Старик пожалел, что не полез на крышу. Но сейчас это уже было глупо: в мешке спускали вниз тело козы.
– Мне нужно знать немедленно, как себя чувствует мальчик, которого я вчера отправил в психиатрическую клинику для наблюдения. Еще, будьте добры, возьмите у сторожа нож, или орудие, которым…
Жестом фокусника инспектор выдернул откуда-то из-за спины пакет с окровавленным кухонным ножом. Но это было не все. Захлебываясь от волнения, он сообщил, что подросток, в квартире которого были обнаружены женская голова и руки, отправленный для наблюдения в психиатрическую клинику, из этой клиники сбежал почти сразу и в настоящий момент находится в розыске.
Старик думал несколько минут, покачиваясь с пятки на носок, потом поинтересовался, не пропадал ли кто еще в это же время из психушки, и с удовольствием отметил, как выражение самодовольства на лице инспектора сменилось растерянностью. Старик протянул ему свой сотовый телефон.
– Работайте, коллега, – кивнул он и пошел смотреть на сторожа.
Он вошел в здание. К этому времени подъехала заведующая – молодая женщина с выражением ужаса и отчаяния на лице. Женщина открыла свой кабинет, и сторожа привели туда. Следователь сел напротив всколоченного немолодого мужчины в клетчатой рубахе и трусах – его брюки и куртку забрали на обследование. Заведующая суетливо набросила на сторожа халат. Следователь начал читать показания, иногда поднимая голову и утыкаясь взглядом в выставленные в полках шкафа детские игрушки – наряженные куклы, резиновые пищалки, мохнатые зайцы и мишки.
– Нож вы взяли на кухне, – подвел итог следователь через двадцать пять минут. Он прочел листки трижды. – Козу принесли с собой, а ноги уже лежали на крыше, вы их увидели, когда зарезали козу.
Даже полностью расслабившись и уговаривая себя подойти к написанному максимально отстраненно, следователь ничего больше выудить из этих показаний не смог.
– Почему вы решили резать козу именно на крыше?
Мужчина посмотрел на него с удивлением:
– А где же ее резать? Не в песочнице же. И во дворе просто так не пристроишься, обязательно найдется какой-нибудь любитель ночного выгула собак! Я все чисто сделал и таз принес, я бы все убрал, если бы небо не отказалось принять жертву!
Отказ неба принять в жертву зарезанную сторожем козу выглядел так: на небе зажегся огонь и послышался адский голос, требующий немедленно сложить оружие и поднять руки вверх. Следователь уже знал, что старика с ножом в руке возле окровавленной козы на крыше засек патрульный вертолет. Осветив крышу, патруль обнаружил недалеко от старика с козой две человеческие ноги.
– Милейший, – склонился к мужчине следователь, – а зачем вы резали козу? В жертву кому, или ради чего?
Мужчина спокойно и доходчиво объяснил, что козу нужно было непременно зарезать, чтобы ему не стать привидением.
– Почему же вы думаете, что станете привидением? – шепотом спросил следователь.
– Я умер по дороге в Рим, – заявил мужчина, подумал и добавил: – Дважды. Это утомительно.
– Значит, вы умерли по дороге в Рим, а как же тогда оказались здесь, в детском саду?
– Я здесь работаю сторожем.
Коротко и ясно. Следователь пожал плечами. У окна на стуле плакала заведующая, зажимая рот платком. Следователь подошел к ней и тихо потрепал за вздрагивающее плечо:
– Покажите мне документы вашего сторожа.
– Это все ерунда, – усмехнулся мужчина. – Эти ваши документы – ерунда. Спросите меня, кто я!
– Кто вы? – спросил следователь.
– Я великий мастер реалиса Микеланджело из Караваджо!
Заведующая потянула следователя за рукав, он склонился к ней, она по детски обхватила его за шею и зашептала, горячо и мокро, щекоча волосами щеку. Потом заплакала еще горше, отвернувшись к окну.
Следователь выпрямился. Он смотрел на мужчину почти с восторгом. Он только что узнал, что несколько дней назад сторож детского сада был помещен в психиатрическую клинику для излечения. Раздвоение личности. Объявление о вакансии сторожа висит на стене, а прошел он ночью в детский сад, вероятно, имея собственные ключи.
– Позвольте только одни вопрос, мастер. Чьи это ноги лежали на крыше?
– Понятия не имею. Они удивительно пропорциональны. Поэтому я и взял их с собой, чтобы сделать дома эскиз.
– Эскиз?
– Для деревянных ног горшечнику.






