Ангел Кумус Васина Нина
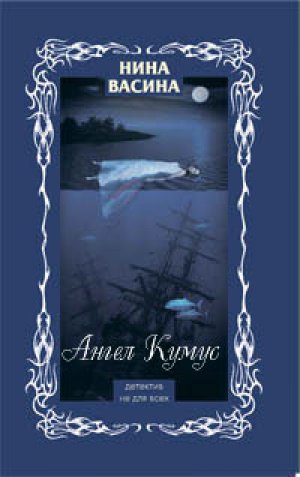
– А где вы их взяли?
– В театре мертвых. Кого-то из неузнанных, вероятно, разделали для исследований. Столько шума из-за ног? Нашелся хозяин? Скажите ему, что их уже не пришить. Ткани отмерли. Хотя мастер Фрибалиус, к примеру, целый год сшивал части мертвецов в одно тело в надежде оживить. У него был секрет, как эти части сохранить от гниения.
– Где этот ваш мастер, – возбудился следователь, – где?!
– Умер он в Генуе в прошлом году, – удивленно посмотрел на него сторож. – Уж не хотите ли вы связаться с самим Кукольником? Он кого хочешь оживит.
Следователь резко выпрямился. Он вспомнил, как мальчик в квартире назвал его Кукольником.
– Где мальчик? – спросил следователь шепотом, почти не надеясь на ответ.
– А-а-а, мальчик… – вдруг ласково улыбнулся сторож. – Везде. Он – везде.
Сторожа увезли на «скорой», как раз когда возбужденно-радостный инспектор прибежал доложить следователю, кто еще сбежал из психушки в то же время, что и мальчик. Следователь отстранил его рукой: инспектор мешал смотреть в окно. Следователю показалось, что в окне квартиры мальчика горит свет. Но и это разъяснилось: как только узнали о побеге мальчика, в квартиру посадили человека.
– Потрясающе, – развел руками следователь. – И этот человек, эта засада, жжет свет в три часа ночи?!
– Недоработка, примем меры, – тут же согласился инспектор.
Он отправился разбираться с человеком в квартире. Следователь прошелся по коридору, осматривая сквозь застекленные двери ровные ряды маленьких кроваток и словно игрушечные столики и стулья. Вышел на улицу. Медленно перебрал в памяти события последних дней, прислушиваясь к интуиции. Интуиция подсказывала ему, что он что-то упустил. Свет в окне квартиры мальчика погас. Через несколько минут подбежал деловой инспектор. Следователь спросил, где вещественное доказательство, которое патологоанатом извлек изо рта мертвой головы женщины? Впервые на его памяти инспектор не сразу нашел слова.
И вот, в четвертом часу ночи, во дворе детского сада, на крыше которого сторож зарезал козу в жертву, следователь, затаив дыхание, слушал, как вещественное доказательство изо рта мертвой головы, оказавшееся личинкой, превратилось в бабочку и улетело на глазах трех мужчин. В какое-то мгновение следователь вдруг почувствовал свою принадлежность к чему-то настолько огромному и непонятному, что его мозг отказывался охватить или проанализировать.
– Вы сами-то слышите, что говорите? – решил хоть как-то ухватиться за реальность следователь. – Это же бред.
– Но я это видел! – упорствовал инспектор. – Правда, в протоколе написано было куколка, понимаете, а не личинка, но личинку бабочки тоже можно назвать куколкой. И сантиметры не совпали, но все так и было! Если вы намереваетесь объявить взыскание за утерю вещественного доказательства, подумайте, как бы это выглядело! – инспектор обвел руками пространство темного двора с песочницами и беседками, и следователь тут же, словно у него в голове включили телевизор, отчетливо и с подробностями увидел зал суда – предварительное слушание. И себя – в костюме и темно-синей рубашке, но почему-то без галстука, предъявляющего суду прозрачный пакет с огромной бабочкой. Он тряхнул головой. Патологоанатом – вот что упущено. Завтра, нет, сегодня, с самого утра – в морг следственного изолятора, поговорить с патологоанатомом.
Неприятней всего я переживал сомнения. То есть – в одиночку. Раньше сомнения разрешались легко и просто – я прашивал Кукольника, он, САмый ТАлантливый НАставник, не задумываясь, отвечал. Он знал ответы на все мои вопросы. Теперь, не обнаружив женщину в том году, в котором ей полагалось быть, я в сомнениях и печали сгрыз ногти до розоватой тонкой кожицы, прикосновение к которой было пронзительно-болезненным. Я сделался сам себе невыносим. И однажды, проснувшись в слезах, вдруг понял, что именно вызвало тогда бешенство Кукольника. Невозможность повлиять. И он нашел эту возможность! Ученик моего сына, самый преданный, самый умный, самый-самый!.. Пошел на поступок, отторгнувший его от всего сущего. Я понял, что чувствовал он, не в силах найти и все исправить. Получается – он меня обыграл Иудой? Что-то очень неправильное есть в нашем с ним мире – что?!
И сразу же – как узнаванием звука или запаха, прикосновением и болью обгрызенных пальцев, я почувствовал раненым крокодилом, волчицей, сожравшей от страха своих крошечных волчат, скорпионом, выставившим хвост в последней надежде воина победить – я понял, что нужно делать.
Стоило в попытке исступленного самоистязания обгрызть ногти, чтобы прикоснуться к себе самому обнаженными нервами и содрогнуться от этого в толчке электрического удара, где главное – картинкой переплетенных воспаленных проводов – возможность входа. Все люди – это попытки жизни. Все куклы – попытки смерти. Но все вместе они – одно и тоже. Они – это я. В случайном подборе хромосом. Каждый живой может стать мною, только не знает этого. Я могу стать любым живым – и знаю это. Вот и все мое вселенское могущество?! Ладно, допустим… Чего я не могу? Я не могу стать куклой. Аспасия однажды показала мне игру. Нужно было надолго задержать дыхание и сильно прижать веки к глазам пальцами, чтобы наступил миг самозабвения.
– Не брезгуй, – погрозила она пальцем, в ответ на мои насмешки, – люди для такого самозабвения нюхают дым тлеющих трав или пьют настои. А ты можешь забыть себя очень простым способом.
– Вообще забыть, кто я есть? – я не поверил.
– Вообще. Если выдержишь.
– Если выдержу… А если я совсем себя забуду, кем я стану?
– Кем захочешь.
– Если я совсем себя забуду, я найду ее?
– Не знаю, – задумалась Аспасия. – Понимаешь, женщину трудно предсказать. Если женщина решила спрятаться…
– А что же случится со всем этим? – я расставил руки в стороны. – Ведь все это существует, пока я помню!
– А ты попробуй, – хитро прищурилась Аспасия, – как ты можешь что-то узнать, не пробуя?
Я тут же застыл в глубоком выдохе, вжимая глазные яблоки сквозь веки пальцами.
– Эй! – Аспасия развела мои руки и подула на глаза, – дурачок…
По ее лицу я понял, что опять сглупил.
– Ладно, ладно. Я поспешил и не спросил, кто же поможет мне вспомнить, если заиграюсь, да?
– Да. Возьми самое любимое с собой.
– Я люблю змею!
– Возьми змею.
– Нет… Я люблю египетскую кошку!
– Возьми кошку.
– Нет. Черепаха. Черепаха! Черепаха! – я запрыгал на одной ноге.
– Возьми всех, если сможешь. Вот сюда возьми, – Аспасия ловит меня и чуть касается кончиками пальцев моего левого соска. – в конце концов, все животные – это же странствующие души людей.
– Так я пошел?
– Иди…
– Ведь люди не узнают, что я среди них?
– Иди.
– Кем угодно, да?..
– Иди!!
В шесть утра следователь приехал в морг специзолятора. Он обошел все открытые помещения, вдохновенным взглядом дилетанта обшарил пробирки и реактивы в лаборатории, надеясь найти останки куколки, из которой вылупилась бабочка. В такой ранний час в морге было пусто и тихо, ночь выдалась спокойной, только к четырем часам привезли две большие мужские ноги и козу с перерезанным горлом. Дежурный врач настороженно следил сквозь стеклянные двери коридора за неспешными перемещениями следователя. Он стоял, закрыв собой дверь в хирургическое отделение. Следователь подошел, кивнул патологоанатому, потыркался влево, потом – вправо. Убедившись, что, действительно, ему не дают войти в помещение, поднял удивленные, красные от недосыпания и запоя глаза, и обнаружил, что врач держит перед собой на весу руки в перчатках, и в правой – игла с зашивочным материалом. Следователя так заворожила эта большая изогнутая игла, что он затаил дыхание, разглядывая ее. Патологоанатом брезгливо отвернул от следователя лицо и предложил пойти в лабораторию. Там есть отменный спирт, он скажет следователю, где именно, и тот может поправить свое самочувствие. А он, врач, пока закончит кое-что. Это недолго. Следователь, возбужденный устрашающего вида иглой, применил силу, чтобы прорваться, наконец, в отделение. Патологоанатом расставил ноги пошире и не двинулся с места, тогда следователь достал из кобуры оружие.
Ворвавшись с пистолетом в хирургическое отделение морга, следователь замер и потерял дыхание: под яркими лампами на столе лежало странное тело. Голова – прекрасной светловолосой женщины, правда, с обкромсанными волосами. Тело – старика, а ноги – мощные и длинные, пришиты были к слабому старому телу с нежными руками и казались нелепыми.
– Это вы сделали? – почему-то шепотом спросил следователь, показав пистолетом на сшитое из частей тело.
– Я! – с чувством исполненного долга заявил патологоанатом, наклонившись к телу и любуясь равномерными стежками по окружности шеи. – Посмотрите только, как все подходит. Как все удачно нашлось!
– Но зачем? – просипел следователь. Обнаружив что размахивает оружием, судорожно затолкал пистолет в кобуру.
– Вы еще не поняли? – удивился патологоанатом. – Все же сходится. Части тела найдены, жертва принесена. До рассвета кровь животного не потеряла цвет, я собрал Властителя! – взгляд врача был весел и безумен. Следователь покрылся потом и ослабел. Он нащупал табуретку сзади себя и осторожно сел.
– Я вам запрещаю, слышите, – слабым голосом заявил он, – не имеете права так обходиться с вещественными доказательствами! Немедленно… распороть!
– Вы мне запрещаете? – врач склонился напряженным лицом. – А вы кто?!
– Я исполнительный следователь, это я приказал доставить сюда расчлененные…
– А я магистр Фрибалиус! – закричал патологоанатом дурным голосом. – Плевал я на следователей! Я подчиняюсь только Кукольнику, я слуга его и исполнитель!
– Минуточку, минуточку, – следователь выставил перед собой руку и отворачивался от брызгавшего слюной врача, – где, вы говорите, у вас спирт? Тут без спирта не разобраться.
К восьми тридцати утра – время появления на работе санитара – патологоанатом и следователь перемещаться могли только держась за стену и вцепившись друг в друга. Устроившись за столом с микроскопом, они решили, что перемещаться им незачем, разве что сходить еще раз взглянуть на Властителя? Санитар приступил к уборке в хирургическом зале, не поднимая простыню на столе и не глянув, что такое она закрывает. Собирая инструменты, он услышал голоса и потихоньку подошел к лаборатории. В щелку приоткрытой двери увидел врача и незнакомого человека перед опустевшим пузырьком. Причем патологоанатом говорил странные вещи, к незнакомцу обращался «господин исполнительный следователь», а этот самый «господин исполнительный…» называл доктора «магистр Фрибалиус», и лица у обоих при этом были напряженно-торжественные.
– Позвольте, поинтересоваться, магистр Фрибалиус, в какой момент вашей профессиональной деятельности вас посетила идея соединить воедино все отдельные части мертвых останков?
– Непосредственно после того, господин исполнительный следователь, как я обнаружил в мешках, доставленных ночью в морг, недостающие ноги и принесенное в жертву животное.
– Однако же вы не можете не понимать, являясь анатомом-практиком, что возможность оживления подобного существа абсурдна и кощунственна по определению!
– Вы, господин исполнительный следователь, исходите из общепринятого отношения к жизни и смерти. Я же, существуя в постоянной близости с тем и другим, давно отвык доверять общепринятым нормам. И потом, мне было видение!
Тут патологоанатом – магистр Фрибалиус, стал с подробностями объяснять, как пропитанная кровью крошечной куколки вата превратилась в личинку насекомого, как сама куколка умерла, насмерть им раненая, как была вскрыта и похоронена, а личинка превратилась в бабочку и улетела в открытое окно, мерцая космической пыльцой на крыльях.
Следователь, тыча указательным пальцем в грудь патологоанатома, вспоминал и никак не мог вспомнить номер статьи, которая полагается за утаивание от следствия вещественных доказательств. Врач, игнорируя бормотание следователя и тычки его пальца, вдохновенно объяснял, что придуманная грань между жизнью и смертью, а вернее – между смертью и жизнью – не что иное, как вынужденная мера, к которой прибегло человечество в попытке объяснить бессмертие. Он уверял замолчавшего в отупении следователя, что человечеству так необходим был ритуал, объясняющий переход от усталого или потерявшегося тела к новому виду существования, что на всей планете, по идее, должен стоять только один памятник. Похоронщику.
– Люди – всегда дети, – назидательно кивал врач, – они любопытны настолько же, насколько глупы. Они все время мучаются вопросом, куда девается то, что умирает в человеке? Облегченное в момент смерти на двадцать один грамм тело тлеет, а душа? То, что составляло его сущность! Ну разве это не смешно? Сначала придумать ритуал, а потом попробовать объяснить его наоборот?!
Следователь пожелал немедленно узнать, кто это такой – Похоронщик, которому полагается единственный и самый главный памятник на всей планете!
К этому моменту санитар настолько устал от напряжения и попытки понять этот разговор, что опустился на пол, скользя спиной по стене, и закрыл глаза.
– Его пока нет, – категорично заявил патологоанатом. – Нет пока еще Похоронщика, то есть как это сказать, он есть, но он не знает что это он, и никто не знает.
– Никто не знает, – послушно кивал следователь.
– Все уже есть, – от невозможности быстро и ясно объяснить, врач начал впадать в исступление – и Похоронщик есть, только он не определился еще. Люди его уже выдумали, но еще не нашли, понимаете!! Это может быть, кто угодно!
– И вы? – изумился следователь.
– Да нет же, я магистр Фрибалиус, вы – следователь, под дверью сидит санитар, пока мы все вместе друг друга определяем, мы – это мы!
– А больше нет спирта? – поинтересовался следователь.
– Не перебивайте. Трудно сказать, что случится, если Похоронщик действительно появится. Эра Похоронщика – это, знаете!…
– Вы похоронили в футляре вещественное доказательство. Вы – Похоронщик! – стукнул по столу ладонью следователь.
– Не все так просто.
Санитар не услышал звуков, только краем глаза почувствовал движение и медленно повернул голову. По коридору кто-то шел, высокий, замотанный в простыню. Со спины не понять – мужчина, женщина? Санитар опустил глаза и увидел крупные голые ступни, медленно и даже как-то невесомо отталкивающиеся от линолеума. Мужчина.
– Эй! – санитар встал.
Мужчина уходил, не оглядываясь.
– Люди глупы, непоследовательны и наивны в своих желаниях, войнах и открытиях, как дети. Что это значит? – спросил врач следователя.
Следователь не знал, пожал плечами, подошел к двери, открыл ее и посмотрел на стоящего за дверью санитара.
– Что бог – тоже ребенок! Они сами определили и себя, и его. Они сами знают, что такое, – патологоанатом обвел рукой лабораторию и мир за окном, – мог сделать только ребенок! Давайте же переделывать мир, давайте взрослеть! Голубчик! – обратился врач к санитару, – посмотрите вы, голубчик, что у меня получилось, чиновник это оценить не в состоянии.
Втроем они пошли в хирургический зал и минут пять с сосредоточенным видом стояли перед пустым столом. Патологоанатом и следователь, покачиваясь, пару раз заглянули под стол. Ничего не понимающий санитар, так и не дождавшись разъяснений, обошел комнату, механически приподнял окровавленную белую простыню на столике для инструментов и закричал, побледнев: на металлической поверхности из бесформенной массы шерсти и угловато изломленных ножек с копытцами, скалилась ужасная мертвая морда молодой козы с намечающимися рожками.
Глава вторая. Антрацитовая роза в перьях из крыльев ангелов
– Ты забрал ее? – спросила Аспасия Кукольника. Кукольник покачал головой. – Но ты же ушел за ним, ты сам говорил, что шел по пятам! Отдай черепаху, слышишь, немедленно отдай ему черепаху! Что мы будем делать, если он потеряется? Он же совсем ребенок! – Аспасия стала рядом со стариком и возмущенно топнула ногой. Кукольник смотрел на небольшое облачко пыли, взметнувшееся у ее босых пальцев. – Пока вы носитесь по кругу, пока ты подслушиваешь сны младенцев, может случиться что угодно! Звездочет каждое полнолуние бросается вниз головой из своей башни! Фрибалиус сшил из мертвецов то ли Властителя, то ли Спасителя и возомнил себя отцом всего сущего!
– Замолчи, женщина, – сказал он, когда облачко улеглось. – Как он потеряется? Куда он может деться? Он не может выйти за пределы этого! – Кукольник обвел рукой холмы и виноградники внизу под ними, изумрудную на закате полосу проступающего моря и белые крошечные домики пастухов за виноградниками. – Это все – он. Даже пустота за звездами – он. Ему некуда деться вне себя, потому что вне себя он не существует.
– О, небо! – взмолилась Аспасия, – Почему ты дало силу и могущество мужчине, а разумом опечалило женщину?! Объясни этому выжившему из ума старику, этому охотнику за неведомой женщиной, выдуманной и обреченной на игру в прятки, что он может! Он может! Ребенок может потеряться в себе!! Он может заиграться!
Кукольник закрыл ладонями лицо и угрожающе спросил сквозь коричневые обветренные пальцы с длинными остро обточенными ногтями:
– Женщина, ты научила его играть в смерть? Воистину, ты – ополоумела. Пошла прочь!
Ночью, в свете рассыпанных невпопад мальчиком и Звездочетом созвездий – тоже игра называется, рисовать на небе фигурки животных и людей и очерчивать их яркими вспышками! – Кукольник лепил кукол, бормоча заклятия. Вминая пальцами на одутловатом лице старухи провалы глаз, он забылся, глаза получились огромными и трагическими. Зато дети выглядели притягательно – мальчик и девочка, приблизительно одного возраста… Нет, пусть девочка будет старше, а мальчик на год моложе. Пусть он будет ее брат… Нет, не родной. Старуха будет их бабушкой, потому что они – дети ее дочерей. Кукольник поставил три фигурки на пол, повернув из друг к другу лицом. Дети переглянулись, но не двинулись с места. Кукольник, задумавшись, провел пальцами по лицу у виска, и лишняя плоть, оставшаяся на пальцах, прилипла, высыхая и стягивая кожу. Он разглядывал свою ловушку пристально, напрягая глаза и стиснув челюсти. Мальчик и девочка подняли головы и восхищенно посмотрели на яркие звезды. Старуха глянула на небо равнодушно.
– Пора спать, – сказала она устало.
– Ну еще минуточку, Шура! – попросила девочка. – Вдруг, они за ночь все попадают?!
– Никуда они не денутся. Они и днем висят. Можешь заглянуть в колодец и увидишь их отражение. Все. Спать.
Когда его куклы заговорили, я выдохнул. Я выдыхал долго, нащупывая пустоту внутри себя напряжением мышц живота, судорогой гортани и замедляющимся пульсом крови. Потом прижал пальцами веки и застыл в калейдоскопе разворачивающихся ярких лабиринтов. А когда глаза мои забыли все, что видели до этого, они сдались на милость фейерверку огненных вспышек и оранжево-фиолетовых разворотов многомерных пространств. Странно, но я понял, когда именно наступил миг возможности вздоха. Возможности последнего вздоха. Я понял это и не вздохнул, отдавшись сну смерти.
…– Звезда, когда падает, она будет лететь и вырастать? – Нет, она сгорит еще по дороге, далеко от земли. – Шура, почему звезды такие маленькие? – Они не маленькие. Они огромные. Просто они далеко. Если я уйду далеко, я тоже буду маленькой. Мы с сомнением смотрим на Шуру. Тогда она кряхтит, с трудом встает со скамейки и откладывает нож. – Пошли! Мы выходим на дорогу. Шура говорит: – Стойте здесь. Мы стоим. Шура уходит по дороге к центру поселка. Дорогу разрыли недавно, пыль на ней приятная. Шура идет вразвалочку, тяжело передвигая больные ноги. Наконец, она остановилась. Жека подносит к лицу ладонь и смотрит на Шуру. Шура стоит у него на ладони. Жека прикрывает ее другой рукой. – Ерунда, – говорит Ирка и уходит. Мы с Жекой ждем Шуру. Нам скучно, словно нас обманули. а придраться нельзя. Шура на нас не смотрит она вытирает пот с лица и садится чистить картошку дальше. Ирка предлагает убить кусачего петуха. Жека молчит, ему жалко петуха, и Шура не даст. Он молчит, а потом спрашивает: – А звезда… Это... когда падает, она будет лететь и вырастать? – Она сгорит еще по дороге далеко от Земли. Жека и Ирка смотрят на меня с недоверием. – Звезда – это планета? – Планета. – Как же она сгорит? Я не знаю, как именно, и злюсь, что они не верят. Потом обижаюсь и ухожу домой. Сумерки. Не люблю. У своей калитки я жду, вдруг они позовут. Не зовут. Я иду к Бабушке и наблюдаю за ней. – Поля, поешь. – Не хочу.
Утром Жека говорит: – Идем, Ирка придумала, как убить петуха. Ирка хочет убить петуха бельевой веревкой. Она стоит за сараем и щелкает этой веревкой, как бичом. Веревка тяжелая. Ирке трудно, но она очень довольная. – Она уже убила курицу! Я с ужасом смотрю на Жеку. – Да не нашу, соседскую, она ее прогоняла, щелкнула веревкой, а та – брык и все. – Где эта курица? – Я закопала. – Дура потомушто! – говорит Жека. – Надо было зажарить и съесть. На костре. Как индейцы. Мы восхищенно смотрим на него. Вдруг выходит Шура и смотрит на нас: – Соседка ругается, говорит, что я таскаю ее кур. Ирка прищуривается: – Она и на меня орала, говорила, что укокошит нашего красивого петуха. Шура качает головой и уходит. Тактический ход. Жека ничего не понял. Скоро Шура уйдет в магазин. Теперь петуха надо срочно убить. Ирка ходит по двору с веревкой, но петух, как на зло, совершенно не хочет драться. – Он чувствует! – Он же курица, а они все глупые, я читала. – Нет, он чувствует. Мне жалко Жеку: – Иди приготовь спички, чтобы как индейцы. И как только он ушел, Ирка ка-а-к щелкнет! Я не верила, что так можно убить. – Поля, я его убила. – Ну да, убила. – Поля, я его раз – и все! – Ну да. Мы подходим ближе и вглядываемся. Петух смотрит на нас одним глазом. Мы переглянулись. И за эту секунду глаз остыл. Жека молча берет петуха за лапы и тащит. – Тяжелый. – Где будем жечь костер? – Конечно, в посадке. Это я его. С первого раза. Жека отдирает от своего грузовика кузов с колесами и обвязывает ось веревкой. В кузов он кладет петуха. Голова свешивается. Жека думает, а потом приносит Ирке нож. – Нет! Зачем это? Давай ее согнем! Тогда Жека усмехается и начинает резать петуху шею. Получилось много крови. – Это я его убила. А что он, гад, клевался! И даже когда мы тащим тележку, кровь капает в пыль. И тележка дребезжит. Я хочу уйти домой. Мы закрыли петуха травой, но лапы торчали. И вдруг Ирка говорит: – Жека не спит всю ночь, сидит в саду и не спит. Мы довезли петуха до рынка, а там увидели Шуру с Бабушкой. Мы продрались сквозь кусты и залегли. Петух вывалился, Жека его укладывает. Трогает разноцветные перья.
Ирка предложила бросить петуха в канаву. Жека молча выволок его и повез к посадке. Мы плетемся за ним. Костер разжигал он, но петуха не трогал. – А петуха – на палку, да? – Нет. Испечем в золе. Вечером будет печеный петух. – Я есть хочу. Шура уже, наверное, пришла, а петуха нет. – В этой посадке живет садист. – Что это – садист? – Он всех убивает. Я с сомнением смотрю на абрикосовые деревья. Жека трещит сучьями. – Так не годится. Без хлеба, и соли нет. Я смотрю на петуха. Жека тоже не сводит с него глаз. – Надо сходить за солью. – Я схожу. И хлеба возьму у Бабушки. – Я с тобой, а ты – дежурный у костра да Жека? А мы – в разведку да? Мы несемся с Иркой, что есть духу. – Шура говорит… что у вас растут черные розы… Разве такие бывают? – Растут. Только их Топсик все записал. Мы пробираемся в кладовку и берем хлеб из кастрюли. – Если попадемся твоей матери – тогда все! – Она на работе. Мы немного заблудились и не сразу нашли костер. Жеки не было. Ирка беспокойно прошлась у огня. Я все кричала: – Жека! Жека! А он лежал у муравьиной кучи и сосал палочку. Мы сразу же улеглись рядом и засунули в кучу высохшие стебельки. – Поля, у тебя дядя милиционер, скажи ему, пусть поймает садиста. Это Ирка из-за Жеки разволновалась. Шура тоже любит Жеку. Шура и Ирку любит, но Жеку больше. А их матерей, своих дочек, она не любит. Я смотрела на огонь и думала, что не смогу есть этого петуха. – Мне надо сходить домой показаться. Мать придет с работы и ляжет спать. Если меня не будет – она к Шуре. А нас там нет. Она – искать. А так я скажу, что мы играем. Ирка смотрит обиженно, но бросить Жеку уже боится. Темнеет. Я бегу. Бабушка пугается, когда я врываюсь в кухню. Она прячет мешочки с засушенной травой под себя. – Пойди погуляй у Шуры, мать сегодня осталась в ночную, а я пока сварю варево лечебное, его на первой звезде варить надо. Петух лежал в горке золы. Свет пробегал по уголькам – казалось, что петух дышит. Ирка уже давно рвалась к нему. – Не лезь. Рано. – А ты не командуй! Это что скрипит? – Это вагонетка. – Скрипит так грустно. А эта дорога испорчена? Мы долго смотрим на одинокую подвешенную вагонетку. – В ней возили породу на террикон. – В этой вагонетке лежит клад. Тыща рублей. Нет, сто тыщ рублей. – Они бы разлетелись от ветра, там золото. Шахтер рубил уголь, вдруг – кусок золота, он его потихоньку засунул в вагонетку с породой, потом – наверх и бежать, а дорога сломалась, и вагонетка все так и висит. Мы очищаем петуха от сгоревших перьев, разламываем розовое мясо и замечаем, что Жека не ест. – Ешь, вкусно. – Нет. Я не буду. Он отходит, потом возвращается. – Да ешь же! Жека не выдерживает, берет черными от золы руками, и я вижу сквозь свечение огня, как у него текут слезы по лицу и в этом месте остаются чистые полоски. Ест он жадно, а слезы все текут. Мы тщательно маскируем место нашего пиршества. Ирка по-звериному зарывает место от костра. Идем домой медленно. – Ночь, а не страшно. – Это потому, что мы наелись. Я, когда наемся, ничего не боюсь. – А я умею летать... – Ври больше! – Иногда, когда очень хочется. – Это твоя бабка по ночам летает на помеле! Еще ни разу мы спокойно не расстались. Обязательно поссоримся. Бабушка сидит на крыльце. Я сажусь рядом. – Чем это ты пахнешь? – Мы жгли костер, Бабушка, а ты все можешь? – Все. Учись, пока жива. – Бабушка, а ты можешь летать? – Могу. Я цепенею и говорю с трудом: – Бабушка, а Жека сегодня Шуру на ладони держал, а ты можешь сделать, чтобы я летала? – Ты сама можешь. – Бабушка, миленькая, не надо так говорить, я боюсь. – Чего тут бояться, вздохни – и летай. Тогда я встала на крыльце на цыпочки и сильно вздохнула, а потом оказалось, что я уже двигаю руками и ногами, как в воде – очень медленно. Потом поселок с горящими квадратиками окон лег на бок, а я все еще не выдыхала. Я двигала ногами по-лягушачьи и летела к вагонетке. Я увидела ее перед собой, наклонила голову перевернулась вверх ногами и уже хотела потрогать рукой краешек, как что-то огромное и черное выпорхнуло и залопотало по-птичьи, ругаясь. Хватит для первого раза. Я почти выдохнула, как вдруг увидела на крыше бани Жеку. Он сидел и смотрел на небо. Он ждал, когда упадет звезда.
Утром шел дождь. Вид у меня – таинственный и важный. – Ну вот. Я же говорила, что могу летать. – Ври бо! – Я видела, что там в вагонетке. Там живет птица, огромная и черная. – А золото? – Вагонетка очень большая, может там и золото есть. Ирка пристально уставилась на далекую вагонетку. – Какая же она большая? – Она большая. Дна не видно, но вообще-то было темно. Мы сидим тихо. Жека говорит: – У кошки будут котята, скажи Шуре, что возьмете одного. А то она всех утопит. – Скажу. Только у нас уже есть Абрикоска. – А когда Абрикоска будет с котятами, я скажу, что возьмем. Эта дорога не работает уже давно, и вагонетка давно скрипит от ветра. И вдруг вагонетка поехала. Мы замерли. – Правда, едет! Мы бежим к терриконам. Ходить туда нам категорически запрещено, но Ирка уже смотрит на меня злорадно. Мы бежали долго – до синих пятен в глазах. Жека отстал, а мы с Иркой увидели, как вагонетка ткнулась боком и застыла у самого верха террикона. Что-то не сработало, и она не опрокинулась полностью. Мы постояли, шумно дыша, потом, не сговариваясь, полезли с Иркой вверх. Подбежал Жека. – Вернитесь, нельзя! А вдруг, она с породой! – убьет! – Да нет же, она пустая, там живет птица. – Нельзя! Потом и он полез. Вагонетка лежала ржавая и страшная. В ее нутре упало на бок сплетенное гнездо – старое и большое. Мы задыхались от жары и запаха. – Пахнет.. как в курятнике. Ирка все таращилась то на меня, то на гнездо. – Поля, а ты это – как? – Да очень просто, надо вздохнуть сильно и взлетишь. – Зря бежали. Я видел вчера. – Что ты видел? – Да вот ее видел, когда сидел на крыше. – Вы оба рехнулись, ты просто увидела, как к вагонетке подлетает птица, вот и сказала про гнездо! Брехушка! Я плачу и иду домой.
– Володя женится, слышишь, Поля! Я бегу сначала к Володе, потом резко поворачиваю к Ирке с Жекой. – Мой дядя милиционер женится! – А разве милиционеры женятся? – Значит, женятся. – А ты ее видела? – Нет. – А как ее зовут? – Я ничего не знаю. Наверное, Тэсса. – Что это за имя такое? – Не знаю, мне просто так кажется. – Ерунда, таких именов нет! – Не именов, а имен. У нас дома все готовят, наверное, он приведет ее знакомиться. Мы бежим к нам. Подкрадываемся к окну и слушаем. Мама ругается, Бабушка молчит. Мы садимся у окна на землю. И вдруг видим Володю с девочкой, очень худой и маленькой. Ирка вскакивает, будто ужаленная и бежит к калитке: – Добро пожаловать, а как вас зовут? – Таисия. Ирка оборачивается: – А вот она сказала, что Тэсса! Девочка вдруг смотрит на меня злобно и отворачивается. – Меня мама так называет. Я не люблю. Они заходят в дом. Володя грозит мне из-за спины кулаком. Уходит она быстро. Потом в доме все поднимается вверх дном. Во-первых, Бабушка идет к Шуре, а она ходит к Шуре в исключительных случаях, не хочет встречаться с отцом Жеки. Мама кричит, Володя улыбается, мы бежим к Шуре и подслушиваем под окном. Но тут приходит моя мать и разгоняет нас, а меня отправляет домой. Все равно, мы потом собрались, и Ирка нам все рассказала. – Жу-у-у-уткая драма. Кровавый роман! Тэсса еще не может жениться, потому что несовершенная… – Несовершеннолетняя? – Ну да, а что это значит? – Ну, ей мало лет и она еще учится в школе. – А Шура говорит, что Жеку родили в 15 лет. А Бабушка говорит: Пусть им, лишь бы дети были счастливы. А твоя мать говорит, что это подсудное дело. А Бабушка опять – пусть себе, лишь бы дети были счастливы. – Это мой дядя – дитё? – Не знаю, а твоя мать говорит, что у этой деточки уже, наверное, в животе есть дитё. Мы замолкаем. – Нет у нее ничего в животе, вон какая она худая. – Много ты понимаешь!
Мой дядя женился. Он снял домик в поселке и по утрам, когда наступила осень, отвозил Тэссу на мотоцикле в школу. А пока еще лето. Сухое и жаркое. Трава высыхает, а земля трескается. Теперь мы с утра приходили за Тэссой и все вместе шли купаться, пока Володя наводил порядок и спокойствие в обществе. – Тэсса, смотри, черная роза! – Какой ужас, фу... – Тэсса, а я убила петуха, а Жека зажарил его на костре, а у тебя нет ребеночка? – Нет. – А ты женилась, чтобы родить ребеночка? – Нет, чтобы уйти из дома. – А Володя тебя не бьет? – Нет, еще не бьет. – Тэсса, смотри, ящерица! а почему ты все время молчишь? Володя говорил Бабушке, за весь день слова не скажет. А Бабушка говорит, что ты выздоровеешь и еще будешь смеяться. А ты больна? – Нет. Тэсса собирает синие стеклышки мочит глину у ставка и вдавливает их в глину вперемешку с желтыми и зелеными. Синие попадаются редко. Мы все теперь собираем и отдаем ей синие стеклышки. А потом маскируем ветками этот «секрет». Мама говорит, чтобы мы поменьше «яшкались» с этой «девицей». По субботам Володя и Тэсса уходили на танцы. Тэсса зачесывала волосы назад и красила глаза. Мы пробирались к решетке поближе и смотрели на них. – У них любовь? Тэсса красивая.. – Подумаешь, я когда вырасту, стану еще красивей, – Ирка уходит от решетки. – А я видел, как Лиса ломал наш секрет. – И ты молчал?! – Мы трясем Жеку. – Убью Лису! – Ирка несется впереди, мы за ней. Лиса не сразу нас заметил и не успел спрятаться. Мы били его, и у него из носа пошла кровь. Поэтому Лиса заорал, а мы удрали. Было темно, когда мы зашли к Шуре. Она ахнула и закрыла глаза руками. – Вы все в крови! Что у кого случилось?! – Мы били Лису, а у нас все в порядке. Шура быстро толкает нас на улицу к рукомойнику и идет положить валидол под язык. – Паршивцы, просто паршивцы! Вы что, его убили? – Нет, мы ему нос разбили, будет знать. – А что ты, интересно, матери скажешь? Посмотри на свое платье! Мое платье в крови. – Я не пойду домой. – Еще чего, за тобой уже приходили. Я снимаю платье, и Шура замывает его. – Шура ты в холодной воде? – В холодной, поучи меня еще.
С утра мы помогаем Шуре собирать абрикосы. Потом везем их на рынок. Ведро абрикосов. Тэсса собирает с нами и ест их немытыми с земли, и сидит под деревом, выставив острые коленки. Шура идет медленно. Тэсса собирает репейники и прикалывает их к платью у шеи. Мы разместили Шуру и уходили с рынка, когда очень толстая и красная женщина стала кричать и ругаться. Она кричала, и кричала: – Проститутка! Выродок! И еще много. Тэсса убегала по дороге, сбросив босоножки. – Наверное, она украла помидор. – Да нет же, – я подбираю одну босоножку, потом другую – в пыли. Тэсса убежала далеко и поджидала нас впереди – крошечная фигурка в дрожащем горячем потоке воздуха. Мы ничего не спросили. Помидора у нее не было. Вечером Тэсса плакала навзрыд. Бабушка проводила большими пальцами по ее бровям, а Тэса все плакала, а Бабушка улыбалась. Тэсса не приходила к нам, когда моя мать была дома. – А та тетка на рынке – ее мать. – Откуда ты знаешь? – Шура говорила. А у кошки родились котята. Шура еще не знает. – Давай запрячем! – Я уже прятал в сарае, но кошка опять перенесла их под крыльцо. Шура заметит – утопит. – А топиться – это страшно? – Это очень страшно. Страшней всего на свете. Я долго смотрю на Жеку: – А ты откуда знаешь? – Я тонул один раз. Давно. Меня Ирка вытащила. – А я, если захочу, никогда не умру. – Тонуть – это очень страшно!. Жека терпит до обеда, потом идет к Шуре: – Шура, если котята родятся, ты их сразу утопишь? – Конечно, сразу. – Шура, не надо… – Отстань. – Не надо, Шура! – Ну что я с ними буду делать? Вы поиграетесь, пока они маленькие, а потом эти коты меня съедят.
– Ш-у-у-ура-а-а.. Жека уже не может остановиться, он плачет, засунув кулак в рот, чтобы не очень громко. И вдруг уходит и замолкает. Шура выглядывает несколько раз. Он сидит на крыльце. Шура понимает, что котята уже родились, и вздыхает.
Мы с Тэссой стоим в коридоре и смотрим в маленькое окно на Топсика. – Сейчас, подожди. Топсику жарко. Он лениво таскает цепь. – Ты видишь, я его перевязала подальше. Он раньше был вон там. А все равно достает. Топсик, потоптавшись и выбрав устойчивое положение, сильно задирает заднюю лапу и пускает струю, стараясь достать куст черных роз. Это просто цирковой номер. Он старается изо всех сил. Наконец, натянув цепь и изогнувшись, он обливает розы и, довольный, растягивается на земле. Я выбегаю, показываю ему кулак, утаскиваю его и выливаю на розы ведро воды. – Ну чего ты привязался! И вдруг Тэсса смеется. Я вижу это первый раз, это странно и некрасиво. У нее гримаса на лице, еще она икает и держится за живот. И тут прибегает мать Жеки – Лора. Она прибежала прятаться от отца Жеки, он когда напьется, то бегает за ней и за Жекой с ножом, они прячутся у нас. Шура тоже ковыляет следом. Тэсса смотрит на них с интересом и перестает смеяться. – Правда, что эта тетка на рынке – твоя мать? – спрашиваю я тихо ей в спину. Она поворачивается и бьет меня по лицу. Что я сделала не так? Господи, я люблю ее, что я сделала не так? Теперь прибегает Ирка. – Пойдем быстрей, быстрей... там Жека!.. Нам очень страшно. Мы бежим, а страх завязывает нам банты на шее. – Что, его отец зарезал?. – Да нет же, пойдем. Мы обе трясемся и проходим осторожно во двор Шуры. У крыльца лежат шесть задушенных котят. – Это Жека. – Неправда! – Да. Он просил Шуру не топить, а она говорит – утоплю, а когда отец напился, он и задушил их, а теперь я его ищу и не могу найти. Мы видим отца Жеки, он храпит в коридоре на полу. – Жека! Жека! Потом я вижу Жеку, он сидит в углу. И, увидев Ирку, бросается на нее, бьет кулаками: – Это ты, это все ты, зачем ты убила петуха! Вот тебе, получай! Ирка кричит, отец Жеки просыпается. Мы бежим ко мне, залазим на чердак. На чердаке очень жарко. Мы обнимаемся, сидим и по очереди вздыхаем, чтобы надышаться после слез. – Им было бы очень трудно топиться! А так я сделал все осторожно и не больно. – Жека… Жека, какая разница, как умирать? – Нет! Им было бы тяжело. Тонуть – это очень страшно, я один раз... Мы слышим крики внизу и выглядываем. Отец Жеки стучит в дверь и ругается. Потом из двери выскакивает моя мать и бежит за ним с палкой, потом они начинают бегать вокруг сарая, а Шура обливает водой из ведра обоих, потом они бегут за Шурой, а Топсик лает и срывается с цепи. Ну, все. Теперь все бегут от Топсика, он радостно кусает за ноги отца Жеки и веселится вовсю. Мы смотрим сверху. И Жека говорит: – Я хочу умереть. – Я тоже хочу умереть, я тебя люблю, а ты меня избил! – А ты меня много раз била, я не поэтому хочу умереть! – А я поэтому! – Замолчите! – Поля, а где Тэсса? – А давайте все улетим! – Здорово. Они нас искать, а мы вверху крылышками машем. – Я не смогу летать. – Почему, Жека? – Мне плохо, я хочу умереть. – Но мы… как мы можем умереть? А так – улетим и все. Это очень просто. Давайте, совсем улетим. Навсегда. – А Шура? Кто ей будет воду носить, когда ее кондрашка хватит? – Может, и не хватит, это она просто так говорит. Мы опять смотрим вниз. Топсик с упоением обливает мою розу, потом воинственно роет лапами землю и заливается лаем. – Сначала я вас потащу за руки, а потом вы сами сумеете. И я вздыхаю так, что темнеет в глазах, Ирка хватается за мою руку обеими руками, а Жеку приходится держать, поэтому мне очень тяжело сначала, а потом мы просто летим рядом, держась за руки, чтобы не потеряться…
Пока следователь окончательно выспался на кушетке и протрезвел, пока санитар обыскал все закоулки морга и даже некоторые камеры следственного изолятора, пока патологоанатом с лупой в руке на четвереньках осмотрел сантиметр за сантиметром линолеум коридора – те места, по которым, со слов санитара, уходил босой неизвестный в простыне, наступил полдень, и инспектор, отчаявшись разыскать следователя, ругая себя последними словами за то, что забрал его телефон, сам отвез в психушку пойманного утром засадой в квартире мальчишку. Выспавшийся следователь, уставший санитар и возбужденный патологоанатом к двум часам дня собрались в кабинете врача, чтобы перекусить. Следователь успокаивал возбужденного патологоанатома, уверяя его, что подобного вида голое нечто в простыне непременно будет задержано первым же милиционером на улице. На все попытки врача немедленно позвонить и объявить розыск, следователь реагировал настойчиво и грубо – не давал. Он обещал лично отзвонить все участки и проверить по неопознанным пострадавшим больницы. Санитар смотрел на них обоих взглядом заблудившегося в лесу ребенка, который вдруг обнаружил, что деревья разговаривают. Иногда, судорожно содрогаясь, он икал и тут же просил прощения, объясняя: «Извините, это нервное». Он пил чай, потом воду из-под крана. Не помогало. Патологоанатом стал подробно объяснять, что санитара нужно срочно испугать, потому что икота его, скорее всего, является следствием спазма мышц, и спазм этот в области желудка может привезти к тяжелым последствиям. Следователь несколько раз с выпученными глазами и ощерившись, тыкал санитара пальцем в бок, но тот только болезненно вздрагивал, благодарил, но икать не переставал. Тогда следователь махнул рукой и заявил, что санитар, вероятно, от страха и икает. «Вы, действительно, это сшили?» – интересовался санитар шепотом, – «Я же ей волосы отрезал, этой… голови-ик?.. Как же она без-и– ик.. волос?»
А в это время в психиатрической клинике возвращенному после побега мальчишке сделали внутривенно укол. Родственников так и не нашлось, согласие на эту процедуру дал, подумав минут пять, доставивший его инспектор. Его уверили, что необратимых последствий на мозг укол иметь не будет, просто подросток на некоторое время утратит свою агрессивность, и забудет все, что раньше его нервировало и приводило в состояние исступления.
В детском отделении большеголовый лысый ребенок, который хотел превратиться в мышку, тряс за плечо привязанного к кровати подростка, который такие превращения делать умел. Подросток смотрел бессмысленно, изо рта его спускалась ниточка слюны, иногда он улыбался и шептал: «черная роза…»
В кладовой отделения для взрослых был обнаружен запрятавшийся там больной. Больной этот в наброшенной простыне был странно изувечен – весь в шрамах, необычайно высок ростом и, по всей вероятности, глухонемой. Выяснить точно, из какой он палаты, так и не удалось: в припадке одна из больных пробралась в приемное отделение и съела несколько личных дел. Дежурный врач хотел потихоньку записать его на место пропавшего на днях старика, шумного и заносчивого, но старик тоже вдруг обнаружился: его привез и сдал под расписку полицейский наряд. Подумав немного и пронаблюдав за странным неизвестным в шрамах, врач решил пока выяснение личности отложить. Неизвестный все время оглядывался, словно кого потерял, ничего не ел, не пил и прятался от дневного света. Его голова – изумительно пропорциональная, с безупречным по лепке лицом, то и дело попадалась врачу на глаза – безжизненный взгляд заблудившегося, желтые всколоченные волосы, приоткрытый рот, чуть растянутый в забытой улыбке. Ночью этот странный больной пристраивался на полу у окна – он ко всему прочему еще и не спал – и смотрел на небо.
Исполнительный следователь настоятельно рекомендовал магистру Фрибалиусу посетить психиатра, и патологоанатом согласился. Следователь отвез магистра к главному врачу психиатрической клиники. Пока патологоанатом беседовал с психиатром, следователь выписал себе пропуск в детское отделение.
Мальчику уже можно было вставать и играть в игровой комнате. Следователь ужаснулся. Перед ним, шаркая ногами, прошел распухший и не реагирующий на его приветствие подросток.
– Отекает, – объяснил санитар. – Не в кайф ему лечение, не в кайф… Ноги отекли, ест плохо, все время лежит и бормочет что-то. Такие вот последствия химиотерапии. Иногда, кстати, пробирается в отделение для взрослых. К ангелу.
– Ангелу? – почему-то шепотом спросил следователь. Он не мог отвести глаз от пробирающегося по стеночке опухшего ребенка.
– Ну да, это мы так его зовем. Ни одной подушки перьевой в отделении, ни одной птички, а он все из своих волос перья вытаскивает. Где берет, спрашивается?
– Почему мальчику делают уколы? Разве на это не нужно разрешение родных?! Я же ясно написал в рекомендации: наблюдать! – вдруг заорал следователь.
– Которые бегут – буйные! – тоже повысил голос санитар. – А насчет наблюдения не беспокойтесь! В таком виде их лучше всего наблюдать! А уж насчет разрешения полный порядок. Ваш работник первый раз расписался, а потом и родители объявились. Спросите у врача.
Следователь смерчем пронесся по коридору и спустился на первый этаж в приемное отделение. Психиатр и патологоанатом, считающий себя магистром Фрибалиусом, как раз заканчивали прием второй рюмочки коньяка. Чтобы возбужденный следователь не отвлекал их от беседы, ему тоже налили коньяка, причем патологоанатом с уважением отозвался о рюмочках на тонких ножках – он у себя в морге употребляет из чего ни попадя. Следователь листал медицинскую карту Максима П., на интенсивное лечение которого подписали разрешение сначала инспектор криминальной полиции, а потом родители: имена, адрес в Петербурге.
– Это был совершенно нормальный ребенок, только странный немного, – следователь тронул психиатра за рукав.
– Господин исполнительный следователь, – назидательно произнес психиатр, – за редким исключением они все совершенно нормальные, только чуть-чуть странные. Насколько оправдано лечение, можно будет сделать выводы уже на следующей неделе.
– Здесь написано, что приходили его родители! – потряс следователь бумажками.
– Никчемнейшие людишки, – скривился брезгливо психиатр, – все их передачи тщательно проверяются. Отечность ребенка могла быть спровоцирована как лекарствами, так и специально подложенной пищей, на которую у ребенка может быть аллергическая реакция. Вообще, скажу я вам, господин исполнительный… да, скажу. У меня есть сильные подозрения, что это совсем не тот мальчик, привезенный вами на обследование, который сбежал на прошлой неделе. А по поводу вот этого ученого мужа выводы следующие, – психиатр подумал полминуты, сложив губы в трубочку и разглядывая патологоанатома. – Профессиональная мания величия на фоне легкой неопасной шизофрении. Отдых, развлечения, и не задерживаться в морге после окончания рабочего времени. В сущности все врачи немного шизофреники, но по-разному. Патологоанатомы в принципе не могут быть абсолютно нормальны в силу специфики пользуемого материала.
– Этот мальчик ходит в отделение взрослых. Я хочу видеть, к кому, – прервал следователь объяснения.
Посмотреть, к кому ходит мальчик, пошли втроем. В комнате для отдыха благонадежных и спокойных больных было десятка два мужчин и женщин. Они умеренно – без повышения голоса – разговаривали каждый сам с собой. Следователь увидел желтые всколоченные волосы еще у дверей, он встал на цыпочки и вытаращил глаза. А патологоанатом был учтиво рассеян и спокоен, пока не подошел к застывшей неподвижно группе у окна. Увидев спокойно сидящего огромного человека в больничном балахоне, из под которого выставились голые волосатые ноги (те самые, обнаруженные патрулем на крыше детского сада, следователь их сразу узнал, когда подбежал), и опухшего мальчика, вытаскивающего из желтых волос сидящего перышки, патологоанатом закричал и захлопал себя по коленкам от радости и возбуждения. Он ощупал мужчину, никак не реагирующего на его прикосновения, предложил потрогать и следователю, но тот отказался. После чего следователь и патологоанатом стали наперебой объяснять психиатру, что этот субъект – не что иное, как собранное магистром Фирбалиусом из мертвых останков тело, сшитое им и потерявшееся в морге позавчера утром. Для достоверности своих слов патологоанатом задрал на человеке у окна рубашку и демонстрировал собственноручно сделанные швы, а следователь обещал прислать по факсу протоколы обнаружения сначала головы и рук в квартире подростка, потом – тела старика, потом, соответственно, ног. При этом они хором уверяли психиатра, что была еще и коза, точно была! Принесенная в жертву путем перерезания горла кухонным ножом на крыше детского сада. Патологоанатом ощупывал сидящего, сопя от возбуждения и требуя немедленного проведения анализов сшитому им телу, мальчик осторожно вытаскивал перья из волос ангела, а собравшиеся полукругом больные бесстрастно таращились, уже начиная проявлять некоторые признаки беспокойства. Психиатр, приказывая жестами успокоиться, стал оттаскивать возбужденно орущих следователя и патологоанатома к двери, но тут следователь вдруг выдернул из толпы больных сопротивляющегося старика, уверяя, что именно этот человек резал на крыше козу, и может подтвердить, что именно на крыше и лежали мужские ноги. Старик отбивался, но подтвердил, что ноги он взял в театре мертвецов и нес в свою мастерскую, и что именно эти ноги сейчас сидят на полу, пришитые к телу неизвестного мужчины с лицом прекрасной женщины.
Успокоительные уколы сделали всем. Патологоанатому, следователю, старику, узнавшему ноги, психиатру и некоторым чересчур возбудившимся больным. Санитар увел мальчика, переворошив перед этим волосы на голове неизвестного у окна и пристально рассмотрев на просвет белое невесомое перышко. Мальчик улыбался опухшим лицом.
…Бабушка смотрит на Лору, глаза прищуривает, а губы поджимает. Она заплетает мне косу, а Лора заходит к нам во двор. Под глазом у нее большое пятно. – Слышь, ты мне травки дашь, чтобы рассосало? Завтра на работу. – До завтрева не рассосет. – А дай, ладно. Бабушка доплетает косу и идет в дом. Я смотрю на Лору: – Тебе больно? Выгони ты его, он же тебя убьет! – А тебе что, жалко? – Жалко – не жалко, я просто знаю, почему он так делает. – Ну конечно, ты у нас самая умная. – Это потому, что ты покупаешь у Сыры. – Что покупаю? – Ну, водку эту.. – Водку? Это называется самогон, заруби себе на носу. – Ну ладно, самогон, подожди. Сыра туда траву настаивает. – Ну и настаивает, не одной твоей старой ведьме траву настаивать! – Да подожди ты, это все из-за травы. Это трава такая, как кто выпьет – сразу сбесится. – Ка-а-нечно, все наши забойщики уже взбесились. – И взбесились, ведь все дерутся! А трава эта заразная, на нее писает Желтый бык, а у него ядовитая моча. Лора смотрит на меня одним глазом, другой осторожно трогает рукой. – Бык? Чей бык? – Он ничей, но все время писает там, где Сыра траву собирает, поэтому ее настойка заразная, я могу доказать. Доказать? – Чего? – Ну, проведем эксперимент. – Это ты со своим ментом проводи эксперименты! Лора смеется и громко хлопает калиткой. Я вздыхаю. Лора опять вбегает и громко кричит: – И! Моему! Пацану! Мозги! Не пудри! Ишь… Летает она… я вот тебе перышко вставлю в одно место, полетишь у меня!
Ночью я слышу сквозь сон, как Бабушка спорит с Лорой: – Дитё спит уже, совсем ошалела, но Лора толкает меня, я открываю глаза. – Я тут все думаю, а чего это у тебя бык – желтый? Где ты видела желтого быка? Это же уму непостижимо. Я сажусь, кладу голову на колени и долго смотрю на Лору. Лора сидит на полу, раскинув ноги и смотрит на меня. Лора, – говорю я, – выгони ты его.
Утро. Я сижу за столом. Я не хочу есть. Еда отвратительна. – Володя, ты любишь Тэссу? – Брысь. – Не любишь? – Не мешай, я ем. – Бабушка говорит, что ее надо любить, тогда она выздоровеет. – Слушай, иди поиграй с куклой, что ли! – Ты спятил. У меня нет куклы и никогда не было. – Ладно, я куплю. – Лучше купи собаку для Тэссы. – Вот-вот, ей только собаки недостает! – слышит нас мать, – пусть уж он ей лучше ребеночка купит! – Ну что ты при детях? – Эти дети больше тебя понимают, и марш отсюда, дети… На улице Ирка показывает мне полный карман стеклышек: – смотри, какие есть красивые. – Слушай, Ирка, знаешь, где Сыра траву собирает? – Ну! Там писает Желтый бык. Ирка напряженно смотрит на меня и изо всех сил пытается понять. Я тащу ее за руку от дома: – Мне нужна бутылка самогона. Ирка таращит глаза. – В одну – ничего не положено, она от Сыры, и отец Жеки будет всех бить. А в эту мы положим настойку для сна. Он сразу заснет и все будет хорошо. Понимаешь? – Нет. – Ну, Лора после этого покупать у Сыры не будет! – Подумаешь, купит в магазине, когда привезут. – Не купит, она жадная. – Ну, я не знаю.. Может, пойдем сделаем секрет? – Ну какой секрет, иди утащи у Лоры одну бутылку. У нее их полно, она все равно после эксперимента выбросит все бутылки, и даже считать не станет. Ирка садится думать. – Ну ты Жеку любишь? – Люблю. – Где он сейчас? – Лежит болеет. – Чего он болеет? – Его отец дрался. – Самое страшное, знаешь что? – Что? – Ну что? – Перестань: что – что! – Котята, вот что! – Замолчи. при чем здесь котята. – Жеке плохо жить, он страдает! Тогда Ирка говорит: – ДАВАЙ ПОБОЛЬШЕ ТРАВЫ ДЛЯ СНА НАЛЬЕМ.
– Побольше нельзя, он может вообще не проснуться.
Идет дождь. Я сижу в горе и тоске. Совершенно незнакомый мужчина, одетый как в кино. – Здравствуй, красивая девочка. – Я не красивая. – Вот как? – Кто тебе сказал? – Все говорят, что страшненькая, но умница. – Даже так… Плачешь? Плачешь. А прочти-ка мне стихотворение. Знаешь стихотворение? – Какое стихотворение? – Ну, любое, про цветы, про дождь... – Я знаю поэму. – Поэму? Забавно. Ладно, давай поэму. – Как ныне сбирается вещий Олег отмстить… нет, это грустно кончается. – Пусть. – Нет, и так плакать хочется. А вы кто? Я вас никогда раньше не видела. – Я только что приехал, буду в вашей школе работать. Ты ходишь в школу? – Нет. – А что так? – Не хочу. – Не хочешь? Забавно. – Меня хотели отдать в прошлом году, но я ужасно не хотела, просто ужасно, и заболела. А в этом, наверное, отдадут. Моя подруга Ирка, она старше, она уже два года в школе. Говорит, что там плохо, а учительница говорит, что Ирка тупая. – Но ты ведь не тупая. – Я – нет, но я дружу с Иркой. – Что ты делаешь все время одна? – Думаю. – Думаешь? Забавно. – А вы почему приехали сюда? – Буду работать учителем. – Учителем?.. Вы так выглядите, ну… не как все. – А я больной, вот здесь больной. – Здесь? – Да. – Когда у человека болит голова, он не бывает такой веселый. – Это как сказать. – А у меня есть тайна, настоящая тайна, я плачу, потому что никому не могу ее рассказать. А вам могу. – Вот как? – Вы ведь здесь никого не знаете и вам совсем неинтересно. – Абсолютно. – Ну вот, а мне кое-что непонятно. Ирка все время хочет меня обидеть, нет, я не про то... Она утащила одну бутылку, а я утащила у Бабушки настойку, от нее спишь хорошо. И мы налили это в бутылку и сказали Лоре, что эта самогонка не от Сыры, а Бабушкина для растирания, что у Сыры покупать нельзя, от ее пойла человек бесится, а она не верила. Ну вот, она нашу бутылку взяла. А он всегда пьет в обед. В субботу днем пообедал и сразу лег спать. Вечером он встает, все допивает и начинает бегать с ножом и всех бить, а тут спит и не просыпается. Шура у нас спряталась заранее, и все говорила, чтоб он никогда не проснулся. Лора вечером ее есть позвала, говорит, он не вставал еще. А потом Шура пришла ночью и кричит: – Слава Богу – Он Сдох!
– Очень интересно, только я ничего не понимаю. В чем проблема-то? – А когда врач сказал «алкогольное отравление», Ирка испугалась и стала кричать, что это я его отравила. – Забавно… А что говорят по этому поводу твои родители? – Мама говорит, что Ирка еврейское отродье. Вот я и хотела у вас спросить. Иуда – еврей? – Иуда? Кажется... позволь, ну да. – Значит, Ирка не виновата. У нее же отец был еврей. – Я ничего не понимаю. – Ну, все евреи иногда плохо себя ведут, предают, у них так положено, это еще в библии написано. Ирка же не виновата, что у нее эти... гены. – Постой! Но ведь Иисус, он... – Нет, спасибо, я все поняла, я побегу. – Постой же. Садись. Ты ничего не поняла. Любой человек может напиться пьяным, может бить других или врать. Иисус тоже был еврей, они там все были евреи, это такое место еврейское – Назарет, Иерусалим, они там жили. Просто один человек предал другого. Просто человек. – Жаль. – Чего тебе жаль? – Ну я обрадовалась, я к ней бежала. – И на здоровье, беги. – Не могу. – Почему? – Я хотела рассказать ей про гены, а теперь, что я скажу, что все люди так делают? Она очень переживает. – Да что она такого сделала? Ну испугалась, выдала вас, что вы накапали каких-то капель. – Это я капель накапала. А она украла Бабушкин пузырек и ВСЕ вылила в бутылку.
Я иду к Лоре. Мать Ирки живет рядом, с новым мужчиной и его детьми. Ее зовут Рая. Утром она сидит на крыльце и сладко жмурится. Вокруг суетятся куры и индюшки. Рая лениво перебирает прядь волос у себя на виске, косит глазом, видит, что прядь седая. Рая очень огорчается от этого и начинает плакать. Сыновья ее мужчины мешают корм для свиней, повернувшись к ней, они видят сначала ее улыбку и улыбаются сами, а потом видят, что она уже плачет. Младший тут же бежит в сарай и тащит крошечного розового поросенка, которого Рая начинает ласкать и целовать в упругий задик с дрожащим крючком. К Рае подходят все ее кошки, и еще две приблудные. Рая показывает поросенка и им, одна из кошек вытягивает мордочку и шевелит носом и усами, а остальные не стали смотреть и нюхать. Рая уже забыла, отчего она плакала. Она поискала глазами свою рябую курицу, но вспомнив, что та пропала, огорчилась и чуть было не заплакала опять. Она слышит, как в забор что-то ударяется и звенит разбитым стеклом. Это во дворе Шуры. Забор общий. Рая заинтересованно подходит и смотрит. Подошли две большие свиньи, десяток поросят, потянулись за Раей кошки, только куры продолжали клевать, любопытные индюшки вытягивали головы и клокотали, но ничего разглядеть не могли. С той стороны забора Лора, шатаясь, прицеливалась бутылкой, отводила далеко руку, размахивалась и бросала ее в забор. У забора уже натекла лужица. Лора была в одной рубашке и отпивала понемногу из каждой бутылки, прежде чем швырнуть ее. Свинья стала тереться о забор и нюхать лужицу. Рая видит и Жеку, он сидит на лавочке и ест сливы. Рая поискала свою курицу у них во дворе, но ее там не было. – Зачем вы украли мою рябую? Дзынь… – Сейчас я покажу тебе рябу-уй-ю… Сейчас я напьюсь как следует, а бык уже все… Сейчас я озверею и передушу всех твоих вонючих свиней! Дзынь… – Отдайте курицу. Рая заметила, что свинья что-то поедает у забора, и наклонилась посмотреть. Краем глаза она увидела странную фигуру в темном костюме, белой рубашке с галстуком и лаковых башмаках. Он смотрел на Раю во все глаза, пока его облаивали три собаки. – Простите, я, кажется, не туда попал... Это у вас муж умер? Мне надо поговорить, это очень важно. Рая кивает головой, приглашая посмотреть через забор. Лора разбила все бутылки и топчется на месте, бормоча про желтого быка. Мужчина становится на цыпочки, свинья тут же начинает громко сопеть и чихать возле него, он испуганно смотрит на Раю. – Пахнет от вас. Одеколоном. Они не любят. Что вы так смотрите на меня? Рая все еще прижимает к шее поросенка, его крохотные копытца лежат у нее на груди, как раз над розовыми сосками. Мужчина становится весь потный. Давно пора, – думает Рая – в такую-то жару в костюме. Рая вспоминает свои зеленые глаза и крупные алые губы и довольная усмехается, но потом вспоминает прядь на виске, отворачивается и быстро уходит. К ней подбегает мальчик – сын ее мужчины, и набрасывает кофту на голые плечи и грудь. – Опять в одной юбке шастаешь! Рая смотрит из-за плеча. Мужчина спасается бегством от гусей, их только что выпустили. – Кто это? Наш учитель по истории и физре, будем кабанчика резать? Мне куртка нужна на зиму. Рая ищет глазами кабанчика, старается изо всех сил, но слез уже не удержать.
Ирка с Жекой сидят в комнате на полу, ставни закрыты, на зеркале – черный платок. Ирка очень мне обрадовалась, стала нервничать и плакать, а Жека ковырял разбитую коленку и молчал. – Ты ведь нас не бросишь, правда, не бросай нас, когда ты рядом, я не вру и ничего плохого не делаю, а стоит тебе уйти, как плохое вылазит у меня вот здесь. Ирка выгибается и показывает. Мы с Жекой смотрим ей на спину между лопаток. – Ну? Ты меня простила? Ведь простила! Поцелуй тогда. Я опускаюсь на колени и целую Ирку. – И его тоже. Целую Жеку. – Не так, по-настоящему, взаправду. Я целую взаправду. – Лора хочет увезти Жеку. – Нельзя. – Я тоже говорю, как же можно, мы же с ним поженимся скоро, а ты тоже живи с нами, мне с тобой не страшно. – Ты же его сестра. – Это пока сестра, пока маленькие, а потом буду жена. – Я скажу Бабушке, пусть поговорит с Лорой. – Да, я уже все решила, жить мы будем вместе и ходить везде вместе, как будто нас не трое, а один. Я спрашиваю: – Жека, тебе отца жалко? Жека качает головой. – Конечно, спешит Ирка, чего его жалеть, гадину! – Мне котят жалко, говорит Жека. Мы замолкаем и слышим визг и хрюканье. Выходим на улицу. День ослепляет и падает жарой на плечи. В одном месте забор подрыт и повален, в проломе застряла большая свинья, она лежит на животе, лапы в стороны, и визжит. – Она поранилась! – Нет, смотри, какая морда довольная. Свинья умильно моргает и зарывает пятачок в землю. Мы присаживаемся рядом и тут же испуганно смотрим друг на друга. – Пахнет. Просто ужас, как пахнет. – Она пьяная. Надо убрать, а то Лора грозилась.. Мы толкаем свинью в голову. Бесполезно. Нас заметили приемные сыновья Раи, подбежали и стали тащить свинью за задние ноги, свинья утробно кричала, но мы ее вытолкали и кое-как приладили забор. И тут на крыльцо выходил Лора: – Где Шура? Меня тошнит, господи, как меня тошнит… – Лора, распусти волосы, – подхожу я к ней. Лора садится на землю и мычит. Ирка вытаскивает шпильки у нее из волос, и волосы падают вокруг Лоры на землю. Я глажу волосы осторожно и шепчу про черную землю и высокое небо, жирных червей под дождем и яблоки, которые падают и соединяют верх и низ жизни, и все уходит из головы Лоры в землю, и она покрывается потом. И Шура подходит к ведрам и пьет губами воду, потом кряхтит и усаживается под дерево на скамеечку чистить картошку, а вон моя Бабушка стоит у дороги и смотрит из-под руки на пыль, а в пыли – мотоцикл с Володей и Тэссой, и Рая, голая по пояс, вцепилась руками в забор и ищет кого-то или ждет, и Учитель, у которого болит голова, подсматривает за нею из-за кустов терна, и моя мать прогоняет большую пьяную свинью, ругается и старается пнуть ее ногой, и я еще успею удивиться, как это мы вдруг в одно мгновение все собрались вместе, и лето топит нас в золотой приторной жаре…
После шести часов успокаивающего сна главный психиатр потребовал у лечащего врача медицинскую карту неизвестного со шрамами на теле. Лечащий врач – легко краснеющая двадцатипятилетняя выпускница медицинского института, на его вопрос, почему в графе «наружный осмотр, показатели артериального давления, температура тела» стоит прочерк, пожала плечами и впала в сильную задумчивость.
– Ну, – сказала она минуты через три, – сердцебиение отсутствует, соответственно, и показатели давления… Да. А температура тела ниже указанных на градуснике отметок.
– Это же бред, – попробовал сопротивляться накатившему ужасу психиатр. Он подумал, что нужно отдать на химический анализ содержимое коньячной бутылки. – То, что вы говорите – бред! Этот человек ходит. Он дышит!.. наверное, – добавил психиатр уже неуверенно и потряс медицинской картой, – как вы отреагировали на подобную аномалию, скажите на милость!
– Будем лечить, – уверенно кивнула головой врач.
Патологоанатом категорически отказался уходить из психиатрической клиники, объясняя это необходимостью наблюдения за созданным им Властителем. Психиатр потихоньку завел медицинские карты на патологоанатома и на следователя, никак не просыпающегося после укола, но ставить их на учет и довольствие пока не стал. Однако, он счел своим долгом позвонить на работу обоим и продиктовал адрес, по которому в данный момент находятся эти двое мужчин. Не указывая названия учреждения.
Два санитара, доведенные до исступления летающими в комнате отдыха перышками, обрили налысо неизвестного со шрамами на теле.
Инспектор криминальной полиции, обнаруживший, наконец, хоть какую-то информацию о пропавшем следователе, немедленно поехал по сообщенному адресу и через сорок минут с некоторой оторопью рассматривал корпуса психиатрической клиники за высоким бетонным забором. Он прошелся пару раз у ворот с охраной, потом решился и достал удостоверение.
Его провели в палату. Три койки пустые, тщательно заправленные, а на четвертой – похрапывающий следователь. Инспектор постоял, подумал и решился. Он потряс следователя осторожно, потом сильней, потом приподнял слегка и пронаблюдал судорожное движение кадыка, когда запрокинутая голова безжизненно упала назад. Следователь открыл глаза после неуверенной пощечины. Он смотрел на радостного инспектора сквозь прищуренные веки, кривился и облизывал сухие губы.
– Что ты тут?..
– Вы живы, это главное! – объявил инспектор, – Вы не поверите! Из морга следственного изолятора пропала вся расчлененка, пропала голова, руки, тело старика и даже доставленные совсем недавно ноги, обнаруженные…
– Это ты подписался на лечение мальчика сильнодействующими средствами? – перебил его следователь, медленно садясь.
– Поскольку в тот момент родственники отсутствовали и подросток ввел нас в заблуждение своими заверениями о том, что он круглый сирота, после проведенной консультации с главным врачом больницы, я счел необходимым…
Следователь встал, пошатываясь, размахнулся и со всей силы ударил кулаком инспектора в челюсть. Инспектор упал на пол. Следователь упал на кровать, посмотрел в потолок минуту-другую, потом закрыл глаза и всхрапнул на первом же вздохе.
…– Ты всегда была странная девочка. Я тогда, помнишь, в десятый перешла, ты совсем была вот такая – Тэсса опускает руку под стол. Вранье. Я всегда была рослая девочка. Я лениво катаю шарик из хлеба. – Помнишь то лето? Просто сумасшедший дом какой-то, я и не знала, что люди могут так жить. Как ты всем мозги пудрила! И тебя почему-то все слушались, один Желтый бык чего стоит, слушай, а знаешь, почему все так было? – Знаю. – Почему? – Потому. Да.. Раньше ты была разговорчивей, как странно, теперь ты переходишь в десятый класс, неужели, вот ты бы, например, вышла сейчас замуж? – Нет, этот подвиг навсегда за тобой. – Да-а-а.. А Володя все-таки купил мне собаку. Большую и черную. – Я видела. – А оранжерею видела? Теплицу? Там великолепные цветы, я уже в апреле продаю вовсю. – Тэсса, неужели у тебя уже дети? – Нет, ну ты странная, ты что, не помнишь, как вы с Володей везли меня первый раз в роддом, ты еще плакала и говорила, что у меня нет никакого ребеночка, что я вру, а я положила твою руку на живот, а он стучит вовсю, а ты раскричалась: «дура, ненормальная, не нужен тебе ребенок!».. ну и еще по-всякому, ты что, не помнишь? – Нет. – Жаль. Я хотела спросить, почему ты так кричала, хотя ты всегда выдавала какие-то вещи, не подходящие по твоему возрасту. – Это и так понятно, почему он тебе не нужен был, ты же Володю не любила, «..а от любови бедной сыночек будет бледный..» – Замолчи! – А ты ударь меня, как тогда на чердаке. – Я? Тебя? Ты с ума сошла, давай не ссориться, лучше расскажи, какие у тебя сейчас идеи по спасению человечества. – Никаких идей. Пишу роман. – С ума можно рехнуться! – Забавно… Ты тоже помнишь, да? – Учителя? Ну конечно, и еще эту красавицу, мать Ирки, у нее были странные волосы – рыжие, а на висках седые, и она все время ходила полуголая, знаешь, она все та же, те же свиньи, теперь у нее еще и пятеро детей, кроме приемных от последнего мужа, и все вместе живут – дети и животные. Кошмар… Афродита. – Это дети Учителя? – Слушай, пока он не пропал совсем, все так и думали, но она же не захотела выйти за него замуж.., а как он появился, помнишь? Он же и потом в любую погоду ходил в рубашке и галстуке! – То лето было самым лучшим. Самым. Потом все кончилось. – А о чем роман? – Ах, мой роман… помнишь, как ты тогда издевалась над Учителем, опаздывала на первый урок физкультуры и говорила, что готовишь мужу завтрак, что он тебя бьет, если ты его не накормишь, корчила рожи?.. Как он тебя вывел из строя: – «Вы отвратительная маленькая женщина!», а ты так невинно: -«Ошибаетесь, я еще даже не девушка!» – Да, действительно, у меня месячные пошли только зимой. – Вот я и пишу роман о маленькой женушке, которая стала женщиной через полтора года после замужества. – Нет, серьезно? – Да, она сообщила своему мужу на свадьбе, что у нее еще нет месячных, она вроде как неполноценная, и они стали ждать, когда она созреет – главное ведь было убрать ее от ужасной матери, потом, когда она стала девушкой, это было зимой – муж разбил бутылку красного вина о стену дома и залил снег, и стоял на голове и пел песни. – Это было ужасно, у него совсем нет голоса и слуха! – А весной тебе исполнилось шестнадцать, это было так романтично, при чем здесь замужество? Тебе надо учиться, ты учишься и даже ходишь на этюды... – Как странно ты говоришь, мне казалось, что ты меня любила. – А мне казалось, что ты – не настоящая. Как будто ты послана мне в испытание! – Ну ладно, не кипятись, ну да, я была порядочной стервой и оттягивала свое посвящение в женщины, ты это хочешь сказать? Ради Бога, но у твоего романа, наверняка, нет таких натурных сюжетов, ты не все знаешь, я могу тебе подбросить немного семейного реализма. – Да я знаю, что ты подглядывала за Учителем и Раей. – Да! Подглядывала. Ничего красивей в жизни не видела, я ведь неплохо рисую, ну и дома изображала эти сценки, а потом… Многие девочки так себе делают, и в общем была вполне довольна своим положением девушки-жены. Володя стал вести себя правильно: ходил по квартире голый, просил, чтобы я его мыла, однажды нашел рисунки и тогда уже занялся мною всерьез. – Хватит «семейной натуры». – А ты меня не обижай, меня сейчас обидеть легко, я беременная и плачу по любому поводу. Я уже три года все время хожу беременной. Непроходящий живот. Расскажи лучше, как ты живешь. Когда вас было трое, все было хорошо, а сейчас мне даже не по себе, вы всегда были вместе, жаль, что вас разлучили. Сначала увезли Женю, он так орал, что порезал лицо и руки о стекло, никто и не подозревал, что стекло в вагоне так легко разбить, его же заманили на вокзал, не говорили, куда, господи, как страшно он кричал… И Бабушка умерла, и Ирку увезли обманом, теперь Лора совсем одна, и Шуру разбил паралич, и все вдруг развалилось на кусочки. Да, вас нельзя было разлучать. – А нас и не разлучат. Мы будем жить вместе. – Как это – вместе? – Очень просто, мы соберемся и будем жить втроем, нам нельзя врозь. – Знаешь, когда ты в детстве выдавала свои штучки, я все думала, что у тебя мозги опережают возраст, а теперь мне почему-то кажется, что наоборот! Ты же говоришь странные вещи. – Да ничего странного: Ирка кончила балетное, сейчас устраивается на работу в городе, который мы выбрали. Жеке – кончить техникум, а я в этом же городе буду поступать. Все очень просто, через год мы будем вместе. – С ума… рехнуться. Но вы уже не нужны друг другу, сколько лет прошло! – А ты мне покажи то лето. И Тэсса ведет меня на заброшенную веранду и расставляет свои рисунки, и на меня плывут Бабушка и Шура в жаре и пыли над дорогой, и прекрасная Рая ездит на свинье и подмигивает Учителю с гренадерскими усами, и Володя таращит глаза из-под милицейской фуражки, и черные розы стекают в землю кровью, и я понимаю, что все это не то и не так, но уже щемит и щемит в груди, я говорю: пропади все пропадом, чтоб вы все провалились! Будь все проклято…
Родители подростка Максима П. написали заявление, в котором они просили выписать сына из больницы под их ответственность. Оказывается, они сами живут не в Москве, а в Петербурге, сын раньше часто сбегал из дома и жил здесь у дядюшки. По поводу обнаруженных в квартире дядюшки женской головы и рук они ничего не знают – сообщено это было с поспешностью, которую следователь, присутствующий при разговоре, тут же про себя отметил. Из странностей, с которыми им пришлось столкнуться в процессе воспитания сына, они, поддакивая друг другу, сообщили следующие. Не разговаривает, а мычит с пяти лет, но они его понимают. Сам себя обслужить в гигиеническом плане хорошо не может. Панически боится воды. Обладает большой физической силой. Не видит разницы между живым и мертвым животным. На вопрос, почему они решили забрать сына из клиники, ответили, что отец ушел на пенсию и все время теперь посвятит ребенку. «Тем более, – добавила мать, – что жить ему осталось не так много.» Немая сцена. Удивлен даже главврач. «Ну как же, – женщина мнет в руках концы платка, завязанного под подбородком, – мне говорили, что дауны долго не живут…»
– Да ваш сын не даун, – возбудился психиатр, – с чего вы взяли? Вот, пожалуйста, мое заключение, он поступил в клинику на обследование…
– Спасибо вам, – поклонилась женщина.
– Минуточку, я должен подготовить выписку, осмотреть мальчика…
– Спасибо вам, – поклонился отец.
– Да это черт знает что! – закричал психиатр, когда убогая парочка, кланяясь, вышла в коридор. Он нажал кнопку селектора и потребовал привести больного Максима П.
Следователь подошел вплотную к сопящему толстяку с опущенной головой. На этой голове почти не осталось волос, только кое-где – кустиками. Он тронул мальчика за плечо. Мальчик увернулся. Следователь опять тронул его – ласково. Мальчик поднял голову, и на следователя посмотрели с иронией и печалью такие глаза!!
– Это он, да-да, я узнаю эти глаза, он также смотрел на меня, когда говорил про обезьяну. Обезьяна, она трясла половым членом, помнишь?.. – забормотал следователь, не в силах смотреть больше и удивляясь неожиданным слезам у себя на щеках.
– Он не может говорить, – заметил равнодушно психиатр, быстро что-то записывая.
Через два года инспектор успешно продвинется по служебной лестнице. Ему даже предложат перейти в следственное отделение Службы государственной безопасности, но он откажется и возглавит один из отделов в Управлении криминальной полиции. Следователь будет отправлен в отставку почти сразу же после выхода из психиатрической клиники. Учитывая образование и профессионализм, ему предложат место эксперта в отделе аномальных явлений Службы безопасности. Через два года из трех кукол, отправленных Кукольником на поиски, старуха умрет, брат и сестра повзрослеют и станут одинокими. Девочка, из-за которой, собственно, они и были сделаны, найдет их в большом городе на воде.
…– Нет ее здесь, ты же видишь! Ее здесь нет. – Пойдем в театр Эстрады, она мне писала про кордебалет. – Ее нет в театре Эстрады, Жека терпелив, но грустен. – Полина, а ты.. Ты летаешь? – Нет, с тех пор, как мы расстались – нет. Летаю, или нет, я найду ее, она написала, что подрабатывает в кордебалете после балетной студии. – Ни в какой студии она не занималась, ее приняли, а через месяц выгнали. Она поступила в театральное училище, я так обрадовался, а потом по вечерам стала пропадать. Оказалось – танцует в каком-то баре. Мы немного подрались, она несколько вечеров не могла уходить, у нее.. синяк под глазом был, короче. Это были самые хорошие два вечера, Ирка пекла блины и пела песни, а потом вдруг – бац! – обрезала волосы, господи, да ее, наверное, и в бар этот взяли, когда она волосы распустила! А тут приходит – и ни пикни, а то обреется наголо. Я, конечно, гад, я врезал ей еще раз, не сильно, больше для видимости, а она и говорит «А ты не боишься однажды очень крепко заснуть и не проснуться, я умею такие штуки делать с людьми?» И все. Как подменили. Издевается без конца, то хохочет, то плачет танцует вот так посреди комнаты и поет «.. я потерялась, я потерялась..», меня стала называть гегемоном, я как раз устроился по ночам в котельную. Когда про Шуру узнала, раскричалась. Сволочь, говорит, как обещала, так и сделала – действительно, ее кондрашка хватила! Жила она у меня не всегда, чаще в общежитии. Что я мог поделать? – Где она, Жека? – спрашиваю я шепотом. – Ее больше нет. Нет ее пока. – А где ее нет? Нигде. Полина, ты же знаешь, что такое смерть. – Она умерла? – Почти. – Почти не умирают! – Смерть – это переход из одного состояния в другое, согласна? Я согласна, я отупела от усталости и бесполезных поисков. – Так вот, она сейчас где-то есть, но в другом состоянии, и нельзя просто так пойти и забрать ее, это бессмысленно, не надо ей мешать, она найдет свою травку. – Ну конечно, собачка не умрет, собачка найдет свою травку, нам так Шура говорила, когда Топсик умирал, его отвязали, он ел траву, а потом ушел и не вернулся! Куда уходят собаки?! – Полина, мне тяжело, но я не знаю, что делать, если ты знаешь – делай, но только не навреди. – Где она?!
Она прячется в весеннем воскресении, она сидит запертая в квартире Макса на первом этаже – полуподвал, пока родители ведут Макса с обеих сторон за руки к церкви. Головы у них опущены. На Максе пиджак, отчего он все время поводит плечами, словно поеживаясь, куртка расстегнута, видна светлая рубашка и неожиданный черный галстук, на котором болтается маленький крестик. – Смотри на него, – шепчет Жека, – смотри на него внимательно. – Он же идиот?– Смотри, она теперь его. Эта тройка идет по набережной Фонтанки со стороны домов, иногда падает запоздавшая сосулька, грохоча в водосточной трубе, тогда Макс задирает голову и долго глядит вверх, улыбаясь. В церкви душно и темно, Жека сразу выходит, а я смотрю, как проходят они к алтарю, держа Макса с обеих сторон за руки и не выпускают, когда он дергается, пытаясь освободиться, проходить им втроем трудно. Отец стоит, понурившись, словно прислушиваясь, но ему и вправду нравится, как поют. Жека сказал, что в этой церкви в обед поют многие оперные из Театра рядом. Мать Макса все время молится, истово прижимая руку к горлу, захватывая платок, и потихоньку плачет, не переставая шептать. Потом Макс, уставший и потный, целует стекло, под которым лежит небольшая иконка и идет к выходу, сдерживаемый по-прежнему с двух сторон. Домой они идут той же дорогой, но медленней, отец с матерью переговариваются, отец остается у пивного ларька, а Макса ведет дальше мать. Освободившуюся руку Макс тщательно потирает, рукав трется о куртку и шуршит, Макс улыбается. Мать откликается на его улыбку подергиванием рта, и глаза ее теплеют. Но когда они подходят к подворотне, мать мрачнеет, старается быстрее пройти маленький дворик и забежать в подъезд. Ей это не удается: во дворик распахивается форточка, старческие руки вытаскивают из форточки дохлую кошку с раздробленной головой. Ты только полюбуйся, что творится! Твой дебил убил мою кошку, скоро ни одной кошки во всем доме не останется, я точно пойду в милицию, я, может, эту кошку купила, а мою собственность убили! Убили! Мать быстро подходит к форточке, ждет, пока кошку затащат обратно и осторожно протягивает деньги. Форточка захлопывается, становится тихо.
Дома мать раздевает Макса. Труднее всего отобрать галстук и крестик, но скоро все успокаивается. Макс уходит в свою комнату, которую он всегда запирает на ключ, а ключ держит на веревочке на шее. В двери комнаты проделана аккуратная круглая дырочка. Когда отец или мать смотрят в дырочку в комнату, Макс старается успеть ткнуть чем-нибудь в видимый глаз, при этом очень веселится. Сам он никогда в дырочку не смотрит. Раз или два в неделю мать решительно стучит в дверь, при этом гремит ведром. Макс тогда не противится, только настороженно следит за нею, поджав ноги на постели, пока она моет. Постель у него состоит из двух поролоновых матрацев, один на другом, темно-красной, в цветочек простыни и большого теплого одеяла. Матрацы лежат на полу, так как с кровати Макс падал, пододеяльники он не любил, все время в них путался. Кроме постели в комнате ничего нет из мебели. Жесткий плетеный коврик в подозрительных пятнах закрывает угол комнаты – там Макс хранит свои сокровища: две крысы в клетке, одна из них давно сдохла, посылочный ящик с кирпичом, под кирпичом лежит мелочь в узелке, узелок большой и тяжелый. Вечером иногда Макс брал этот узелок с собой и с довольным видом прогуливался по двору. Ест Макс на кухне, ему подвязывают большой слюнявчик, есть он любит, в еде привередничает. Мать тогда вздыхает, крестится и шепчет, вымаливая у Бога прощения, отец стискивает зубы и шевелит желваками. Самое сладостное и любимое времяпрепровождение Макса – охота. Крыс он поймал сам, в норах у воды, руками, никто не видел этого, при его неповоротливости это кажется невозможным. Иногда по вечерам, когда Макс, что-то бормоча, озабоченно ходил туда-сюда перед телевизором, отец и мать вдруг встречались глазами друг с другом и замирали, ощущая каждый, что подумал другой: думали, что Макс умрет еще в прошлом году, он и так слишком много прожил для своей болезни: четырнадцать лет.
– Почему она не смотрит в окно? – спрашиваю я, обходя крошечный закрытый с четырех сторон двор с причудливо вырезанным вверху кусочком неба. – Она никогда не смотрит в окно. – Каким образом она здесь оказалась? – Она спасла Макса, он ловил крысу, упал в воду, она его вытащила. Ты же знаешь, тонуть – это очень страшно. Она спасла меня, когда мне было пять лет, потом тебя, когда тебе было восемь, потом Тэссу. Она все время кого-нибудь спасает в воде. Я в детстве боялся с ней купаться, боялся, что все рядом начнут тонуть, пойдем на канал, я покажу, где это было, – Жека тащит меня за руку, я сопротивляюсь. Пойдем, она не выйдет и не посмотрит в окно, я просидел здесь почти месяц, бесполезно.
Распахнутое небо, первая яркая трава, я вспоминаю напряженное лицо Ирки, как это было со мной, когда она склоняется, набирая воздух, чтобы выдохнуть его в чужой рот, я вижу, как навстречу ей открываются глаза, полные отсутствия жизни, и высасывают разум. Отсутствие жизни – подчинение смерти – достаточно? Что она увидела? Что поняла? Чтобы пойти за невероятно толстым существом, раскачивающимся из стороны в сторону, словно каждый шаг приходилось отвоевывать у засасывающей земли? Как она говорила в детстве?… «Я всех буду спасать, потому что, вдруг это окажется заблудившийся Боженька» И вот Макс берет ее невесомо и перекидывает через плечо, унося добычей. Ирка пришла в себя через день на матраце в комнате Макса, а выздоровела так, чтобы вставать, через неделю. Она опомнилась как раз тогда, когда родители, связав воющего Макса, хотели вынести ее из его комнаты. – Мне хорошо, – сказала Ирка, – мне здесь хорошо. У вас есть раскладушка? Отец Макса сплевывает и уходит из комнаты, мать плачет. Потом все затихает, раскладушку ей не принесли, она разложила поролон, и Макс стал спать рядом, блаженно улыбаясь и трогая иногда ночью ее волосы и лоб осторожной рукой. Еду свою он теперь приносил в комнату. Сначала Ирка не хотела есть и не спала по ночам. Потом она почувствовала голод, руками быстро выбирала из тарелки, что получше, остальное отдавала. Макс как-то попробовал протестовать, но она замахнулась и зарычала, показывая зубы, Макс заплакал тонко и больше не перечил. Когда Ирка встала, она съездила в общежитие, забрала свои вещи и отвезла их на Исаакиевскую площадь в ломбард. От слабости ее пошатывало, была длинная очередь, но к вечеру она избавилась почти от всех своих вещей, оставив только те, которые не взяли по причине изношенности.
Добрела до Дворцовой площади, села на скамейку, пересчитала деньги. И поехала к Максу.
– По вечерам они с Максом тут гуляют, я их часто вижу. Вон там больше всего крысиных нор над водой, там Макс стоит подолгу и притопывает, в этом месте на канале гуляют только они и некоторые собачники. Каждую субботу Ирка моет Макса в ванной, напуская туда много пены и следя, чтобы он не опускался под воду с головой. Мыться Макс не любил, чтобы добиться своего, она иногда рычала, обнажая зубы, и выражение тихого восторга на его лице сменялось маской ужаса. Он ее боялся. Она подарила ему черепаху. Большую, флегматичную и невозмутимую черепаху. От черепахи Макс впадает в тихий восторг. Сдерживая дыхание и опустив голову до соприкосновения щеки с полом, он смотрит, как черепаха отсчитывает время равномерными движениями когтистых лап. Еще Ирка вырезает из плотной бумаги фигурки, делит их пополам. Макс идет на улицу, а она остается в комнате, я вижу из-за угла, как они играют на оконном стекле, передвигая фигурки с разных сторон стекла. Ирка стала писать стихи и даже говорить их вслух, но Максим тогда начинал волноваться и что-то бормотать, приходилось прикрикнуть на него и читать про себя. За это время она ничего, кроме афиш на улицах, не читала. Вспоминала любимые книги, но сердце ее тогда ожесточалось и вздрагивало. Они ее убьют. – Родители? – Да, я боюсь, что они ее убьют, потому что Максу теперь очень хочется жить. – Слышишь?! – кричу я, зажимая уши, – ты слышишь, как бьются бутылки Лоры о забор?
Мы ходим на этот вонючий канал каждый день, сначала я пугаюсь бросающихся в воду крыс, а потом привыкаю. Ирка с Максимом приходят часто. Однажды мы с Жекой заметили, что Ирка как бы водит нас по городу, по определенным местам. Через Калинкин мост, потом по Фонтанке, переходя на каждом мостике реку туда-сюда, иногда в тяжелом тумане ничего с двух шагов не было видно, и только сердце на ощупь находило этот серпантин – ровно до того места, где у Никольской с одного мостика, с одного только определенного места видно одиннадцать мостов сразу. Одиннадцать, если ночь прозрачна. Макс нас заметил и стал нервничать. Меня и Жеку это обрадовало, но потом урод привык, и я совсем впала в отчаяние, я запомнила этот маршрут до последней выбоинки, до самой тонкой трещинки в асфальте – прожилки на обнаженной каменной ладони, которая держит нас, изучая пучеглазыми фонарями. А там и осень забралась в окно на подоконник, с ногами. Жека работал по ночам, с непрекращающейся прогулки он шел на работу, а я – к осени, в холодную комнату, но однажды мы заметили, как Ирка складывает что-то из камешков под деревом. Мы дождались, когда они уйдут, и увидели, что это секрет-вопрос. Мы с Жекой не пошли за ними в бесконечное гуляние по реке, мы взялись за руки и поплясали, и тут же из этих камешков выложили секрет-встречу. – Я пойду к ней сегодня ночью! – А я не пойду, – насупился Жека, – я боюсь. – Ты думаешь, она заметит наш ответ? – Ну, если Лиса не придет и не разломает…
Ночью я подошла к окну, осторожно приоткрыла его и понюхала воздух. Вовсю пахло Иркой. Я влезла, сдерживая дыхание, она тут же обхватила меня теплыми руками, и стиснула, и замерла. Мы сели на пол у стены и слушали сон Макса. – Ты знаешь, – сказала Ирка, – я с ума рехнулась. А Шура в доме для престарелых. Я не отпускала ее ладонь. – Ненавижу ее, гадина! – Что ты несешь? – Она предала меня и Жеку, говорила, что любит нас, что мы всегда будем вместе, а сама бросила. Угрожала все время, что ее кондрашка хватит, и от злости так и сделала, а ты тоже хороша, куда ты провалилась, все вы такие, убирайся, ненавижу... – Мне было очень плохо без тебя, не ругайся. – А я не ругаюсь, если он проснется, он убьет тебя, он кошек запросто убивает одним ударом по голове. Он может поймать крысу! А у меня не получается. – Не убьет, почему ты волосы остригла? – Чтобы ты ничего не смогла мне сделать, чтобы ты не распустила их до земли, чтобы не говорила про червяков с яблоками. – Ты помнишь? Я же просто так бормотала, первое, что в голову придет! – Нет, ты заговаривала, заговаривала! Я остриглась, чтобы не было больше твоей власти. А вообще… я все время делала какие-то гадости, я перестала понимать людей, они все время о чем-то хлопочут, а мне смешно… С ним хорошо, она кивает на урода, его мир реален. – А что будет после него? – Тогда меня заберут. Если он умрет, меня заберут. – Куда? – Родители Максима врача вызывали, врач спрашивал, что я вижу в чернильных пятнах, у него руки пахли табаком, и зубы желтые, я не смогла прочесть алфавит наоборот, а ты можешь? Когда он умрет, родители позвонят, я подслушала, а пока они вроде как за мной ухаживают. Смешно, я их и не вижу-то. – А ты не хочешь к нам с Жекой? Из водосточной трубы рядом с окном вытек дождь, мы смотрим друг на друга и молчим. – Если вы придете за мной. Если успеете, а вообще мне все равно.
На следующий день мы заметили, что Макс очень сдал, он словно потерял что-то, он смотрел на меня с таким ужасом, что мы с Жекой решили прятаться и не попадаться ему на глаза. – Он что, видел тебя вчера? – Нет он спал, он просто чувствует. – Он же!.. как это, они не чувствуют, а он не мог притвориться, что спит? Он не убьет ее? – Не мучай меня, я ничего не знаю, он просто теряет ее. Ирка была безразлична, часто задумывалась, смотрела вверх на небо и не обращала на него никакого внимания. Макс старался рассмотреть, что она видит там, вверху, но спотыкался и падал, и боялся не догнать ее потом. По ночам уже подмораживало. – Жека, ты постарайся быть с нами рядом, когда он умрет. – Куда я денусь, – у него дрожат руки. – Нам сразу всем троим надо будет… – Что будем делать? – Я не знаю, Жека, я ничего не знаю, но мне кажется, что она знает, нам только надо быть вместе.
Она не стала дожидаться его смерти. На прогулке сама подошла к нам. Слабо улыбнулась – Мне нужно забрать свои вещи. А Жека сказал: – Так это же прекрасно, лучше и не бывает, чем забирать вещи! – и мы пошли с ней в квартиру, а Жека остался на улице, и Ирка просто сидела и ничего не собирала, а я боялась ее спугнуть, и тут Жека крикнул и побежал в подъезд, а я сразу же увидела «Скорую», и что окно заколочено гвоздями. – Когда окно забили?! – Вчера… Я рванула Ирку за руку и потащила в коридор. У кухни на полу – засохшая кровь. – Не смотри, Полина, не смотри. Я открываю дверь от себя в кухню и застываю: отец и мать урода сидят за столом. Они… Они выпотрошены!.. Я оборачиваюсь медленно назад и смотрю на застывшее лицо Ирки. – Так много крови, да? – говорит она, – Бедный Максимушка, что же он наделал! А помнишь, как я петуха бельевой веревкой – раз! И все… – Надо уходить. – Нет, постой, ты думаешь это он из-за меня? – Я ничего не думаю, надо уходить! Постой, ты думаешь!.. – Где он? – Не знаю, спрятался где-то. Хочешь, позову? – Не надо. – Хочешь?!! – Не надо, Ирка, не надо. Он их съел. – Замолчи. – Точно, съел! – Давай перестанем разговаривать и просто уйдем. Я видела его лицо – рот в крови. Я помыла его и повела гулять. Я думала, он съел крысу… нет, я знала. Я почти знала, я подумала! Куда ты меня тащишь, ты мне веришь? – Верю, Ирка, я тебе верю, но если мы сейчас не выйдем из квартиры, мы перейдем в другое состояние, понимаешь? – Почему? – Потому что я слышу милицейскую сирену. Врачей Жека еще может уговорить, а вот милицию… Открывай дверь. Ирка прислоняется спиной к дермантину, расставляет руки в стороны и опускает вниз голову. – Мы что, оставим его здесь? – Его здесь нет. – Как это нет, а кто сожрал этих двоих на кухне? – Его здесь нет, пока мы его не увидели, его нет. Открывай дверь! – Я его нашла и не могу просто бросить, – она говорит так обреченно, так страдальчески, а сама щелкает замками.
Мы рванулись по лестнице вверх, а в подъезд уже входили мужчины в форме, Ирка, наконец, словно проснулась и в азарте, шутя, распахнула наверх от себя крышку чердака, мы взобрались по отвесной лестнице и посмотрели на Жеку вниз. – Нет, меня вам не осилить, я вам здесь помогу, давай, Поля, ну давай же!! А я ничего не могла давать, у меня тряслись губы и руки, я не могла вздохнуть, потому что кололо слева в груди, и все плакало и задыхалось, а Ирка смотрела насмешливо и улыбалась, а под крышкой на чердак уже слышались разговоры, Жека что-то спокойно объяснял. Ирка тряхнула меня за плечи: – Я сейчас умру, да? – Ты не умрешь. – Тебе меня не осилить, так ведь? Ты боишься, да? Мне показалось, что она радуется моему страху. – Это же так просто! Надо только сильно вздохнуть! – она вся сияла. – Помнишь, как ты таскала нас в детстве, летающая девочка? – Я не могу.. – Это же очень просто! Знаешь, почему я не боюсь? Потому что я давно мертва, как же ты не догадалась? Послушай мое сердце, послушай! Сделай мне искусственное дыхание, оживи! – Она тащит мою руку к себе, я сопротивляюсь. – Ладно, смотри – она обхватывает мою ладонь ледяными пальцами: – Я тут кое-чему научилась, пока привыкала к жизни, ты только не вздумай подумать, что мы грохнемся на землю – девять этажей! – с тебя станется. – Я не подумаю, я не подумаю, – твердила я как заклинание. – Ну то-то же! Мы подошли к краю крыши и посмотрели вниз, и я вдруг тоже обрадовалась, и перестало колоть, я еще хотела что-то сказать по этому поводу, но Ирка шагнула с крыши легко и незаметно и потащила меня за руку, и сначала я почувствовала, как ей тяжело, но не дала себе испугаться, а потом стало невесомо, и Жека бежал по узкой улице и махал нам руками снизу, и падал, и опять бежал…
В перламутре времени ее рука тысячу раз проскальзывает у моих глаз – веточки переплетений на ладони, длинные тонкие пальцы – прощальное движение, плавное и тоскливое до тошноты.
«Из протокола осмотра места происшествия:
... обнаруженные в квартире тела принадлежали гражданке и гражданину …, которые по документам на момент смерти являлись мужем и женой. Отсутствие у них некоторых внутренних органов на момент осмотра нами замечено не было. Это прибывший врач потребовал провести дополнительный обыск на предмет внутренних органов, а именно: печенки – 2 шт., сердце – 2 шт., легкое – 1 шт., для чего нами был осмотрен холодильник. Пропавшие внутренние органы в квартире не найдены. Приглашенные понятыми соседи проявили при поиске некоторую нервозность, что выразилось в рвотных извержениях. Младший сержант Потапов, тоже не выдержал поиска пропавших внутренних органов и после медицинской помощи путем вдыхания нашатыря, был отправлен на улицу, где следовало осмотреть еще два тела – юноши и девушки. Девушка, оказавшаяся по показаниям свидетелей (см. перечень), высоко над землей, совершала действие, несвойственное человеческому организму, а именно – передвигалась в воздухе на достаточной высоте без подручных средств и механизмов. Чего-то испугавшись, она упала с высоты приблизительно шестидесяти метров на бежавшего внизу и пытавшегося ее поймать юношу, что привело к смерти обоих. По показаниям свидетелей, она испугалась находящегося на крыше неизвестного, обритого высокого человека в больничной рубахе, босого, который размахивал руками, привлекая к себе внимание, из-за чего мною на крышу был послан наряд. Обнаружить данного субъекта на крыше не удалось. Тела юноши (по предварительному осмотру смерть наступила от черепно-мозговой травмы) и девушки (по предварительному осмотру смерть наступила от приобретенных при падении повреждений, несовместимых с жизнью) отправлены в морг следственного изолятора. Никаких документов при себе они не имели, объяснить свое поведение не смогли вследствие мгновенной смерти. Девушка предположительно была опознана соседями, как некая Ирина Г., проживающая в квартире убитых супругов П. несколько месяцев. Юноша был опознан соседями, как подозрительный молодой человек, представившийся братом Ирины Г., разыскивающий некоторое время назад свою сестру и расспрашивающий о ней соседей.
В квартире №.. был обнаружен гражданин Максим П., который также не мог объяснить ни свое странное поведение – он заперся в туалете и не открывал – ни то, что случилось с его родителями, поскольку наблюдается в психиатрической клинике, имеет диагноз и по показаниям соседей вообще плохо разговаривает. Максим П. был отправлен в следственный изолятор по подозрению в совершении насилия и акта каннибализма над своими родителями.
Что касается виденной некоторыми соседями и лично младшим сержантом Потаповым девушки, которая сопровождала в воздухе впоследствии упавшую неизвестную, то ее поиски ни к чему не привели, и вызванный для осмотра прилегающих районов вертолет никого в воздухе не обнаружил.»
«Начальнику следственного отдела Управления криминальной полиции
Докладная записка.
Прошу обратить ваше внимание на некоторое несоответствие в документах следствия. Кровь на одежде задержанного Максима П. оказалась не человеческого, а животного происхождения, скорее всего, грызуна. Результаты экспертизы были посланы исполнительному следователю, но в деле отсутствуют.
То, что по вашему личному ходатайству осужденный четырнадцати лет был отправлен в колонию для несовершеннолетних, а не в тюремную клинику для умственно отсталых подростков, говорит о некоторой предвзятости в отношении к Максиму П. Отделом №… внутренних расследований Управления заведено дело по факту исчезновения отправленного в колонию подростка и двух его конвоиров.
Прошу указать, не имеете ли вы личного отношения к этому делу в силу определенных причин, и если имеете, то оцените профессионально степень вашей личной предвзятости, поскольку поспешность, с которой это дело было проведено, и ваше желание лично его курировать, на мой взгляд, только повредило правосудию.»
Эксперт отдела № .. (аномальные явления) внутренних расследований Управления,
в бытность свою – исполнительный следователь.
Подпись.
Код 21 06 доставка курьером
« Эксперту отдела внутренних расследований
Могу с вами встретиться сегодня в здании районного суда на Неглинке в пять.»
Начальник следственного отдела Управления,
в бытность свою – инспектор криминальной полиции.
Подпись.
В здании суда оказалось так многолюдно, что эксперт – пожилой человек с белыми волосами, зачесанными назад и собранными в хвостик, пышными, тоже белыми усами и красиво отбритой бородкой – клинышком, послонявшись по коридорам среди чужих переживаний и боли, решил отправиться в архив, и уже достал удостоверение у металлической двери с окошком, когда кто-то взял его сзади за локоть.
Бывший следователь резко повернулся, с некоторым удивлением рассмотрел улыбающегося мужчину в строгом костюме, с тонкой папочкой под мышкой, худого и немного растерянного, и только поймав глазами бегающий взгляд, узнал бывшего инспектора.
Они прошли на первый этаж и устроились в буфете за столиком. Здесь посетителей не было, кое-где сидели служащие суда, можно было курить. Старик достал портсигар и с удовольствием наблюдал, как скривился человек напротив.
– Так и не курите, инспектор? Можно вас так называть – инспектор? Здоровый образ жизни, я помню: кефир, прогулки… – старик затянулся и прятал зажигалку, когда инспектор вдруг достал трубку и привычно уложил ее кончик во рту.
– Так, балуюсь иногда, – объяснил он удивленному старику, – думать помогает, и вообще…
– И вид придает, да? – прищурился старик. – Не будете раскуривать?
Инспектор покачал головой. Они посидели в молчании, потом вкратце описали каждый свои профессиональные продвижения. Причем, инспектор в момент описания стариком его отставки, спокойно и даже скучно признался, что на эту отставку могла повлиять его, инспектора, докладная о рукоприкладстве бывшего следователя. Не оставшись в долгу, следователь признался, что в данный момент он ведет закрытое расследование по факту исчезновения подростка и двух конвоиров, и что именно по его инициативе на инспектора – теперь начальника отдела – заведено дело.
Инспектор в этом месте беседу оборвал и пошел к стойке. Принес две чашки кофе. Выслушал благодарность следователя – невнятное бормотание, уселся, отхлебнул свой кофе и раскрыл тонкую папку.
– Давайте попробуем поговорить непредвзято. Представим, что мы еще работаем вместе. Вы – мой начальник, я ваш подчиненный. Я обнаруживаю в деле о расчлененке кое-какие неясности и по молодости с глупым напором тормошу вас. Согласны?
– Валяй, – кивнул следователь, задержавшись взглядом на листках в папке. – Только по делу и немногословно.
– Принято, – чуть улыбнулся инспектор. – Итак, факт первый. Осужденный на пребывание в колонии для несовершеннолетних Максим П. четырнадцати лет исчез после отправки его железнодорожным транспортом из Петербурга к месту назначения вместе с двумя конвоирами, сорока шести и пятидесяти двух лет, служащими государственного охранного агентства по перемещению заключенных.
– Вопрос, – перебил следователь, – почему осужденный направлялся не вместе с другими заключенными?
– Потому что в этот день все направляющиеся к месту пребывания заключения осужденные имели достаточно большой возраст, то есть были категорически взрослыми и умудренными тюремным опытом людьми. Я счел подобный трехдневный контакт подростка с матерыми уголовниками нецелесообразным и лично ходатайствовал об изоляции Максима П., для чего была необходима, как вы сами понимаете, и отдельная охрана.
– Второй вопрос, – кивнул следователь, приняв объяснения, – почему охранники со стажем? Почему не просто спецназ, как это принято, или военное подразделение?
– Честно говоря, я не очень в это углублялся, но знаю, что начальство послало запрос в охранное агентство, не желая ссориться с адвокатом подростка, который мог потребовать профессиональной охраны по закону: несовершеннолетние перевозятся отдельно от взрослых осужденных и охраняются профессионалами.
– Итак, – следователь допил свой кофе и мрачно разглядывал жижу на дне чашки, – подростка поместили в отдельный вагон с двумя профессиональными охранниками. И на ближайшей же остановке было обнаружено…
– Что вагон исчез. Это и было обнаружено. Вагон для спецперевозок с решетками на окнах и опломбированными дверьми исчез, – инспектор откинулся на спинку пластмассового стула и прикрыл ладонью листки. Старик заметил этот жест.
– А двери были опломбированы?..






