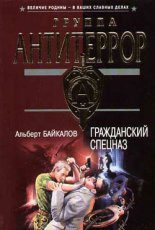Супердвое: убойный фактор Шишков Михаил

Я взял в руки этот таинственный предмет и пустился в долгие размышления над своей ролью в этом воспоминательно-созидательной операции, легендируемой как «сочинение романа». В этой запутанной игре, ведущейся по каким-то странным и недоступным пониманию правилам, роль мне отводилась самая безыскусная – болванчика-литератора. Впрочем, Трущеву тоже не раз приходилось влезать в шкуру Prugelknabe[45]. В этом мало почета, но что-то героическое в готовности не рассуждая напялить на себя рога, проглядывалось. Ответом на мои сомнения послужили слова Трущева, записанные неизвестно когда, неизвестно где.
«…Я был готов к подобной перспективе. Мимолетом задумался – неужели все так глупо закончится, и согласие, о котором я столько твердил своим подопечным, есть нонсенс, мечта, скукоженный идеал?
Стало обидно, захотелось покаяться.
Но кому? Акулам капитализма, бороться с которыми с такой яростью призывал Карл Маркс?
Анри Хентш, Жан Гедеон Ломбард, Шарль Одье сурово смотрели на меня со стен этого древнего финансового заведения. Древность подтверждала надпись под часами – 1796 год.
По-видимому, это была дата основания банка.
Не стану утверждать, будто именно Хентш – сердитый старик с седыми бакенбардами – попытался внушить мне, чтобы я не терял головы. Может, это был Шарль Одье, тоже внушительный эксплуататор, или сам Ломбард, полтора века назад основавший этот мировой оплот капитализма. По идейным соображениям я, конечно, не мог согласиться с классово чуждым тезисом, доказывавшим, что главной добродетелью, к которой должен стремиться каждый человек, является прибыль, однако с утверждением, что добиться ее непросто, для этого нужны терпение и труд, не поспоришь. Впрочем, если считать прибыль результатом, в их рассуждениях было много верного.
Эта игра в слова помогла успокоиться, заняться насущным вопросом, как без шума исчезнуть из этого учреждения, если Второй окажется двурушником.
Чем он, кстати, занимался в тот момент? Подписывал необходимые бумаги или доказывал, что следует немедленно позвонить в Бюпо, швейцарский вариант секретной полиции?
В расчете на разум, на возможность согласия, я склонялся к первому варианту.
Наконец дверь распахнулась, и Еско, теперь уже наследник многомиллионного состояния, вышел в зал. Он был взволнован. Я понимал его, не каждому советскому заключенному была предоставлена возможность в одночасье из врага народа превратиться в миллионера, имеющего солидный счет в швейцарском банке.
Он вышел не один. Рядом с ним шествовал очень представительный господин, настоящая акула капитализма. Господин, представившийся совладельцем банка Альбером Ломбардом, с нескрываемой радостью поздравил меня с выдающимся событием – спустя годы мой воспитанник наконец получил доступ к семейному достоянию. Затем он предложил мне открыть счет «у Lombard Odier». Второй едва успел придавить улыбку. Я был согласен с ним – это было одно из самых забавных предложений, которые мне приходилось слышать в своей жизни. Мне нестерпимо захотелось предъявить господину управляющему партийный билет. Интересно, будет ли он и в этом случае настаивать на своем предложении?
Господин Ломбард, будто догадавшись о моем тайном желании, пообещал – наши сотрудники окажут вам «и вашим товарищам» любую помощь в «комиссионных сделках», которые «непременно пойдут на пользу обществу».
Мы поспешили откланяться.
На улице Второй резко помрачнел и сразу предупредил:
– Не радуйтесь. Завтра я должен еще раз появиться в банке. На этот раз отпечатки пальцев брать не будут, но кое-какие бумаги придется подписать. Как поступим? Снова посадите меня под арест? И как быть с автографами?
У меня мелькнуло – «поэтому он не сбежал?!»
Вслух я успокоил его.
– Не ершись, Еско. Что-нибудь придумаем. Давай-ка погуляем по городу. Говорят, в Женеве есть удивительные цветочные часы, пойдем посмотрим, что это за чудо такое.
Я не имел права упоминать о Светочке, ради которой внес это предложение, но упомянул. Мне просто необходимо было взять паузу.
Второй с нескрываемым удивлением посмотрел на меня.
– Никогда бы не подумал, что вы способны любоваться цветами.
Я невозмутимо обратил его внимание на окружающий пейзаж.
К тому моменту мы вышли на набережную. День был пасмурный, и Монблан прятался за тучами, но все равно Женева была полна чудесами, одним из которых являлся необыкновенно чистый и целебный воздух.
– Как легко дышится! – восхитился я. – Правду говорят, здешняя атмосфера способна творить чудеса.
Затем я обратил внимание Второго на северную часть Женевы.
– Видишь дома в той стороне? Это квартал Сешерон, там жил Ленин. Он тоже останавливался в «Савое». Сегодня нам с тобой придется совершить экскурсию в эту гостиницу. Только без глупостей. И не тревожься насчет автографов. Вспомни, как вы под гипнозом тренировались в Москве. Ваши подписи практически неразличимы даже для специалистов.
Устроить встречу «близнецов» нам помог сам Ротте. Как часто бывает в оперативной работе, удача в нашем деле не последнее дело. Случайность может погубить, а может спасти. Гауптштурмфюрер не меньше нашего обалдел от чистого женевского воздуха и в ресторане, куда пригласил его Первый, налакался так, что подцепить его на женщину оказалось не так сложно. Эту партию Первый провел на «отлично». Он предложил фронтовому товарищу «развлечься» перед завтрашним посещением «доверху набитого купюрами заведения». Тот ответил: «Ура!» Ты настоящий друг, Алекс. Надеюсь, ты ссудишь меня небольшой суммой наличными на все те безумства, которые я намерен совершить?»
Уладив деловую сторону безумств, Первый уступил номер закадычному Ротте, а сам в сопровождении хорошенькой горничной направился на шестой этаж, где было множество пустых дешевых комнат. Туда же к назначенному часу я доставил Еско…
Мы встретились в скромном двухместном номере с туалетом и душем. Интересно, не здесь ли останавливался Владимир Ильич?..»
Глава 3
«…я позволил ему уйти. Это было рискованное, граничащее с преступлением решение. Главное, чего я боялся больше всего, – не дать Второму уйти далеко, иначе парень может наделать глупостей. Я дал ему пару минут, затем двинулся следом. Это был самый трудный момент. Если не удастся изловить его возле дома, тогда и портсигар не поможет. На всякий случай я прихватил его с собой.
Мне повезло. Я засек Второго на перекрестке. Остальное было дело техники, в управлении меня считали неплохим топтуном, и я незаметно двинулся вслед за ошалевшим от воздуха свободы зеком. Когда барончик вышел на Новую площадь, оправдались самые худшие мои предположения. Второй не раздумывая направился к стоявшему на перекрестке полицейскому, что-то спросил у него, затем, иуда и двурушник, направился в сторону полицейского участка…
Я прибавил шаг…»
«…уловки Трущева. В нем было что-то от глуповатого пингвина. Он почему-то решил, что является ответственным за меня человеком. Всю ночь я не спал. Швейцарский оплот – мой последний шанс, глупо не воспользоваться им».
«…Ушел легко, в 10.05, сразу после завтрака, через заднюю дверь. Даже если Трущев позволил мне уйти, это ничего не меняло.
Хватит!
Я досыта наелся социализма!!!»
«…теперь куда? В полицию?!
Мне стало не по себе – так сразу? Сломя голову?!»
«…вчера я не задумываясь ринулся бы навстречу свободе. Воздух Европы пьянил. Ночь казалась нескончаемой. От мыслей покоя не было. Еще вчера мне казалось, что стоит только обратиться к властям за содействием, как все мои злоключения в стране большевиков и за ее пределами закончатся и я обрету статус свободного, неприкасаемого человека. Я потребую встречи с журналистами – уверен, моя история привлечет их внимание. Конечно, не следует распространяться насчет порядков в сталинских лагерях. Сейчас здесь этого не любят. Моя задача – отрезав себе путь к отступлению, сохранить жизнь, поэтому следует вести себя умно, сказать пару добрых слов о героизме солдат вермахта, о решимости красных сражаться до конца. Тогда у местных правых вряд ли хватит наглости объявить меня, обладателя многомиллионного состояния, советским агентом, а местные левые поостерегутся называть двурушником или, того хуже, троцкистом.
Вчера меня сдерживало присутствие Трущева. Что если он застрелит меня на пороге полицейского участка или во время пресс-конференции? С него станется. Вот почему я решил подождать до утра.
Удивительно, почему Трущев ни разу не заговорил со мной на эту тему. Почему не стращал с самого момента прибытия в Женеву? Почему не давил на психику – мол, родина дала тебе шанс, оправдай ее доверие.
Иначе…
Понятно, что до получения доступа к деньгам этому пингвину нечего было опасаться. Тогда почему после посещения банка он вместо наручников в виде этой громадины Ольги, свихнувшейся на обязанности «всякого порядочного человека» помочь «истекающим кровью русским», пригласил на прогулку, предложил полюбоваться цветочными часами? Зачем упомянул о приемной дочери, о том, как этот вшивый продажный медиум вылечил девчонку от немоты?
О-о, я догадался на рассвете – это был тонкий психологический ход! Он решил давить на психику – это я, мол, пригласил тебя на танец, так что прояви сознательность, обопрись на данное слово, вспомни о Тамаре, вспомни о сыне.
Конечно, танцы – это всегда интересно, но я еще не сошел с ума. Прощай, Тамара, прощай, сынок! К сожалению… Может, мне удастся вытащить их из Страны Советов?
Потом…
Когда-нибудь?..»
«…вспоминаю и не могу вспомнить, с какого момента начался отлив. Скорее всего, с посещения кинотеатра, где я вволю насмотрелся «Дойче вохеншау» («Die Deutsche Wochenschau»), в котором были показаны боевые действия на Восточном фронте и прочая нацистская абракадабра. Я взирал на нескончаемые потоки пленных красноармейцев, на разбитые русские танки, любовался горящими хатами, на которые возмущенный Гарри Гизе, диктор этой кинопрокламации, требовал обратить особое внимание. Сожженные деревни, труппы мирных жителей были представлены как расправа комиссаров с теми жителями, кто хотел послужить великой Германии.
Я всегда полагал, что Германия – великая страна, но только не в этом, жутком до оцепенения, до тошноты в желудке, смысле. Неужели они там, на родине все с ума посходили? В этих мертвецах, в тех мертвецах, которых я видал во время поездки в медсанбат к Тамаре, было много правды. В этом я не мог отказать диктору, но называть их жертвами комиссаров было чересчур.
Я не хотел в этом участвовать. Не хотел, и все тут. Я хотел спасти жизнь, обрести свободу, но мысль о том, что добиться этого в объятиях великой Германии невозможно, окончательно испортила мне настроение.
Легче выжить в танце с Трущевым, на которого, по крайней мере, можно положиться и который не станет стрелять у меня рейхсмарки, чтобы напиться и трахнуться с продажной девкой.
Тем более что красные в конце концов возьмут верх.
Я знал, о чем говорю. В лагере под Владимиром, где до декабря содержали немногочисленных пока немецких пленных, меня пытался сагитировать некий национал-социалист. Hans im Glck[46] не сомневался в победе. Он взывал к голосу крови. На все мои сомнения отвечал убийственной по бессмысленности фразой: «Фюрер обещал, без пяти двенадцать Москва падет!»
Впрочем, он был не один такой упертый. Все мои соотечественники были уверены в том, что рано или поздно Германия сломает хребет большевикам. Чего я только не наслышался – красные не умеют воевать! Их гонят на пулеметы! Они то, они се, но как только в лагерь дошла весть о разгроме под Москвой и в бараки начали свозить обмороженных, ошалелых вояк, свидетельствовавших, что они чудом избежали гибели, – все, как по команде, затаились. Даже мой агитатор-стукач, простой бухгалтер из Мюнхена, член НСДАП с тридцать третьего года, признался, что с начала декабря пленные впервые начали открыто обсуждать судьбу Наполеона и его армии»[47].
«Я вышел из кинотеатра уже далеко не с тем энтузиазмом, с каким сбежал из конспиративной квартиры.
Была половина одиннадцатого по местному времени. Уличных часов в Женеве было хоть отбавляй. Вид этих неумолимо шествующих стрелок сводил с ума, заставлял искать убежище.
Очнись, ты в Женеве! Алле, дружище, проснись, ты на свободе!!
По инерции, пока добирался до Новой площади, еще фантазировал – прочь сомнения, пора взрослеть, пора переходить на прочный, увесистый «дойч», на котором скоро будет разговаривать вся Европа.
На площади, как раскат грома, – идиот!!!
Неужели у тебя, падлы, с головкой плохо, фраер ты неумытый?! Неужели тебе, твари дрожащей, непонятно, что, сбежав от Трущева, ты остался один и тебе некуда идти?! Неужели тебе, окурку вертухая, непонятно, что оказавшись в руках местного Бюпо, тебя очень скоро передадут в руки костоломов из гестапо, и никакой Шахт, никакой Майендорф не спасет тебя, суку потную! Наоборот, дядя Людвиг, чтобы сохранить лицо, только подбавит жару. Неужели доблестная Швейцарская Конфедерация станет портить отношения с тысячелетним рейхом, будь он трижды проклят, из-за какого придурка, обманным путем завладевшего отпечатками пальцев барона Алекса фон Шееля?!
Не надо тренькать, Леха! Ты теперь Леха и на всю жизнь останешься Лехой. Если здесь забудут, в гестапо напомнят, к тому же красные не упустят возможность сообщить, что это я сдал отца.
Это было ясно, как дважды два четыре!
Зачем тогда эти несчастные миллионы, которые больше десяти лет дожидались меня в женевском банке? Их выколотят из меня, затем отправят в лагерь. Ни Тамаре, ни Петьке ни цента не достанется.
Веселенькое дельце…
Бежать во Францию? В страну Виши? Чушь!! К маки за помощью не обратишься, а полицейский режим там тоже налажен.
Чутье подсказывало – ну их, эти «измы»! С такой «свободой» ты очень скоро останешься без головы. Выход один – продолжать танец с человеком, которому доверяешь. Это было легче сказать, чем сделать.
Окончательно пришиб меня полицейский, зачем-то торчавший возле Оперного театра. Я издали, шестым (разведывательным?) чувством почуял – он обратил на меня внимание. Значит, мне не избежать проверки документов. По словам Трущева, наши бумаги способны выдержать поверхностный просмотр. А если прокол? Если у полицейского возникнут подозрения? Надо взять себя в руки!
Поздно.
У меня было всего несколько секунд. Один из уроков энкавэдэшников гласил – если на тебя обратили внимание, не пугайся и ни в коем случае не меняй выражение лица. Другими словами, возьми себя в руки и ищи оправдание данному эмоциональному состоянию.
Полицейский уже вовсю смотрел в мою сторону.
Я по наитию направился к нему, спросил – не подскажет ли герр начальник, как мне пройти в полицейский участок?
Тот несколько успокоился – подозрительный тип сам решил сдаться властям. Он указал дорогу и спросил:
– Беженец?
– Так точно, господин вахмистр. Социал-демократ. Скорее демократ, чем социалист.
Полицейский кивнул и неожиданно подбодрил.
– Держись, товарищ.
Слова, услышанные в центре Европы, прозвучавшие из уст цепного пса буржуазного режима, потрясли меня до идиотизма. Я нелепо сжал правую руку в кулак и, только намекая, чуть приподнял ее в характерном жесте. Полицейский улыбнулся еще раз, одобрительно кивнул и подтвердил направление – ступай туда.
Я на негнущихся ногах двинулся в указанную сторону, не сразу сообразив, что так и топаю с задранным кулаком. Я тут же опустил руку.
Зачем поднял кулак?! Зачем дал клятву, ведь меня никто не принуждал?! Кто заставил тебя прикинуться красным? Женевский полицейский?! Разве он требовал от тебя спасти свою жизнь обещаниями содействовать следствию? Он всего-навсего учуял в тебе германского шпиона, а ты сдрейфил.
Все-таки мы, немцы, неистребимый по части исполнения долга народ. Мы, русские, в это смысле куда грубее и своевольнее. Если что-то вбили себе в голову – например, насчет клятвы полицейскому, – этот бред не вышибить.
Я двинулся в сторону озера, забрел в парк, вволю полюбовался знаменитыми на всю Европу горными пиками, домами, когда-то приютившими занудливого Жан-Жака Руссо, циника Вольтера, а позже известного идеолога большевизма Владимира Ильича, в любви к которому я несколько минут назад вполне определенно признался женевскому полицейскому.
Хотелось завыть, но в Женеве это выглядело бы по меньшей мере странно. Этот город, являвшийся невероятным результатом человеческих усилий, предстал передо мной как образец наимудрейшей красоты, средоточие спокойствия, незамутненности и удивительного сочувствия к каждому, кто пытается сделать выбор. Даже название площади – «Place Bon Air», по-нашему – «Свежего воздух», или площадь Свежака – внушало поддержку.
Издали послышался бой курантов.
Полдень.
Я попытался взять себя в руки. Простейшая мысль, которую вколачивал в нас Трущев, внезапно обрела живую плоть.
«Каждый, – убеждал нас этот отъявленный энкавэдэшник, – кто решит прибегнуть к согласию, обязан заранее определиться, чем он готов пожертвовать, приглашая другого на танец. Потому что согласия без уступок не бывает. Усек?»
Чем я могу пожертвовать?
Памятью об отце? Он не согласовывал со мной свой выбор, по этому пункту я могу считать себя свободным. Как, впрочем, и с обязательствами перед Германией, гнусно поступившей с Шеелем, вернувшимся из страны врагов.
Тамара? Здесь труднее. И дело вовсе не в женщине, не в ее дурманных, до покалывания в кончиках пальцев, прелестях! Хотя именно эта дрожь придавала мне силы выстоять на зоне. Как я мечтал добраться до них!.. Что это, любовь? Не знаю. Как утверждал Hans im Glck, русские как низшая раса придумали любовь, чтобы не платить. Все равно, мне трудно вычеркнуть из памяти все, что было. Особенно Петьку. Он ведь так или иначе является наследником рода Шеелей. Будет ли у меня другой наследник – большой вопрос.
<>Впрочем, закорючка вовсе не в романтических воздыханиях. Даже не в Тамаре и Петьке. Дело во мне. Неужели я потная сука? Неужели тварь дрожащая? О каких космических полетах может идти речь, когда Тамара воюет? Я не вправе бросить ее в таком жестоком деле. Не мог я также сознательно запихнуть в детский дом влезавшего на меня пацана и кричавшего от радости: «Ур-ра! Дядя папа приехал!»Следующий пункт – названый братец. Казалось бы, сам Господь велел мне сдать этого напыщенного фанатика.
Но!..
Оказавшись в полиции, я должен напрочь забыть о нем. Только заикнись, и моя песенка будет спета. Уже не Трущева, а меня, глупенького, подвергнут усиленному допросу с применением физического воздействия. Я вовсе не желал зла Трущеву, Первому, а также многим из тех, с кем познакомился по линии НКВД, исключая Авилова, но тот уже получил свое. Я окажусь хорошей поживой для костоломов из гестапо.
Мне это надо?
Если не упомяну, гномы из Бюпо так отделают меня за нелегальный переход границы, что вряд ли мне потом понадобятся мои миллионы.
Итак, со мной было все ясно, оставалось выяснить, чем жертвует Трущев.
Это был легкий вопрос. Трущев жертвует жизнью. Стоит капитану ГБ, да еще работнику Центрального аппарата, оказаться в руках гестапо, с него кожу живьем сдерут.
Да, красные – злы. Они еще те идеологи, но без их поддержки мне просто-напросто не выбраться из Женевы. Тем более выжить в этом прекраснейшем из миров.
На скамейку подсел Трущев. Достал сигарету из портсигара, по привычке обращения с «Беломором» постучал по крышке.
Я напомнил специалисту из НКВД:
– Николай Михайлович, здесь нет папирос. В Европе табачной головкой в крышку портсигара не тычут. Здесь табак разминают пальцами.
Он не ответил, но выколачивать и тем более ломать под мундштук табачную начинку перестал.
Закурил, высказал отношение к пейзажу – хорошо-о, черт побери! – затем поинтересовался:
– Что у полицейского спросил?
– Дорогу до участка.
– А что же не дошел?
– Все-то вам надо знать!
– А как же! – искренне удивился Трущев.
– Полицейский обратил на меня внимание. Я решил проявить инициативу. Помните, ваш шеф предупреждал – разведчика красит инициатива.
– Логично, – согласился Трущев. – Я не догадался.
– А если бы догадались, открыли стрельбу?
– Зачем? У меня с собой портсигар. Ходить с оружием по городу – лишний риск. Местные все злые. Виду не показывают, а сами трясутся от страха. Ждут, когда Гитлер к ним нагрянет[48]. – А когда он к ним нагрянет?
– А ты не догадываешься?
– Как считаете, Николай Михайлович, они будут защищаться?
– Эти будут, – убежденно ответил энкавэдэшник. – Банкиры не сдрейфят. Они призыв объявили, четыреста тысяч под ружье поставили, все перевалы перекрыли. Им есть что защищать.
– Я тоже так думаю.
– Тогда потопали домой. Засиживаться ни к чему. Нам тоже есть что защищать.
– А потопали.
– Справился с искушением?
– А справился.
– Будем работать?
– А попробуем…»
Часть IV. Москва ставит задачу
В Ельске, на улице, подошли ко мне трое оборванных детей лет девяти-десяти. Робко остановили, я думал, будут просить денег или хлеба.
– Дяденька, нет ли у вас маленького карандаша? В школе писать нечем – очередь длинная.
Я дал им карандаш. Забыли даже поблагодарить, торопливо пошли по улице, изо всех сил рассматривая приобретение и, видимо, споря – кому им владеть.
Из военных дневников корреспондента «Правды» Л. Г. Бронтмана
Весна, 1944 год.
Освобожденная территория в Белоруссии, под Мозырем…
Глава 1
Даже после смерти энкавэдэшные приемчики, которыми пользовался Николай Михайлович, вызывали если не изумление, то откровенную оторопь. Мало того, что время в его рассказах петляло по какому-то мало изученному, с нелегальным привкусом маршруту, но и встречавшиеся на этом маршруте хорошо знакомые предметы, а также ничем не примечательные факты живой жизни, словно по мановению волшебной палочки, приобретали статус сакральных, наполненных неясным смыслом ключиков, с помощью которых только и можно было открыть доступ к сокровищам истории.
Судите сами.
Яблоки в его доме носили очки. Родственные отношения – загадка природы. Сам он много лет жил под гнетом известной ему даты своей смерти и не спился. Всякому разговору Трущев придавал характер вербовочной беседы. Не буду скрывать – ему удалось склонить меня поучаствовать в его безумной затее. Оказавшись один на один с вечностью, я не мог дать задний ход. Ее зов был неодолим. К тому же мне до смерти хотелось разобраться, что такое согласие и какое отношение к этой нелегальщине имел Нильс Бор. Насколько мне известно, этот нобелист 1922 года, глубже других проникший в тайны атомного ядра, ни в политику, ни в классовую борьбу нос старался не совать. Что он разглядел в недрах электрона, без чего, по мнению Трущева, и малые дела становятся великими, а без оного и самые громкие планы обращаются в прах.
Наконец, Николай Михайлович, не в пример другим героям секретного фронта, чуть что, сразу хватался за портсигар.
Прикиньте – не за револьвер, а за увесистый кусок серебра.
Теперь этот подарок Берии был у меня в руках.
Здесь было над чем поразмышлять. Какая скрытая угроза таилась в этом предмете, если Трущев берег его на самый последний, самый решительный бой в жизни? Зачем беглый спецназовец подарил его мне? Не было ли здесь какого-то коварного расчета? Может, в нем спрятано взрывное устройство, и, если я допущу промашку – напишу, например, о том, о чем следует умолчать, нелицеприятно отзовусь о тех, перед кем следует стоять навытяжку, намекну на то, о чем секретные службы стараются забыть, или просто нажму не на ту кнопку, – сработает взрыватель, все полетит вверх тормашками, и от всего этого романа и его автора останутся одни воспоминания.
Не без робости я внимательно осмотрел портсигар. Голова работала как швейцарские часы, мысли строились поротно, с удивительной лихостью и самоотречением шли на приступ тайн портсигара.
Я развернул бериевский подарок так, будто собираюсь вытащить сигарету. Скрытый механизм должен срабатывать моментально, а все манипуляции производиться автоматически, не привлекая внимания жертвы.
Мои пальцы прикрыли голову охотника и двух ближайших уток. Я нажал на эти точки.
Все оказалось не так просто, пока не вспомнил, что Трущев был левша.
Удача, как и предрекал фюрер, посетила меня без пяти двенадцать. Только его судьба обманула, а мне открыла солнечные дали в виде узкой потайной полости, в которой помещался небольшой, заготовленный по спецзаказу DVD-диск, похожий на тот, какой используется в видеокамере.
Первый файл содержал аудиозапись в стандартном для такого рода информации формате. Это была речь, произнесенная Сталиным 3 июля 1941 года. Да-да, та самая, знаменитая, «братья и сестры…», но в каком-то невероятном, ошеломляюще-пародийном исполнении. Неизвестный насмешник настолько умело подражал Сталину, что я остолбенел.
Приведу текст полностью.
«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота!
К вам обращаюсь я, друзья мои!
…в силу навязанной нам войны наш народ вступил в смертельную схватку со своим злейшим и коварным врагом – большевистско-жидовской властью. Наши войска не желают воевать с братьями-германцами, а их гонят в бой. Их гонят на бойню. Зачем их гонят на бойню? Чтобы, преодолевая многочисленные трудности, самоотверженно класть свои жизни за кремлевских преступников и убийц. Это они заставляют вас биться за каждую пядь родной земли, на которую никто не покушается. Наш отпор врагу должен крепнуть день ото дня.
В этот трудный час смертельной схватки с большевизмом нам на помощь пришли доблестные германские воины. Их храбрость беспримерна. Вместе с германской армией на защиту Родины должен подняться весь русский народ.
Что требуется для того, чтобы ликвидировать опасность, нависшую над нашей страной, и какие меры нужно принять для того, чтобы раздавить ненавистную кремлевскую клику?
Прежде всего, необходимо, чтобы все наши люди поняли глубину опасности, которая угрожает нашей стране, и отрешились от благодушия, от беспечности, от обманчивого настроения, что с комиссарами и жидами можно договориться. Такие настроения, вполне понятные в довоенное время, но пагубные в настоящее время, когда агрессия, развязанная против оплота свободы, против Германии, возглавляемой великим Адольфом Гитлером, теперь совершенно неуместны.
Враг жесток и неумолим.
Комиссары ставят своей целью превратить всех нас в рабов. Они уже захватили наши земли, политые нашим потом, захватили наш хлеб и нашу нефть, добытую нашим трудом. Кремлевские мордовороты ставят своей целью сохранение своей власти, разрушение национальной культуры и национальной государственности русских, украинцев, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин, армян, азербайджанцев и других свободных народов Советского Союза, их осовечивание. Дело идет, таким образом, о жизни и смерти русского народа и всех народов, населяющих нашу землю. Вопрос заключается в том, быть ли народам Советского Союза свободными или впасть в порабощение. Нужно, чтобы все советские люди поняли это и перестали быть беззаботными, чтобы они сомкнули ряды с доблестными германскими воинами и нанесли сокрушительный удар всей кремлевской камарилье.
- Все силы народа на разгром ненавистного врага!
- Вперед, за нашу победу!
- Бей жида-большевика!
- Морда просит кирпича![49]
Далее кто-то невнятно затараторил на немецком языке, затем последовал комментарий по-русски: «Записано в ноябре 1941 года Блюменталь-Тамариным в Варшавском радиоцентре. Использовать на Восточном фронте».
Как оказалось, этот самый Блюменталь-Тамарин был не чужд и литературных талантов. Об этом свидетельствовала составленная им листовка, разбрасываемая оккупантами в Смоленской области.
ВОЗЗВАНИЕ
Русский народ!
На седины твоих стариков, на головы твоих мужчин и женщин, на твоих детей пал неслыханный позор! Все то, что ты сейчас прочтешь, это – не бред сумасшедшего, это показания русских, записанные русскими и в присутствии русских. Русские же люди скрепили своими подписями эти потрясающие документы.
Глаза застывают в ужасе, и рука отказывается писать. Если мы решаемся, русский народ, обратиться к тебе с этим воззванием, то только потому, что мы верим в тебя, верим, что в твоей груди бьется человеческое сердце, что лучшие человеческие чувства – благородство, честность и уважение к человеку и его правам – еще не окончательно умерщвлены в тебе большевиками за четверть века их растлевающего владычества.
Мы верим, что ты вместе с нами содрогнешься от ужаса перед преступлением, совершенным бандой извергов из хутора Ржавец. Эта банда из 22 человек, из них 8 женщин, имела своим главарем жида-политрука Железина; они называли себя партизанами, борцами за свободу и честь своей родины. Они коварно напали на ветеринарный обоз, сопровождаемый 12 человеками – десятью немцами и двумя русскими. Три человека было убито. Девять человек, из них трое раненых, взяты в плен.
Убитые были ограблены.
Золотые кольца с их пальцев не удалось снять, тогда отрубили пальцы, на которых они были надеты. Девять человек были подвергнуты пытке: им отрезали уши, носы, вырезали щеки, отрезали половые органы, вырвали глаза; у русских отрубили руки и ноги. Еще у живых срезали мясо с груди, зада, ног, рук. Как показал один из виновных, получилось около 25 килограммов мяса. Сварили его в котле с молодой картошкой. Достали 15 бутылок водки и устроили пир. Главарю банды, жиду-политруку Железину приготовили, по его заказу, особенное блюдо – ему изжарили с луком 18 яиц из половых органов замученных.
Русские люди, читая это, вы не верите своим глазам. И мы тоже не верили. Мы решились оповестить об этом ужасе всех только после того, как убедились в том, что все это – ИСТИННАЯ ПРАВДА.
Да и так ли это невероятно, если мы повторим, что во главе этой банды извергов стоял жид-политрук Железин, если напомнить, что такими жидами-коммунистами держались дьявольские ЧК, ГПУ, НКВД, если напомнить, какой ужас они вселяли своим бесчеловечьем в твои сердца, русский народ, позволяя этой сталинской банде всячески над тобой издеваться.
Но ужасы застенков и концлагерей ЧК, ГПУ и НКВД еще ждут своего полного разоблачения. Этот же факт ПЫТОК и ЛЮДОЕДСТВА перед вашими глазами, русский народ. Найди же в себе мужество взглянуть этому факту прямо в глаза. Германский народ знал, что хотят сделать из русского народа большевики! Но он верит, что русский народ не испорчен ими до конца!
Германский народ верит, что русские люди отрекутся от большевистских отродий, взращенных большевиками извергов, и вместе со своими передовыми отрядами – русскими солдатами русской самообороны – истребят их до конца.
РУССКИЙ НАРОД!
Отрешись от большевистского духовного наследия – бесчеловечного отношения к человеку.
Смой с себя позор преступления Железина БЕСПОЩАДНОЙ БОРЬБОЙ с подобными ей бандами.
Я некоторое время оторопело вглядывался в экран. Немецкие яйца с молодой картошкой – это лихо! Отличный пир! У меня еще хватало духу сыронизировать по этому поводу, хотя была на этой чудовищной гнусности какая-то отчетливо-пегая отметина разнузданного, глумливого предательства.
Что еще было занимательного на этом диске? Разве что призыв Блюменталя, обращенный к защитникам Москвы в ноябре 1941 года: «…объявить священную нашу столицу Москву открытым городом. Для этого необходимо прекратить сопротивление и предоставить германским войскам свободный доступ в городскую черту. Вместе с сознательными красноармейцами они возьмут под защиту неисчислимые архитектурные и художественные ценности».
А также официальные документы.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Нач. ГУГБ СССР
В. Н. Меркулову
Для устранения Блюменталь-Тамарина предлагаю воспользоваться родством предателя с гражданином СССР, военнослужащим Волошевским Игорем Львовичем. (Сестра отца Волошевского, Лащилина Инна Александровна, замужем за Блюменталь-Тамариным.)
При этом считаю целесообразным не ограничиваться терактом в отношении Блюменталь-Тамарина, но в первую очередь использовать Волошевского для проникновения в круги, близкие к «Источнику».
Краткие данные на Блюменталь-Тамарина В. А. и на Волошевского И. Л. приложены
Число… Начальник СПО НКВД СССР В. Ильин
ПРИЛОЖЕНИЕ К СПРАВКЕ № 1
По личному делу и материалам спецпроверки на Блюменталь-Тамарина Всеволода Александровича, русского, актера, беспартийного.
По материалам спецпроверки, проведенной УНКВД по г. Москве, установлено:
БЛЮМЕНТАЛЬ-ТАМАРИН Всеволод Александрович родился в городе Москва в 1881 г. Из актерской семьи. Отец, Александр Эдуардович Блюменталь-Тамарин, опереточный актер. Мать, Мария Михайловна, почти всю жизнь прослужила в Театре Корша, а после его закрытия играла в Малом. Была в числе первых десяти артистов, удостоенных звания «Народный артист СССР».
Блюменталь-Тамарин – человек незаурядный, деспотичный, безусловно талантливый. Получил прекрасное образование, владеет тремя европейскими языками, пишет стихи. Музыкален, пластичен, атлетического сложения. После окончания императорского театрального училища сразу же был принят в труппу Малого театра. Его дебют в роли Морского в пьесе Немировича-Данченко «Цена жизни» (с М. Н. Ермоловой в роли Анны Демуриной) имел большой успех. Крупнейшие антрепренеры России сразу предложили ему выгодные ангажементы. Играл Гамлета и Чацкого, Кина и Парфёна Рогожина, Жадова и Фердинанда, Дон Карлоса и Уриэля Акосту…
Во время Гражданской войны встал на сторону белых. В 1920 году попал в руки ЧК и был приговорен к расстрелу. Спас Луначарский.
При советской власти преследованиям не подвергался. В 30-е годы приглашался на «сборные спектакли артистов московских театров», проводившимся в Большом театре. В 1932 году в филиале Большого театра поставили «Бесприданницу» с Е. Н. Гоголевой, Е. Д. Турчаниновой, М. М. Климовым, Н. И. Рыжовым, М. М. Блюменталь-Тамариной.
Наиболее удачным в этом спектакле было признано исполнение Блюменталь-Тамариным роли Карандышева. Его одного вызывали 14 раз.
Казенной «службы» в каком-то одном театре Блюменталь-Тамарин не признавал и разъезжал с гастролями по стране.
Ранней весной 1941 года Блюменталь подготовил большую программу, посвященную 100-летию со дня гибели М. Ю. Лермонтова, в которой должны были быть представлены сцены из «Маскарада», а также чтение отрывков из «Мцыри», «Героя нашего времени», «Демона». Получил приглашение Малого театра играть Отелло в очередь с Остужевым, а также от Охлопкова, предлагавшего ему вступить в труппу Театра Революции и начать там с роли Ивана Грозного в пьесе А. Толстого «Трудные годы».
В 1940 году снялся в фильме «На дальней заставе».
В октябре 1941-го Блюменталь-Тамарин, проживавший на даче в поселке НИЛ («Наука. Искусство. Литература») возле города Истра, оказался на оккупированной территории. В декабре 1941-го, во время советского контрнаступления, вместе с несколькими дачниками, в том числе знаменитым вахтанговским актером Освальдом Глазуновым, ушел с немцами.
Оказавшись в Киеве, был назначен художественным руководителем Киевского театра русской драмы. Вместе с С. Э. Радловым Блюменталь-Тамарин осуществил постановку пьесы А. Корнейчука «Фронт» и сыграл в ней главную роль – генерала Горлова. Спектакль, переименованный в «Так они воюют…», представляет собой образчик злобной антисоветской клеветы. Часто выступал на радио и в печати, исполнял по немецкому радио на русском языке острые пародии на Сталина, а также антисемитские анекдоты. Одна из его статей называется «25 лет советской каторги». В ней он утверждает, что советская власть издевалась над ним и над его матерью…
ПРИЛОЖЕНИЕ К СПРАВКЕ № 2
По личному делу Волошевского И. Л.
ВОЛОШЕВСКИЙ Игорь Львович, 1918 года рождения. Отец – работник балета и балетмейстер Лащилин Лев Александрович. Мать – известная драматическая актриса Августа Леонидовна Волошевская. Чемпион Ленинграда по боксу в среднем весе 1938, 1939 годов. Чемпион СССР 1941 года. Учился в Москве в ГЦОЛИФКе. С детства владеет немецким языком.
В настоящее время служит заряжающим зенитного орудия на Ленинградском фронте.
Согласие сотрудничать с НКВД дал 22.11.1941 г.
Число… Подпись: лейтенант…
В этой отчетливо энкавэдэшной, с неистребимым обвинительным уклоном, нарезке нашлось место и любительским, с потугой на юмор листовкам времен войны, изготовленным на той стороне.
На первой был изображен сияющий, крепко загулявший Гитлер, наряженный в подпоясанную косоворотку, в полосатые, заправленные в сапоги, холщовые шаровары. Фюрер, подыгрывая себе на балалайке, лихо распевал «Широка страна моя родная…»
На другой – поникший, с длиннющими усами, мордастый Сталин в черкеске наигрывал на гармошке «Последний нонешний денечек…»
Ниже подпись – автор сюжетов В. А. Блюменталь-Тамарин.