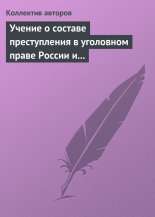У обелиска (сборник) Кликин Михаил

ISBN 978-5-699-82619-3
© Анисимов С., Баумгертнер О., Болдырева Н., Дробкова М., Зарубина Д., Караванова Н., де Клемешье А., Кликин М., Коротич М., Перумов Н., Рыженкова Ю., Трофимова Н., Черкашина И., 2015
© ООО «Издательство «Эксмо», 2015
От составителей
Не забыть, чтобы не повторить
«Что-то с памятью моей стало. Все, что было не со мной, помню…» – эти слова из песни знакомы каждому, хоть не каждый вспомнит, что называется песня – «За того парня» и написал эти строки Роберт Рождественский.
Чем дальше мы от тех лет, когда «война входила в каждый дом», тем яснее понимаем, как трудно это – помнить то, о чем знаем из книг и фильмов. Да и к книгам и фильмам этим – тяжелым, грустным, полным боли – мы обращаемся все реже. Читать о войне – трудно, как водить по коже наждаком, переживая чужую боль, чужую беду как свою. Куда проще забыть о войне, превратив ее в избитые фразы и растиражированные символы, научиться вспоминать, «не вспоминая», не пропуская через себя, не переживая и не сопереживая, сделав акцент на этом «не со мной».
Но если не говорить, не писать – забыть станет проще простого. Забыть, что война – зло и ад, и никакие политические и экономические интересы не могут оправдать смерть, горе, разрушенные города и судьбы.
Признаться, когда мы начинали работу над сборником, невольно закрадывалась мысль – как будут писать о войне «книжные дети, не знавшие битв»[1], те, кто родился и вырос в мирной России? Сумеем ли мы, говоря об альтернативной реальности, о военных магах в фэнтезийном антураже, сохранить главное, сказать о важном – о героизме, силе духа, верности, самопожертвовании, о страхе, боли, смерти, непростом выборе и его цене. Сможем ли, «развлекая вымыслом», сами «вспомнить то, что было не с нами» и донести эти мысли и чувства до нашего читателя?
Получилось ли – решать вам.
Тексты в этом сборнике подобрались разные, есть такие, где фантастика играет главную роль, и такие, где она выполняет лишь роль причудливой канвы, по которой вышит сюжет совсем не фантастический. Но истории, собранные под этой обложкой, объединяет одно – они о людях: фантастической отваге, сказочной доброте, невероятной стойкости и героизме. О том нереальном, что было реальностью наших прабабушек и прадедушек в сороковые годы. И магия тут совершенно ни при чем.
Ник Перумов
Течь тебе кровью
Закат угасал, и вместе с ним угасала, стихала канонада, уползая куда-то дальше на запад, за Днепр, за быстро темнеющие кручи правого берега. Вечер накатывал с востока, неостановимо, заливая мраком все вокруг.
Если бы еще армия могла наступать так же невозбранно…
Растянувшаяся на сотни километров вдоль могучей реки линия фронта тоже готовилась к ночи. Заступала в боевое охранение свежая смена, ночные наблюдатели вылезали из глубоких блиндажей, позевывая и потягиваясь – весь день они спали, ничуть не тревожимые даже грохотавшей канонадой.
Сейчас наступало их время.
Обычные солдаты тянулись к кухням, где могли. Где нет – к кухням отправились котловые команды. Все знали – там, за Днепром, солдаты в фельдграу точно так же собираются ужинать. Армии стояли тут уже достаточно долго, чтобы нехитрый фронтовой быт успел устояться, а дикая мешанина людей, лошадей, машин, орудий, танков и всего прочего, потребного ненасытному молоху фронта, обрела некую внутреннюю упорядоченность – хотя, разумеется, упорядоченность эта не имела почти ничего общего с уставной.
Была осень, и серые языки туч, протянувшиеся на все небо, не скупились на дожди, но последние несколько дней выдались на удивление сухими. И армия, упершаяся лбом в днепровскую стену, радовалась – радовалась искренне, искренне же забывая, что совсем рядом с каждым из облаченных в шинели людей стоит смерть, равнодушная и ждущая.
Как ни странно, к этому тоже привыкаешь.
Левый берег Днепра, низкий и топкий, исчертила паутина траншей, раскинувшихся словно кровеносные жилы. К самой воде спускались крытые ходы секретов, тщательно замаскированные всем, что попалось под руку.
Сцена была готова. Днепр ждал.
– Течь тебе кровью.
Женщина в просторном белом балахоне, ниспадавшем до самых пят, стояла по щиколотку в осенней воде. Захоти кто-нибудь написать картины «Ведьма на днепровском берегу» или, скажем, «Заклинательница воды», то, честное слово, не нашел бы лучшей модели.
Другое дело, что картина бы у него получилась исключительно реалистическая. Даже соцреалистическая.
– Течь тебе кровью, – повторила женщина. Если издали глядеть – согбенная старуха, седые нечесаные космы свисают неопрятными сосульками, щеки ввалились, нос торчит, как у покойника. Лицо продолговатое, некрасивое, как говорится, ночью приснится – спать не сможешь. Она поворотилась к днепровскому простору, вытянула руки, раскрыв ладони вечереющему небу.
И сама она, в нелепом белом одеянии, была сейчас как на ладони. Наблюдатель с той стороны реки заметил бы ее тотчас, резко выделявшуюся на стремительно темнеющем фоне.
– Течь тебе кровью, – в третий раз бросила заклинающая. И уронила руки.
От ее ног к противоположному берегу воду прочертила стремительная линия, словно от невидимой лески. Пробежала и исчезла, скрылась без следа, только тяжкий вздох пронесся над холодными днепровскими заводями.
Метрах в двадцати за спиной женщины тесным кругом стояло полдюжины военных – пятеро в простой, даже замызганной, полевой форме без погон, на плечи наброшены бесформенные, видавшие виды ватники; местами грубо заштопанные, местами – прожженные. На головах выгоревшие чуть не добела пилотки, не слишком подходящие по погоде. Ни наград, ни нашивок – ничего. Так мог одеться разве что какой-нибудь нестроевой обозник.
Шестой же, надменного вида высокий старик, с худым и хищным лицом и кустистыми бровями над столь же впалыми, как и у заклинательницы, щеками, напротив, облачен был в генеральскую форму, с лампасами; грудь его украшал полный иконостас орденских планок. На мягкие сапоги старый генерал надел нелепо и странно выглядящие галоши. Вид он имел брюзгливый и недовольный. На хрящеватом носу устроились круг-лые очки; генерал, впрочем, частенько их снимал, вглядывался вдаль, не щурясь, так что могло показаться, что очки эти ему нужны совсем по другим причинам.
Заклинательница медленно повернулась, словно слепая, двинулась прямо к военным. Пятеро в замызганных ватниках переглянулись, но генерал – генерал-полковник, если судить по звездам, – не пошевелился, и его свита не рискнула даже переступить с ноги на ногу.
Женщина шагала, словно сомнамбула, мокрый подол ее балахона волочился по жухлой осенней траве. Под запавшими глазами легли глубокие синюшные тени, губы побелели, в лице не осталось ни кровинки.
Никого вокруг она словно и не замечала.
Генерал-полковника и его свиту она миновала, даже не покосившись в их сторону, продолжая идти по прямой.
И только когда она удалилась от них шагов на тридцать, старый военный резко кивнул. Один из его спутников ответил столь же коротким и молчаливым кивком, вскинул правую руку и быстро опустил, явно подавая какой-то сигнал. Из кустов вдалеке выскочили три фигурки, бросились к бредущей женщине, накинули ей одеяло на плечи.
Заклинательница остановилась.
– Чай для нее не забудьте, Игорь Петрович, голубчик, – скрипуче сказал генерал. Тон его казался вполне мирным и чуть ли не дружелюбным, но проворство, с каким один из свитских кинулся к женщине и окружившим ее солдатам, говорило, что слова генерал-полковника следовало принимать к совершеннейшему исполнению и притом немедленно.
– Вольно, господа-товарищи. – Генерал окинул взглядом оставшуюся с ним четверку. Обращение его не имело с уставным или хотя бы принято-армейским ничего общего. – Высказывайтесь. Начнем с вас, Семен Константинович, как самого младшего…
Коренастый военный средних лет, с красноватым полным лицом – таких на фронте обычно за глаза зовут «кладовщиками» вне зависимости от звания и должности – поспешно вытянулся, несмотря на отданную только что команду «вольно».
– Товарищ генерал-полковник…
– Отставить, – сварливо сказал тот. – Здесь все свои, Семен Константинович, сударь мой.
– Виноват, ваше высокопревосходительство, Иннокентий Януарьевич. Я, признаться, впечатлен. Однако предсказать результаты едва ли удастся так просто. Воздействие, несомненно, труднокатегоризируемое. Я пытался на ходу сделать разложение – по Маркину, по Самсонову и…
– И по мне, – деловито, без эмоций закончил старик в советской генеральской форме, но требовавший, чтобы среди «своих» к нему обращались «ваше высокопревосходительство».
– Так точно-с, господин генерал-полковник. И по вам.
– Разумеется, ничего не получилось, – сухо обронил Иннокентий Януарьевич.
– Виноват, ваше высокопревосходительство!
– Оставьте, голубчик. – Старик вяло отмахнулся. – Я тоже раскладывал. И тоже ничего не получилось. Тут, боюсь, интегрировать надо, без предварительного разложения… Что сказать хотите, Михаил Станиславович?
Высокий широкоплечий офицер, в котором за версту читалась гвардейская выправка, тоже далеко не молоденький, однако державшийся очень прямо, отчеканил:
– Интегрировать придется компоненты с самое меньшее пятью неизвестными…
– Если не с шестью, – перебил его третий из свиты генерал-полковника, с роскошными усами, сливавшимися с не менее роскошными бакенбардами, которые так и тянуло назвать «гусарскими».
– Верное наблюдение, Севастиан Николаевич, – суховато-официально кивнул старик. – С шестью, скорее всего.
– Однако эта неопределенность – пять переменных или шесть – в свою очередь, создает при интегрировании…
– Это вообще не интегрируется, господа, – негромко сказал четвертый офицер, с густой окладистой бородой, донельзя похожий на старого казака с картины о войне 1812 года. – Прошу прощения, Иннокентий Януарьевич, что перебиваю.
Старик на миг нахмурился, губы его шевельнулись.
– Нет, голубчик, вы правы. – Все остальные, было подобравшиеся, похоже, дружно выдохнули с облегчением. – Правы, Феодор Кириллович. Не интегрируется. Но это и хорошо, что не интегрируется. Мне, признаться, так и ощущалось.
– Дикая магия? – предположил коренастый Игорь Петрович.
– Она наговор накладывала, – усомнился казак Феодор Кириллович. – Наговоры дикими не бывают. Дикое – это сами знаете у кого. Реликты, вроде мшаника. Или у водяных форм нелюди.
– Нет здесь никаких водяных, – заметил «гвардеец». – Прочесано вдоль и поперек. Не любит нелюдь фронта, что и говорить, уходит сразу. Вот и отсюда давным-давно ушла.
– Не отклоняйтесь от темы, господа, – поморщился Иннокентий Януарьевич. – А нелюдь я, судари мои, вполне понимаю. На их месте я б тоже давно ушел… – Сухие губы чуть растянулись в подобии улыбки.
Все пятеро свитских переглянулись.
– Что ж, я вижу, содержательных идей пока не наблюдается, – не без сарказма заметил старик. – Прискорбно, господа, прискорбно. От магов, выпускников Пажеского корпуса, я, признаться, ожидал большего.
– Иннокентий Януарьевич… ваше высокопревосходительство… – умоляюще заговорил казак. – Ну как же тут, в поле-то, справишься? С голыми руками? Что могли – сделали.
– Возвращаемся в штаб армии, – отрывисто и недовольно бросил генерал. – А то охрана наша там уже волнуется.
«Гвардеец» сощурился.
– Волнуется, точно. Уже сюда бегут. «Товарищ член Военного совета фронта, нельзя вам тут, опасно!..» Тьфу, пропасть! Большевички, хамло, одно слово…
– Бросьте, Мишель. Не начинайте снова, мы все знаем, что большевиков вы не любите. Но сейчас…
– Так точно, ваше высокопревосходительство! – Мишель по всем правилам прежнего воинского этикета щелкнул каблуками, несмотря на густую траву.
– Будет, будет вам, голубчик. Не забывайте, есть вещи поважнее вашей к большевикам неприязни.
– Виноват! – отчеканил гвардеец.
– Кто здесь виноват, а кто нет – это уж я решаю, – змеино усмехнулся Иннокентий Януарьевич. – Вот потому и говорю – не виноватьтесь. Начнете, когда я скажу.
– Однако она нас и в самом деле прикрыла, – заметил круглолицый Игорь Петрович. – Я следил – ни одной поисковой петли, даже близко не прошли. Словно глаза отвела германцам.
– Фашистам, Игорь Петрович, фашистам. Уж три с лишним года воюем, пора бы и привыкнуть.
– Так точно, Иннокентий Януарьевич, фашистам. Но отвела.
– И тоже непонятно, как она это сделала, – заметил молчавший некоторое время усач Севастиан Николаевич. – Тоже не классифицируется.
– Ни по классовой теории, ни по буржуазной, – хохотнул гвардионец Мишель. – Не признает магия никаких классов, и социального происхождения не признает тоже…
– И даже на форму мою не клюнули, – кивнул Иннокентий Януарьевич. – Хотя, если вспомнить, третьего-то дня как быстро накрыли!
– Рискуете вы собой непомерно, ваше высокопревосходительство…
– Мишель! Мы не при дворе. Не нужно вот этого, я и так знаю, что на вас всех могу положиться. Скажите лучше, вы это заклятие отведения глаз вообще заметили?
– Разумеется, ваше высокопревосходительство! – гвардеец аж возмутился. – Заметить заметил, но расшифровать… Да и никто здесь не смог, как я понимаю.
– Верно, – задумчиво уронил генерал-полковник, глядя, как трое солдат хлопочут вокруг заклинательницы, державшей в руках дымящуюся кружку с чаем так, словно понятия не имела, что это такое и что с ней надлежит делать. – Эй, братец! Ты, ты, сержант. Подите-ка сюда.
Этот сержант разительно отличался от свиты Иннокентия Януарьевича – прежде всего молодостью, ловко пригнанной формой, сапогами, что явно были еще сегодня утром надраены до зеркального блеска и до сих пор еще сохраняли его остатки, несмотря на беготню по приднепровским низинам. На груди – колодочки, медали «За отвагу», «За боевые заслуги»; за плечом вороненый ствол ППШ.
Сержант, как полагается, перешел с бега на строевой шаг, немного не достигнув начальства, зачастил, как из пулемета:
– Товарищ член Военного совета фронта, старший сержант Петров Сергей по вашему прика…
– Достаточно, братец. Эту гражданочку доставить в целости и сохранности прямо в наше расположение при штабе армии. Чаем поить! Горячим и сладким. Пока она там – глаз с нее не спускать, дежурить поочередно. Как только заметите хоть что-то необычное – немедленно ко мне. Ну, вы знаете.
– Так точно, товарищ член!..
– Достаточно, братец, я же сказал.
Сержант торопливо откозырял и махнул двум другим солдатам, поддерживавшим заклинательницу под руки.
– Идемте, – повернулся Иннокентий Януарьевич к своей свите.
За пеленой низких облетевших кустов на узком и мокром проселке их дожидались машины с охраной. Очень сердитый старший лейтенант в фуражке с малиновым околышем торопливо побежал им навстречу.
– Товарищ член Военного совета!.. Ну как же так можно? Товарищ Жуков… то есть, виноват, товарищ Константинов[2] приехали, они голову с меня снимут, не посмотрят, что мы по другому ведомству!..
– С товарищем Георгием Константиновичем мы уж как-нибудь сами разберемся, Илья, – прокряхтел генерал-полковник. – Не тряситесь так, дружочек.
– Нет-нет, товарищ член Военного совета, так нельзя! Я, как ваш начальник охраны, не могу допустить такого нарушения всех инструкций, и потому…
Досадливо поморщившись, Иннокентий Януарьевич прищелкнул пальцами, и старший лейтенант подавился на полуслове. Взгляд его обессмыслился, голова мотнулась из стороны в сторону; казалось, он вот-вот рухнет.
Гвардеец Мишель и казак Феодор Кириллович шагнули к нему, подхватили.
– Ничего не поделаешь, – недовольно бросил старый маг. – Порой они совершенно несносны, эти ребята из нашей же с вами собственной конторы… Возвращаемся в штаб, господа-товарищи, – с легкой брюзгливостью докончил он. – Разбираться… с этой гражданочкой. Как раз, если вы, Севастиан Николаевич, все правильно подсчитали, результаты ее, так сказать, усилий должны подоспеть. Или, во всяком случае, не сильно запоздать.
Штаб армии устроился в самом сердце маленького приднепровского городка, по какой-то случайности пощаженного войной. Ни наши войска, отходя в сорок первом на восток, ни немецкие, отходя сейчас, в сорок третьем, на запад, его не обороняли. Бои гремели севернее или южнее, а здесь все оставалось тихо.
Как член Военного совета фронта, приехавший в штаб одной из армий, Иннокентий Януарьевич вытребовал себе и своей свите отдельное помещение, и не частный домик, а пустую сейчас школу. Охрана – целый взвод автоматчиков – располагалась на первом этаже, а на втором – сам старый маг с пятью остальными офицерами.
Они все сняли полинялое, выгоревшее и прожженное, надев обычную форму. Все носили полковничьи погоны, грудь каждого украшал внушительный набор орденских колодок; и по одному взгляду на них можно было б и впрямь бросить что-то вроде революционно-презрительного «золотопогонники» или там «белая кость», если не старое-доброе «контра недобитая».
У всех – былая выправка, какую не обретешь на «краткосрочных курсах комсостава» или даже в «академии красных командиров». Такое вбивается с детства, со строевых занятий будущих пажей. Гвардеец Мишель выделялся даже на их фоне – хоть сейчас снимай в роли какого-нибудь «беляка» в очередном революционном фильме.
За окнами уже окончательно сгустилась ночная тьма. Парты составили в угол, принесли матрацы, расстелив их прямо на полу. Свита Иннокентия Януарьевича не жаловалась. Сам генерал-полковник обосновался в бывшей учительской. Казалось, ему не писаны никакие уставы и правила.
– Георгий Константинович очень-очень нетерпеливый человек, – с деланой усталостью в голосе проскрипел старый маг, входя в двери. Пятеро свитских поспешно вскочили. – Вольно, господа, вольно. Прошу садиться. Чай и что-нибудь к нему сейчас накроют. Все-таки исполнительность у большевиков на высоте, что уж там говорить. Как вспомню лето семнадцатого, всеобщий развал… так особенно ценить начинаешь.
Офицеры переглянулись. Выражение у всех было мрачным – похоже, они как раз и вспомнили то лето.
– Впрочем, господа, к делу. Георгий Константинович желает знать, как скоро наши с вами усилия дадут эффект… на том берегу. Он не собирается, как он выразился, жертвовать целой армией, бросая ее на неподавленную оборону. А у фашистов, – он сделал ударение на последнем слове, – там столько наготовлено, что, боюсь, никаких снарядных запасов наших не хватит. И по крайней мере четыре группы боевых магов в резерве. Да, не «зигфриды», но тоже неплохи. Букринский плацдарм, где у нас никакого успеха и только большие потери, – выражение Иннокентия Януарьевича осталось бесстрастным, похоже, «большие потери» его нимало не волновали, – повториться не должен.
Свита почтительно безмолвствовала. Старый маг окинул их взглядом и, похоже, остался доволен увиденным, потому что продолжил не без нотки самодовольства в голосе:
– Задача, господа, у нас простая. Чтобы не вышло ни Букрина, ни, прости господи, «наступления Керенского». Георгий Константинович, – вновь тонкая, ядовитая улыбка, – не любит вдаваться в специфические подробности. Ему важен результат. Он координирует стратегическую операцию нескольких фронтов, и мы, мелкий служилый люд, должны ответственному товарищу помочь. Вы, Мишель…
– Да, ваше высокопревосходительство?
– Ваши маячки на том берегу – насколько надежны?
Плечистый гвардеец по привычке вытянулся.
– Самое меньшее за еще двадцать четыре часа я ручаюсь, Иннокентий Януарьевич.
– Нам, господа, нужен результат… положительный результат, не позднее чем наступающим утром. Ночь уже началась, времени мало. Усилия нашей подопечной должны себя явить. Итак, какие есть предложения, как говорят у большевиков, «по ведению собрания»?
Офицеры вновь переглянулись, и Мишель сдержанно кашлянул в кулак.
– Помня товарища Жу… то есть товарища Константинова еще по Халхин-Голу, могу сказать, что результат ему нужно явить.
– Предложение, воистину подкупающее своей новизной, а также проработанностью механизмов воплощения, – поджал губы старый маг. – Конкретнее, Мишель, прошу вас, голубчик.
– Конкретнее… Товарищ Константинов должен увидеть, что наступать здесь не следует. Я расставил маяки, но мнение мое, господа, не изменилось. Германскую оборону тут на ура не возьмешь. Да и не на ура тоже. Поэтому…
– Погоди, Михаил, ты что же, нам предлагаешь очки втирать начальству? – резко перебил его бородатый Феодор Кириллович.
– Большевистскому начальству, Феодор, не забывай, – осклабился гвардеец. – Чем мы тут два десятка лет почти занимаемся?
– Мы не вредители, – аж покраснел тот. – Мы Родине служим, не начальству! Забыл, зачем мы сюда возвращались в двадцать пятом?
– Спокойно-спокойно, сударь мой, – надменно бросил Мишель. – Мы дело делали. Для Родины, прав ты, для России, для народа русского. А начальство – оно начальство и есть. Мы всегда ему глаза отводили, если результат того требовал. Ну и чтобы лишние вопросы б нам не задавали, но тут уж Иннокентию Януарьевичу спасибо.
– Подлиза, – беззлобно ухмыльнулся Игорь Петрович.
Сам же старый маг прислушивался к пикировке своих свитских с благодушной улыбкой на тонких губах, никак не вмешиваясь.
– Ничего не подлиза. Объективный факт, – ухмыльнулся в ответ и Мишель. – Теория Маркса всесильна, потому что она верна, и тут как раз такой случай, верно ведь, Иннокентий Януарьевич?
– Мишенька, голубчик. – Старик скрестил руки на груди. – Не отвлекайтесь. Что вы предлагаете, только конкретно?
– Дать товарищу маршалу, представителю Ставки, то, что он желает увидеть, конечно же, – пожал плечами Мишель.
– То есть таки втереть очки? – резче, чем следовало, спросил Феодор Кириллович. – Липу подсунуть? Лживое донесение составить? А потом наши же русские солдаты из-за этого гибнуть должны?!
– Милостивый государь Феодор Кириллович. – Мишель с истинно гвардионским скучающе-недовольным выражением воззрился на сотоварища. – Что-то вы, любезнейший, похоже, речей нашего зама по политчасти переслушали. Кто сказал, что из-за нашей липы должны русские солдаты погибать?
– А как же вас еще понимать, милостивый государь? – возмутился бородач. – Что еще случается, когда в штаб филькину грамоту шлют?!
Остальные офицеры с тревогой воззрились на Иннокентия Януарьевича, однако старый маг лишь продолжал загадочно улыбаться.
– Вы, Феодор, словно первый день на фронте. Словно и с германцами не воевали, и с солдатскими комитетами летом семнадцатого дела не имели. Что от нас требуется? Немецкую оборону прорвать. А коль большевикам так уж неймется и они нас под микитки расталкивают, времени не дают, потому что «срока горят», – передразнил он кого-то, быть может, как раз того безымянного «зама по политчасти», – то нужно сделать так, чтобы они как раз и уверовали, что мы с вами – и вами, господа, конечно же, – задачи свои выполнили на ять и что русского солдата здесь в атаку гнать не следует.
Тут, похоже, ему удалось удивить всех, и даже Иннокентия Януарьевича.
– Не следует! – возвысил голос Мишель, гордо выпрямляясь. – А следует, господа, осуществить наш с вами старый замысел. Да-да, тот самый. Когда три или четыре человека сумеют устроить с немецкой обороной такое, что и знаменитым «ночным ангелам» Потемкина бы не приснилось.
Остальные свитские как-то враз отвернулись в явном смущении. Кто-то кашлянул, кто-то почесал затылок – в глаза Мишелю не смотрел ни один.
– Ну вот не надо, господа, не надо! – гордо объявил гвардеец. – Мы все и ротами командовали, и батальонами, и полками. Сколько людей поляжет, если атаковать, как по уставу положено, после магоартподготовки? У немцев здесь оборона будь здоров, прикроют зонтиком, часть снарядов отведут, часть в воздухе подорвут – сами ведь знаете! Не ботфортом трюфеля там хлебают, чего уж там. В других местах – знаю, по-другому никак. Но здесь-то есть мы!
– А этих троих-четверых, вы, достопочтенный Михаил Станиславович, лично готовить станете? – осведомился Игорь Петрович, сердито хмурясь. – Сами в глаза им глядеть будете?
– Одному мне, к сожалению, не справиться, – сухо отрезал гвардеец. – Вы, господа, это прекрасно знаете. Но что вас смущает? Что столь малой кровью победить можно? Не сотни убитых, не тысячи раненых – а всего трое-четверо погибших?
– Господа, господа, – поморщился молчавший до этого Семен Константинович, утирая пот с красного лица. – Чего вы, право слово, точно нежные смолянки, спорите. Не мы это придумали. У япошек такое в порядке вещей, да и еще у множества племен и народов, особенно на Среднем Востоке. Успокойтесь, Феодор Кириллович, не сверкайте оком ни на Мишеля, ни на меня. Ну да, трудно человека на смерть посылать. Когда батальон в атаку поднимаешь, на пулеметы, тоже ведь знаешь, что обратно хорошо если половина вернется. Тут только то и спасает, что, мол, сам лично никого не приговорил. У каждого, дескать, есть шанс вернуться. А тут шансов нет.
– Сие недостойно воина русского! – отчеканил Феодор Кириллович с пафосом. – Да, правы вы, Семен Константинович, и я тоже батальон в атаку поднимал, тогда, в Брусиловском прорыве. Многие там и останутся, да. Но кто именно – Господня воля, не твоя. И на какое бы опасное задание разведку ни посылал – всегда был шанс вернуться. И возвращались. Хотя бы один.
– Сантименты все это, господа, – поморщился Мишель. – Товарищ Константинов прав, когда нас торопит, на Букринском плацдарме армия кровью умывается.
– Ну так сам и иди тогда! – не выдержал Феодор, переходя в запале на «ты». – Сам иди, Михаил! А то других-то посылать…
– Надо будет, пойду, – с гвардионским фатализмом пожал плечами тот, нимало не обидевшись. – Но пока что пользы России больше живым принесу, чем мертвым.
– А другие, значит, менее полезны, да? Их в расход можно?!
– Можно, Федя, можно, – холодно сказал Мишель. – Один боевой маг при удаче танковый полк германцев остановит. «Ночные ангелы» в сорок первом, я слыхал, и более задерживали тогда, под Смоленском. Один толковый артиллерист на переправе тоже целую колонну заставит встать. Один толковый танкист… А ежели ты только и можешь, что мордой вниз в окопе лежать с мокрыми штанами да в белый свет как в копеечку палить, боясь высунуться да прицелиться, – так грош тебе цена как солдату. Иди тогда и… принеси пользу другим способом.
– Нельзя так судить!.. – горячо начал было бородатый Феодор, но его прервало деликатное покашливание.
Иннокентий Януарьевич осторожно кхекал в сухой кулачок, поднесенный к губам.
– Кхе-кхе, грх. Прошу прощения, господа-товарищи. Все высказались? Может, кто-то еще хочет о морали да нравственности поспорить? Нет, я понимаю, русский человек и в смертный час спорить станет, а доброугодны ли дела мои были, так что я не удивляюсь. Но давайте споры отложим. Товарищ Константинов действительно нас торопит очень, армия на букринском пятачке действительно кровью истекает, того и гляди германцы их в Днепр сбросят, а у нас все тихо. Самое время ударить. Как дождемся доклада, как поведает нам Мишель, что его маячки углядели, так и решим. Вернее, господа, я решу, так уж и быть, а вы будете исполнять полученные указания.
В голосе старого мага вдруг зазвенел металл.
– Так точно, ваше высокопревосходительство! – вновь вытянулся Мишель. Остальные тоже подобрались.
– Поэтому ждем, господа, – распорядился Иннокентий Януарьевич. – Ждать, впрочем, не так и долго осталось. До утра-то уже рукой подать. И кстати, чай уже должны были у меня накрыть. Прошу вас, господа, прошу. Чай, кстати, настоящий цейлонский, ленд-лизовский, от наших лондонских, гм, друзей… Так что не побрезгуйте откушать.
На правый берег Днепра, крутой и высокий, пали первые отсветы осенней зари, холодной и неяркой. Ночь прошла спокойно, и ландсеры, солдаты в фельд-грау, благодарили бога, что большевики решили сегодня не тратить ни снарядов, ни заклинаний. Шла смена дозорных, растапливались кухни, а в штабах дежурные уже готовились доложить утренние сводки. На Букринский плацдарм, где большевики которую уже неделю пытались прорвать оборону воинов фюрера, требовалось отправить сводную бригаду – оперативные резервы показывали дно, со спокойного участка фронта уже забрали все, что возможно.
И никто бы не смог сказать, где именно уткнулась в закатный берег посланная заклинательницей незримая «леска».
А она уткнулась – и пропала, утонула в сухом камыше, облетевших кустах, склонявшихся над осенними водами. Уткнулась, канула без следа, замерла, словно мышка-полевка под коршуном – ни писка, ни шевеления.
Но сейчас, когда над Днепром занимался рассвет, незримое ожило. Колыхнулись стебли пожухлой травы, дрогнули нагие ветки, словно кто-то невидимый осторожно пробирался сквозь приречные заросли. Как будто бесплотная рука чертила бестелесным же пером, проводя от реки прямую линию.
Отскочил в сторону камешек, сломалась сухая ветка. Незримое поднималось и поднималось, шло вверх по крутому днепровскому скату, туда, где за гребнем и тянулись немецкие окопы с траншеями.
И где-то в стороне, в глубокой яме под корнями вывороченной старой сосны, незримому что-то отозвалось. Маг ощутил было мгновенное шевеление, короткий родившийся импульс, скользнувший точно так же, по траве и опавшим хвоинкам обратно, к реке.
– Есть! – аж подскочил гвардеец Мишель. – Прошу прощения, господа, – вдруг смутился он. Ну да, не к лицу полковнику советской армии, а ранее – штабс-капитану Вооруженных Сил Юга России, а еще ранее – поручику лейб-гвардии Волынского полка, этак подскакивать, когда сработали его маяки, тщательно и с немалым риском упрятанные на той стороне Днепра.
– Карту! – сухо бросил Иннокентий Януарьевич, привставая из-за учительского стола.
Бородатый Феодор Кириллович не без лихости прищелкнул пальцами. Карта сама по себе вырвалась из планшета, затрепетала в воздухе листами-крыльями, разворачиваясь, и послушно легла пред светлыми очами высокого начальства.
– Лихачишь, – несколько неодобрительно проворчал Игорь Петрович. – Твой бы телекинез – да на Курской б дуге…
– Твоими б устами да мед пить, – отмахнулся бородач. – Сами ведь знаете, – вернулся он к принятому среди свитских «вы», – не остановить мне с ходу ни снаряда, ни даже пули. Вот карту могу… Да и только.
– Был у нас в полку, – объявил вдруг Мишель, – тоже один маг-перемещатель. Ловок был, зараза, на спор как-то одной даме под подол мышку перенес, да и запустил…
Свитские ухмыльнулись, кто-то коротко хохотнул.
– Но не про то речь, господа. Все б с ним было хорошо, кабы не начал он в картах мухлевать, себе из колоды что нужно подтягивать.
– И что ж вы с ним сделали? – полюбопытствовал Игорь Петрович.
– Что, что… Что положено. Сперва канделябром, потом суд чести. В отставку спешно вышел, по состоянию здоровья. Здоровья у него, скажу я вам, господа, и впрямь поубавилось, так что и врать почти не пришлось.
– Ну, я и с колодами не умею, – вздохнул Феодор. – Вот только с такими вот…
– Посмеялись, господа-товарищи, и довольно, – оборвал свитских старый маг. – Докладывайте, Мишель.
Тот сощурился, словно глядя куда-то вдаль, сквозь беленые стены классной комнаты.
– Три сосны… развилка… валун… пулеметное гнездо… дзот… А, дьявол, карандаш дайте, черти!
Феодор Кириллович всунул ему в пальцы красно-синий карандаш, заточенный с двух концов.
Даже не бросив взгляда на расстеленную карту, Мишель принялся вслепую, лихорадочно наносить значок за значком. Смотрел он по-прежнему куда-то вдаль.
– Ну, сильна баба-то оказалась, – вполголоса бросил усач Севастиан. – Эк заслала-то!.. Мои-то все перехватывались…
– Да и у Мишеля сколько маяков сожгли, пока те, что есть, забросить удалось, – кивнул Феодор.
– Она там не только наживку пустила, – вполголоса заметил молчаливый Игорь Петрович. – Остальное, неинтегрируемое.
Старый маг только остро взглянул на него и резко, отрывисто кивнул.
– Именно. Она вошла в транс, достаточно глубокий, чтобы ничего не помнить. И это, господа, нам на руку.
Гвардеец Михаил Станиславович меж тем лихорадочно испещрял карту многочисленными значками, ловко переворачивая карандаш, так, что синие росчерки мешались с красными. Глядел он по-прежнему куда-то сквозь стену абсолютно пустыми, ничего не выражающими глазами, рот приоткрылся, на висках проступил пот.
– Эк крутит Мишеля-то, – покачал головой усач Севастиан.
– Его-то крутит, а вот что мы будем делать со всей этой прелестью? – кивнул на карту Семен Константинович. – Понятно, почему германцы отсюда войска снимают. Настоящие мастера оборону ставили.
– Кто-то из птенцов гнезда Эрлихова, – проскрипел Иннокентий Януарьевич, тоже не отрывавший взгляда от пляшущего по бумаге карандаша. – Смотрите, как все продумано. Каскад. Каскад с плавающим фокусом, с возможностью экспоненциального усиления… Это повесомее «Лейбштандарта «Адольф Гитлер» будет.
– И товарищ Константинов хочет здесь малой кровью прорваться? – покачал головой бородатый Феодор.
– Именно здесь и можно, любезный, – с холодком бросил старый маг, не глядя на казака. – Нас они тут не ждут. Подкрепления все шли на Букрин, здесь ни танков, ни авиации. Ну, а ваш покорный слуга, хе-хе, известный мясник и палач, хо-хо, занимается, как известно, выкорчевыванием крамолы, а никак не боевыми операциями, и нашим визави за Днепром это отлично известно.
При словах о «выкорчевывании крамолы» четверо свитских как-то неуютно переглянулись, за исключением Мишеля, по-прежнему рисовавшего свои значки и дошедшего уже почти до самого края карты.
– Ваше высокопревосходительство… – негромко и словно б в смущении проговорил Игорь Петрович, разводя руками.
– А что ж тут такого? – старый маг вскинул кустистые брови. – Крамолу – корчуем! Врагов первого в мире, хе-хе, государства рабочих и крестьян – разоблачаем! Не без вашей помощи, мой дорогой, не без вашей помощи.
Игорь Петрович только вздохнул и отвернулся.
– Все для пользы дела, господа, – строго, но и не без гордости объявил Иннокентий Януарьевич. – Нравятся мне этим большевики, решительный народ. Уж делать, так делают. А вот, помнится, в семнадцатом господин Керенский, доброго ему здоровьичка, болезному, миндальничал, тянул, тянул, тянул… ни на что сподобиться так и не смог. Как сейчас помню, прихожу к нему с бумагами, дескать, господин председатель правительства, большевика Ульянова арестовать необходимо немедленно! А тот знай себе только: «Ну да, ну да, ищите, но смотрите, без эксцессов, популярность социал-демократов в рабочих кварталах…» – Он махнул рукой. – Нет, господа, сейчас такого допустить нельзя, и мы, – он сделал ударение на «мы», – мы этого не допустим. О, Мишель! Вы никак закончили, неутомимый вы наш?
Гвардеец тяжело дышал, опираясь о стол обеими руками и низко уронив голову. На неутомимого он сейчас никак не походил.
– Т-так точ-чно, ваше высокопревосходительство. – Гвардейская выучка, тем не менее, взяла верх. – Закончил. Маяки все. Но и сильна ж эта баба, будь я неладен! Дикая магия, точно. Водяница, ундина, русалка, мавка – как хотите, так и зовите.
– Ундина, значит, – многозначительно хмыкнул Иннокентий Януарьевич. – Дикая магия, значит? Вот и отлично. Она-то нам и сгодится. Будет Георгий Кон… то есть товарищ Константинов, – он ухмыльнулся, – премного доволен.
Свитские безмолвствовали, только бородатый Феодор протянул молча Мишелю плоскую фляжку. Тот благодарно кивнул, сделал добрый глоток, крякнул.
– Казачий полк всегда знает, где лучшей выпивкой разжиться. Это вам не наркомовские сто грамм.
– Какой там казачий… – начал было бородач, но гвардеец только рукой махнул.
– Не притворяйся, Федя, «красным командиром», плохо у тебя это выходит, друг мой.
– Разговорчики, – недовольно свел брови Иннокентий Януарьевич, и разговорчики действительно мигом стихли. – Бабу эту и пустим.
– Ее? – с оттенком беспомощности переспросил Феодор. – Ваше высокопревосходительство… Иннокентий Януарьевич… Она ж женщина как-никак…
– Она большевичка, – фыркнул Мишель. – Ей сам бог велел. За родину, за партию, за товарища Сталина…
– Все лютуешь, Миша, – покачал головой казак. – Все Крым забыть не можешь?
– Чего я уж им забыть не могу, Федя, это дело мое, приватное, – отрезал гвардеец. – Но с Иннокентием Януарьевичем согласен. Баба эта пострашнее «ангелов» выйдет, коль вразнос пустить.
– Вразнос… – казак вздохнул, покачал головой. Остальные свитские тоже угрюмо понурились.
– Эх, воспитание дореволюционное, – криво ухмыльнулся Мишель. – С волками жить – по-волчьи выть, господа. Мы в Россию большевистскую вернулись? Вернулись. В Красной Армии нерушимые ряды вступили? Вступили. Полковничьи погоны носим, пайки особые получаем? Квартиры старые в Москве да Петрограде вернули, бронь от уплотнений выхлопотали? Вернули, выхлопотали. Ну так отрабатывать пора. По-ихнему, по-большевистски. Без сомнений и колебаний. Надо на смерть человека послать – пошлем. Надо батальон, полк, дивизию – тоже пошлем. Мы-то тогда мямлили, колебались, ни туда ни сюда, а они свою линию гнули – вот и победили. Вот и носим теперь, господа-товарищи, погоны без вензелей.