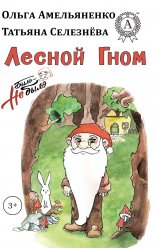Мобберы Рыжов Александр

– Где же вы жили? – спросил Джим, которого рассказ блудного искусствоведа вынудил расчувствоваться.
– Где п-приходилось. Спал в парках на скамейках. Лето б-благодатное, ни ангины, ни б-бронхита не подхватил. С едой тоже на первых порах было более-менее: понемножку снимал через б-банкомат деньги, покупал хлеб, сыр, ряженку… Старался много не тратить, но всему, как вы знаете, есть п-предел. Деньги на карте к-кончились, взять их неоткуда, вот и хожу, ищу снедь в б-баках. Там йогурт просроченный попадётся, там кефир в упаковке кто-то не д-допил…
– Вы так ни разу и не приходили к себе?
– Ни разу, – Андрей Никитич поник головой. – Как вспомню того… с п-пистолетом, так сразу кровь стынет. Вам этого не п-понять.
– Мы вас понимаем, – сказал Джим. – И мы знаем, что ваши опасения не напрасны. Но на что вы надеялись? Не могли же вы бомжевать всю жизнь!
– Б-безусловно. Эти несколько недель стали для меня пыткой. Я и так был не слишком упитанный, а тут похудел к-килограммов на пятнадцать. Про одежду уже и не говорю…
– Да, видок у вас непрезентабельный, – отметил Хрофт. – Только для таких заведений и годится.
Он презрительно оглядел заплесневелые стены закусочной. Андрей Никитич пристыженно смолк.
– Человека, который шантажировал вас, больше нет, – сказала Рита. – После того как вы убежали, он поехал к вам домой, чтобы найти в компьютере вторую часть статьи о капитале, ведь у него были ключи от вашей квартиры. Однако во дворе он попал в аварию. Его дружки подъехали, когда он находился без сознания в разбитой машине. Они успели забрать портфель с картой Царицына, потом их спугнула милиция, и они скрылись, оставив своего патрона во дворе. Лицо было исполосовано порезами и залито кровью, поэтому никто из соседей не заметил, что его внешность не совпадает с вашей. Все думали, что это вы, ведь он приехал на вашем автомобиле и сам сидел за баранкой. Под именем Калитвинцева Андрея Никитича его отвезли в больницу, где он на днях скончался.
– Вы в-видели его?
– Я с ним разговаривала. Пыталась узнать у него, где искать капитал, но он сказал лишь про портфель с картой-обманкой и показал на пальцах крест.
– А его п-подручные?
– Они каким-то образом разузнали, что в деле поиска сокровищ появилась третья сторона, то есть мы, и с того момента не дают нам проходу. Сейчас мы идём с ними вровень, но они всё время фолят. Сегодня они похитили нашего друга и требуют за его освобождение новые сведения по делу о капитале. Счастье, что мы вас встретили!
– Смогу ли я чем-то п-помочь вам?
Рита вынула из сумочки шариковую ручку, написала на обёрточной бумаге: «Карл Брюллов. Помпеи» – и пододвинула листок к Калитвинцеву.
– Это мы прочли, применив пушкинский шифр к стихотворению Веневитинова. Но на что должна указывать картина Брюллова, нам неизвестно.
– Вы п-проницательны, – произнёс Андрей Никитич, посмотрев на листок. – Над пушкинской криптограммой я бился дня три. А вот на этапе с картиной завяз окончательно. Её тайна для меня за семью печатями.
– Вы же писали, что сокровища Зинаиды Александровны почти у вас в руках!
– Я писал н-несколько сдержаннее. Я подначивал своих читателей, не более того… Сокровища Зинаиды Александровны всё ещё остаются для меня журавлём в небесах. А теперь мне и подавно не до них.
– Андрей Никитич, от вас зависит, доживёт ли наш друг до завтрашнего вечера! Скажите хоть что-нибудь!
– Тужься, папаша, тужься, – Хрофт синтезировал из пальцев кулак, повозил им по щелястому столу.
– А вы п-поможете мне вернуться к людям?
– Гадом буду, если не помогу! Век воли не видать!
Калитвинцев покосился на его руку, щедро разукрашенную татуировками.
– Он любит подтрунивать, – успокоила искусствоведа Рита и неприметно для Калитвинцева толкнула Хрофта под столом ногой: думай, что несёшь! – Мы рассчитываем на вашу чистосердечность, Андрей Никитич. А вы можете рассчитывать на наше всемерное содействие в деле вашего возвращения в лоно цивилизации.
Калитвинцев отпил из щербатого стакана столовский чифирь.
– Т-такое ощущение, что я правонарушитель, а вы меня изобличаете! Но я не совершал ничего п-противозаконного!
– Поэтому вам не надо бояться. Рассказывайте.
– Рассказывать по большому счёту нечего. Если вы прочли всё, что я написал о капитале, и разгадали шифр П-пушкина, то наши скакуны движутся по ипподрому абсолютно в-вровень.
– Мы сделали больше, – Рита вытащила из сумочки что-то завёрнутое в тряпицу. – Это нам передала мадам Иртеньева.
Калитвинцев развернул тряпицу, и на ладонь ему выпал перстень.
– Он у вас! – Андрей Никитич, к удивлению Риты и остальных, извлёк из кармана своего засаленного пиджака монокль и вставил его в глаз. – Восьмиугольный с-сердолик… он же халцедон тёмно-красных т-тонов… широкая шинка… надпись на д-древнееврейском языке. Да, это тот самый перстень. Я в-видел его у Иртеньевой и собирался купить, когда выйду на с-след капитала.
– Она не хотела на нём наживаться. Мы получили его в подарок. Теперь требуется установить, где замочная скважина, к которой подойдёт эта отмычка.
Калитвинцев завернул перстень обратно в тряпицу.
– Уберите! Из-за него все мои б-беды, – Андрей Никитич насупился. – Вы хотите узнать, где капитал В-волконской? Одно могу сказать с определённостью: в России его нет и, скорее всего, никогда не было. Сокровища н-найдены в Италии, и княгиня была не настолько п-пустоголова, чтобы везти их с собой в Россию. Она, как шахматистка, умела п-просчитывать ходы. После смерти Веневитинова п-позиции её стали совсем шаткими, ей угрожал арест и она в срочном п-порядке уехала на свою вторую родину. Она не могла б-бросить капитал в России, зная, что ей не суждено за ним вернуться. Сокровища находились в Италии, в этом я уверен.
– А сейчас? Где они сейчас?
– Если княгиня не передала их т-тайком кому-нибудь ещё, значит, они там же. Известно, что у неё на вилле неоднократно б-бывал Гоголь, княгиня обращалась к нему с какими-то уговорами, но он отказался н-наотрез… Возможно, речь шла о капитале. Сокровища в Италии! Это так же точно, как то, что я уже месяц живу б-бродягой.
– В Италии… – проговорил Джим. – Очень растяжимое понятие. Триста тысяч квадратных километров. Как я понимаю, картина Брюллова должна навести нас на определённое место.
– Совершенно верно. Брюллов был знаком с Волконской ещё по первому своему п-пребыванию в Италии, куда он выехал в тысяча восемьсот д-двадцать втором году. Между ними установились д-доверительные отношения, сохранились её п-портреты, написанные им. И вот ещё совпадение: к-картину «Последний день Помпеи» он начал в роковом тысяча восемьсот д-двадцать седьмом, сразу после гибели Веневитинова…
– Клад зарыт в Помпеях? Но там не было ни масонов, ни розенкрейцеров! Они появились гораздо позднее…
– Я бы воздержался от скоропалительных в-высказываний, – сказал Андрей Никитич, на мгновение превратившись в учёного ментора. – В Помпеях были найдены ф-фрески с масонской символикой, так что возраст масонства подлежит п-пересмотру и уточнению. К тому же капитал необязательно спрятан в Помпеях или в Геркулануме. На к-картине Брюллова есть какие-то знаки, своего рода указатели… Они могут указывать в любом н-направлении.
– Баста. – Не вытерпев, Хрофт во весь рост поднялся над столом. – Довольно трепаться. Надо Асмуда вызволять.
Хрофт в роли Рэмбо
В подвале тумкала вода, срываясь с труб, как с натёкших в земной толще сталактитов. Хрофт, держа одной рукой продолговатый баул, другой оттёр Риту назад.
– Я пойду первым, – сказал, не допуская возражений.
Рита не прекословила, двинулась за ним, дыша в затылок. Пистолет, заряженный новым баллончиком, был под рукой. Сзади их прикрывал Джим, вооружённый электрошокером.
– Баул-то зачем? – спросил он Хрофта, когда пробирались через хитросплетения сантехнических аорт.
– В турне собрался, – цвыркнул сквозь сомкнутые зубы Хрофт. – На гастроли по странам Евросоюза.
Конкуренты уже поджидали их. У торцевой стены, под зыбистыми опахалами света, отбрасываемого керосиновой лампой, стояли пятеро ханыг, среди которых был и чавкающий бугай. Увидев вошедших, они защёлкали предохранителями пистолетов (не газовых, настоящих) и направили три ствола на
Хрофта, Риту и Джима, а остальные два – на привязанного к трубе Асмуда, чьи губы были заблокированы скотчем, а глаза завязаны непроницаемой косынкой.
– Ну что, птахи, пойте… чвак!
– Сокровища в Италии, – выставился Джим, прикрыв собою Риту.
– Не смешно, слепошарый, – хрипнул бугай. – Или валяйте, как есть… чвак!.. или кладём на месте всех четверых.
– Дай я скажу. – Рита приложила максимум стараний, чтобы пролезть между Джимом и Хрофтом, но ей не дали продвинуться ни на шаг. Хрофт, этот неотёсанный гунн, шатнул её в сторону алькова, образованного выемкой в стене. Там, в алькове, виднелся соломенный матрас – спальное место какого-нибудь анахорета, которого жизнь, как искусствоведа Андрея Никитича, выбросила на улицу.
– Спрячься там, – уголком рта скомандовал Хрофт.
Они встали с Джимом плечом к плечу. Джим недвусмысленно поигрывал шокером. Бугай направил пистолет между его ног.
– Хочешь канкан сбацать, а, водолаз?
Джим рукой, внезапно охваченной тремором, поправил очки.
– Начнёте стрелять – услышат… Акустика здесь – как в «Карнеги Холле».
– А нам до фени… чвак! Кто услышит, тот сам пулю словит. – Бугай вильнул стволом. – Брось свою клюшку вон туда.
Джим помешкал, но, увидев, что чёрная зеница снова наведена на низ его живота, отшвырнул шокер в угол подвала. Бугай нацелил свой пистолет на Хрофта.
– А у тебя, жиртрест, что в бауле? Показывай!
– Глобус Украины. – Хрофт поставил баул на пол, расстегнул и сказал, не разгибаясь: – Иди смотри. А то твои блатари увидят, самим захочется.
Бугай со вскинутым пистолетом подошёл к нему. Хрофт расправил собравшиеся гармошкой закраины баула, запустил руку внутрь.
– Погодь, сейчас выну.
Что он вынул из баула, бугай разглядеть не успел, ибо маленькое и тугое, как каучуковый мячик, влепило ему в переносье. В глазах защипало, бугай выронил пистолет и схватился за лицо. В руках у Хрофта оказалось странное широкоствольное ружьё с насадкой. «Пляк-пляк-пляк!» – прошёлся он из-за голосившего бугая по тем ханыгам, что держали на мушках связанного Асмуда. Они затрясли руками, оружие попадало на пол, а на их тельниках а-ля питерские митьки расползлись пятна, сходные по форме с медузами. «Стечкин» бугая, отфутболенный Хрофтом, ширкнул по полу в угол и очутился в руке у хваткого Джима.
– Ни с места! – загремел Хрофт, отступив к трубам.
Джим залёг за коленом одного из аппендиксов теплотрассы и, поведя пистолетом, который он держал, как шериф из вестерна – двумя руками навытяг, – крикнул:
– Бросайте стволы! Ну!
«Пляк-пляк-пляк-пляк!» – Хрофт не стал дожидаться, пока до ханыг дойдёт, что в руках у него обычный пейнтбольный маркер, и разукрасил их под хохлому. Они завертелись, сослепу рассылая анафемы во все стороны света. Унавоженный краской чавкающий бугай бросился сбоку на Джима, но ему в табло пыхнул направленный газовый мини-смерч, отбросивший его к Хрофту, который не отказал себе в удовольствии вмазать ему под дых. Бугай заревел, как слон, наступивший на дикобраза. Из простенка вышла Рита, довольная тем, что её расторопность тоже оказалась нелишней.
– Джим, держи их на прицеле! – Хрофт с ружьём наперевес совершил героический рейд через освещённый лампой круг, расшвырял, как Сильвестр Сталлоне, дезориентированных противников и перочинным ножом перепилил путы, стягивавшие руки и ноги Асмуда.
– Тикай!
Асмуд сорвал с лица косынку, со стоном старого ревматика задвигал затёкшими конечностями и, как Железный Дровосек, которому сердобольная Элли капнула на суставы машинного масла, пошагал к выходу из подвала. Он подёргивался, словно марионеточный паяц, ноги не сгибались.
– Давай, давай! – торопил Хрофт, поливая ханыг шариками, как из брандспойта. – Джим, бери Ритку, уходите, я за вами.
– А с хлопушкой что? – Джим поднял пистолет дулом кверху.
– На улице выбросишь. Беги!
Джим с Ритой на прицепе вытолкал Асмуда из подвала. Хрофт прикрывал их отход, пока не кончился боезапас. Сунув ружьё в баул, он вылетел наружу со скоростью сверхзвукового самолёта. Через десять минут вместе со спасённым Асмудом они уже ехали на метро в другой конец города.
– А ты ничего! – похвалил Хрофт Джима. – Я думал, мозгляк мозгляком… Мне самому стрёмно стало – их пятеро, у всех пушки. Одному не осилить. Хочешь к нам в дружину? Меч подарю. Кованый, двуручный.
– Спасибо, я как-нибудь с мобберами… – ответил Джим, держась за поручень эскалатора.
Отвоёванный у мафии пистолет они перебросили через открытую фрамугу прямо в кабинет райотдела полиции. Избавившись от оружия, Джим вздохнул свободнее, хотя пережитое всё ещё сидело в нём, корёжа нервную систему, как дантист-неумеха корёжит десну. Асмуд уже пришёл в себя, но, обуреваемый тем, что ему случилось испытать, был не в состоянии говорить связно.
– Били? – спросила Рита.
– Нет, – ответил он клейкими от скотча губами. – Сразу в подвал… там и сидел…
– Про клад спрашивали?
– Нет. Ширнули чем-то в сгиб, я и отрубился. Потом слышу: вы… Ещё и сейчас кумарит…
– Гляди не подсядь, – сказал Хрофт. – Мне в дружине нарки не нужны.
Они несколько раз перешли с линии на линию, чтобы по возможности запутать супостатов, если те вздумают устроить преследование. По пути Рита рассказала Асмуду, что произошло, пока он был в заточении. Узнав, что нашёлся искусствовед Калитвинцев, Асмуд пришёл в крайнюю ажитацию:
– И он тоже не знает, где клад?
– Если б знал, сказал бы. Уж очень напуган, не позавидуешь.
– Этот клад как стремнина, – произнёс Джим. – Сколько уже людей туда затянуло, и мало кто живым выбрался. Может, и Веневитинов не первым был.
– Может… – Рита посмотрела вдаль, будто прозревала через века. – Но мы не отступимся. Даже если понадобится ехать в Италию.
Чего они не знали
Мартовским вечером в петербургском доме Ланских, что стоял невдалеке от реки Мойки, был устроен свойский, или, как принято говорить, камерный, бал. Ни вселенского шика, ни помпезности, так ценимой в столице. Среди гостей – только близкие. В парадном зальчике вальсировали в шандалах соцветия свечного пламени, из клавесина паточно вытекала музыка, под которую на вощёном паркете чинно вытаптывали танцевальные па элегантные пары.
– А вы что не танцуете, Дмитрий Владимирович? – спросила устроительница бала, Варвара Ланская, своего жильца – статного, будто вырубленного резцом ваятеля, голубоглазого человека с байроновскими чертами лица. – Вон та брюнеточка, если меня не подводит зрение, строит вам глазки.
– Кто это, Варвара Ивановна?
– Дочь моей приятельницы, вы её не знаете. Я, между прочим, уже шепнула ей, что у меня гостит поэт Веневитинов, любимец Аполлона и покоритель сердец, так что… будьте начеку! – Ланская засмеялась и взяла щипчики, чтобы снять нагар со свечи.
– Полноте, Варвара Ивановна, – улыбнулся голубоглазый, – какой я покоритель…
Он подошёл к клавесину и попросил музыканта с мшистыми бакенбардами сыграть Моцарта. По залу разнеслись аккорды из «Волшебной флейты». Веневитинов отошёл к окну и, заложив руки за спину, стал смотреть во двор, где ершистые воробьи скакали меж ещё не стаявших снеговых заплаток. Он слушал музыку и думал о своём. Вот уже три месяца жил он в Петербурге, а всё не мог привыкнуть к сырым бризам, дувшим с залива, к деловой суматохе, совсем не похожей на праздное многолюдье патриархальной Москвы, к наводнявшим улицы чиновничьим экипажам…
Впрочем, нужно ли этим заботиться? У него и так дел невпроворот. Кроме службы в Азиатском департаменте Министерства иностранных дел, столько всего надо успеть! Обидно, что привелось так безотлагательно покинуть Москву – в то самое время, когда только-только началась работа над «Московским вестником», детищем, которое он сам произвёл на свет и на которое возлагал столько надежд. Первые нумера, полученные в январе, оставили неважное впечатление. Журналы были худощавы и малосодержательны. В письмах он костил прижимистого Погодина за то, что тот не раскошелился на пяток-другой добавочных страниц, Шевырёва – за длинноты в статьях, и того и другого – за то, что не используют перепечатки из заграничных журналов. А в письме к сестре Соне признавался: «Я ещё далёк сердцем от Петербурга, и воспоминания о Москве слишком ещё мною владеют, чтобы я мог любоваться всем с должным вниманием и искренно наслаждаться виденным».
Воистину он не рвался в столицу и, если бы не Зинаида, навеки остался бы в Москве. Но всё сложилось так, и он теперь, похоже, нескоро обретёт прибежище. А виною всему перстень, лежавший сейчас в кармане сюртука. Покуда этому перстню не будет дан ход, он, его носитель, обречён на скитания, как библейский Агасфер…
Здесь, в Петербурге, у него вдруг валом пошли стихи. И какие стихи! Перечитывая «Три участи», «Поэта и друга», он готов был, подобно Пушкину, бить в ладоши и кричать: «Ай да сукин сын!» В этих стихах уже не было того эпигонства, за которое рецензенты порою хлёстко именовали его попугаем, перепевающим зады поэзии Жуковского. В них была самостоятельность, выход на собственную поэтическую стезю. Никто отныне не укорит его в подражательстве!
Позади затиликали беспечные ноты кадрили.
– Танцуем, господа, танцуем! – воскликнула Варвара Ивановна. – Дмитрий Владимирович, не отставайте!
Веневитинов отошёл от окна. К дьяволу сплин! Сегодня нужно расслабиться. Как знать, может, это последний его бал в Петербурге. Интересно, в Персии танцуют кадриль?
Он направил стопы к миловидной брюнетке, о которой говорила Ланская, и промолвил по-французски:
– Позвольте ангажировать вас на танец, мадемуазель.
Брюнетка засветилась так, что огонь в расставленных кругом зала канделябрах померк и опал. Веневитинов повёл свою партнёршу на середину и стал выплясывать с ней кадриль с тою удалью, благодаря каковой он ещё в отрочестве снискал себе славу первейшего танцора. Брюнетка была ему под стать, и он засмотрелся на неё. Да, такую вот представлял он, когда придумывал образ Бенты для своего романа «Владимир Паренский», начатого несколькими неделями ранее. Ланиты у неё горели пурпуром, а перси волнительно приподымались под платьем… Сам того не замечая, он стал мыслить высокопарным литературным слогом. Не далее как вчера вечером, сидя у себя во флигеле, он писал сцену сближения Бенты с Владимиром: «О Бента! Зачем не скончала ты жизни, когда твой друг прижимал тебя так крепко к груди своей? Твое последнее дыхание было бы счастливою песнею. На земле не просыпайся, дева милая! Скоро… неверная мечта взмахнёт золотыми крыльями, скоро, слишком скоро слеза восторга заменится слезою раскаяния». Как бы повела себя эта брюнетка, окажись она на месте героини его романа?
Проводив её после кадрили на место, он отошёл к столику выпить лимонаду.
– Вы ещё вернётесь? – спросила она, жеманно сложив губки бантиком.
– Ради вас – всегда.
В гортани пересохло, он выпил два фужера и снова отошёл к окну, откуда потягивало холодком. Двор уже подёрнулся вечерней полутьмою, и в этой полутьме Веневитинов разглядел зачернённый абрис человека в плаще с капюшоном. Обходя разливы талой воды, человек приближался к дому. У входа он надвинул капюшон так, чтобы тот скрыл лицо до самых ноздрей, дёрнул колокольчик и что-то подал вышедшему слуге. Потом повернул голову к окну. Из-под капюшона он едва ли мог что-либо видеть впереди себя, но Веневитинов отстранился и укрылся за портьерой.
Вошёл слуга и протянул ему бумажный ромбик, сказав, что господин во дворе просит его выйти. На ромбике, в геральдическом окаймлении, были нарисованы роза и крест и стояли четыре слова: «Crux Christi Corona Christianorum».
Веневитинов как был, распаренный после танцев, без верхней одежды, выскочил из дому. На улице мороз вкупе с промозглой весенней сыростью обернули его заиндевелой простынёй, и он сразу продрог с головы до пят. Человек в плаще поманил его крючковатым пальцем. Веневитинов пошёл за ним. В глубине двора человек остановился, встал спиною к светившимся окнам и сбросил капюшон.
– Бельт? – Веневитинов сделал шаг назад. – Как вы… Что за балаган?
– Я знал, что вы поддадитесь на эту уловку, – удовлетворённо произнёс человек. – Девиз золотых розенкрейцеров действует безотказно… Да-да, мой друг, я осведомлён о ваших связях с этой шатией. И не я один.
– Кто же ещё? – спросил, подавив волнение, Веневитинов. – Его сиятельство граф Ламбер? Он уже намекал мне, что судебной палате известны все мои проступки. Но вам не запугать меня, Бельт. С тех пор как я заметил, что вы всюду шныряете за мной, ваши происки перестали быть для меня опасными. По-настоящему опасен только тот враг, о котором не ведаешь.
– Вот как? – Бельт спрятал озябшие руки под плащ. – Вы переоцениваете себя, мсье. Ваша самоуверенность губительна. Знайте, что против вас и ваших соумышленников выступает не только Ламбер. Вы замахнулись на святое, Веневитинов, на имперские устои, и теперь вам придётся туго. Однако вы ещё можете возвратить всё на круги своя и получить прощение.
– Каким же образом?
– Что вам доверила Волконская? Не отвёртывайтесь! Нам известно, что в Москве вы имели с ней секретную беседу и она вам передала… Что передала?
– Спросите у генерала Потапова. Он трое суток продержал меня в узилище с мокрицами и задал столько вопросов, сколько не задавал своему воспитаннику ни один учитель арифметики.
– Не зарывайтесь! – пригрозил человек в плаще. – Вы вступили в сражение с такими силами, что за вашу жизнь никто не даст и полушки. Зачем вам по доброй воле класть голову на плаху? Покиньте это ристалище, оно не для вас. Вы поэт, философ… Вы можете сделать карьеру дипломата. Вам уже говорили о возможном повышении по службе? Вы только поступили в департамент, а уже замечены. Люди, на которых вы подъемлете руку, всемогущи. Они в состоянии устроить вас наилучшим образом. Или растерзать… Выбирайте!
– Я уже выбрал, – проговорил Веневитинов, сцепив зубы, чтобы дрожание от стыни не было принято за дрожание от страха.
Бельт усмехнулся. Два окна лежали на его плечах, как эполеты. За рамами Веневитинов видел веселящихся гостей, слуг, разносящих питьё на подносах, всплески свечных огоньков…
– Если вас сейчас убить, этого никто не заметит, – сказал Бельт чужим, медиумическим голосом.
– Попробуйте.
Веневитинов не страшился назревавшей стычки. Физические упражнения закалили его тело, а Бельт был сложён не столь могутно, чтобы можно было говорить о решающем перевесе.
– Желаете на кулачках или на эспадронах?
В глазах у подзуживаемого Бельта зажглись рубиновые светлячки.
– Ещё раз спрашиваю: вы будете повиноваться? – Он приблизил лицо с вившейся вдоль щёк белокурой шевелюрой к лицу Веневитинова. – Вы же не розенкрейцер, вам чужды воззрения этих еретиков, ввергших свои души в геенну. Неужели вас не пугает преисподняя?
Веневитинов замёрзшими пальцами подёргал свою эспаньолку.
– Я не еретик, я смутьян. И ради достижения успеха пойду на сговор даже с Вельзевулом. А успех в моём понимании – очищение России от кикимор, подобных вам, графу Ламберу и вашему венценосному покровителю. Что до моей загубленной души, то не я, а вы – сродник бесов. Вам и гореть в аду!
– Безумец! – Бельт взмахнул полами плаща, как ворон крылами, и пырнул своего визави отточенным стилетом.
Веневитинов ждал нападения и отбил выпад пястью (фехтовальщик остаётся фехтовальщиком даже без рапиры). Стилет вылетел из руки Бельта и воткнулся в слюдяную шелуху ещё державшегося под стеною наста. Бельт оступился, упал на одно колено. Веневитинов скрестил руки на груди, приняв позу Наполеона.
– Довольны? Если нет, я пришлю вам завтра секундантов.
Бельт поднялся, с него капала вода. Он оправил складки плаща и зачем-то отстегнул агатовую запонку. Веневитинов не успел сообразить, как получил удар, едва ослабленный скрещёнными руками. Какой-то шип царапнул его между костяшками пальцев на правой кисти. Выпустив эту парфянскую стрелу, Бельт кинулся со двора наутёк и сделал это вовремя. Раскрылась дверь, от порога послышался голос Хомякова:
– Дмитрий! Ты где?
Веневитинов стёр снегом капельку крови, выступившую из оставленной шипом ранки, и поднял стилет. Он едва успел спрятать оружие в рукав. Подбежавший Хомяков набросил на его плечи шинель.
– С кем ты тут? Ты весь заледенел! Варвара тебя ищет.
– Скажи… Скажи, что я не приду больше. – Веневитинов еле проговаривал слова, его колотило.
– Да что с тобой сделалось?
– Ничего, Алексей… Утомился. Давно столько не танцевал. Иди обратно, а я к себе, отдохну чуток.
И, стянув на груди шинель, он пошёл во флигель, оставив Хомякова посреди двора.
Сцен 5-й
Храм Соломона
БРАНДМАЙОР (направляется к выходу и вдруг останавливается): Кстати, а как поживает лысая певица?
Общая тишина. Заминка.
Г-ЖА СМИТ: Причёска у неё осталась прежняя.
Эжен Ионеско, «Лысая певица»
Обратная сторона сердолика
«…Пункт избрал я в Strada dei Sepolcri (улица Гробниц)… Декорацию сию я взял всю с натуры, не отступая нисколько и не прибавляя, стоя к городским воротам спиною, чтобы видеть часть Везувия, как главную причину, без чего похоже ли было бы на пожар?»
Рита закрыла тетрадку с заранее выписанными в неё отрывками писем Брюллова, касавшихся работы над центральным полотном его жизни, и ещё раз огляделась. Городские ворота, улица Гробниц – всё в наличии. Строения мало сходствуют с теми, что изображены на картине, а вернее сказать, совсем не сходствуют. У Брюллова на холсте – хаос, бедлам и кавардак. У него там огневое зарево, застилающее крыши домов, комья дыма, разруха, а на переднем плане – мятущиеся люди. Нынче же в Помпеях всё мирно, проштрафившийся Везувий горбится поодаль, как ученик, который устроил в классе ералаш, а теперь поставлен преподавателем в угол и от стыда старается ни на кого не смотреть. На улицах Помпей прибрано, здесь не слышно криков, туристы совершают свой неторопливый променад по очищенным от лавы мостовым. Времена, когда на город сыпались камни и пепел, кажутся такими далёкими, а то и вовсе былинными.
– Копыта гудят, – посетовал Хрофт. – Покемарить бы где-нибудь в тенёчке.
На берегу Неаполитанского залива летнее солнце пекло нещадно. Джим протянул Рите подтаявшее мороженое – единственное избавление от перегрева. С собой у них была вода в пластмассовых бутылочках, но она давно нагрелась до температуры парного молока; утолить ею жажду было так же сложно, как и зачерствелой хлебной горбушкой. Рита, держа эскимо двумя вытянутыми пальцами, лизнула его размягчившуюся, покрытую маленькими кратерами верхушку, похожую на изваянную из алебастра модель планеты Марс. С мороженого на мостовую закапало, Рита увеличила амплитуду слизывания, но эскимо всё равно растеклось у неё в руке прежде, чем она успела его доесть.
В Италию они прибыли два дня назад. В этой стране Рита бывала трижды, в своё время она показалась ей постной, как иноческая похлёбка, и чересчур эклектичной. Всё, что было намешано в этом бродившем на солнце горячем супе, отдавало безвкусицей, несмотря на засилье памятников, оставшихся от легендарной Римской империи с её неподражаемой антикой. Франция – куда лучше, там не так пресно. Но сейчас до зарезу нужно было именно в Италию. Рита уже репетировала разговор с отцом, намеревалась объяснить внезапный магнетизм, потянувший её на Апеннины, тоской по маме, которая неизвестно когда выберется из своего анклава. Представляла, как Семёнов разразится кашляющим хохотом:
– Хо-хо! Кхм! Мама! Только про маму ты и думала! Не пудри мне мозги, Ритусик, а то как будто я тебя не знаю… За сокровищами настропалилась?
К счастью, вранья не потребовалось. Семёнова срочно отправили на какие-то курсы повышения квалификации в Первопрестольную. Планировалось, что в отъезде он пробудет недели две. Проводив его в Пулково, Рита решила: её час настал! Вряд ли поездка в Италию займёт больше десяти дней. Отец, с которым условились созваниваться раз в два дня по мобильнику, ничего не узнает.
И Рита поехала. Если совсем точно – полетела. Из Питера «Боингом» в Рим, а оттуда уже действительно поехала – автобусом к восставшим от тысячелетней спячки Помпеям. В одиссею по самой удлинённой стране Европы вместе с ней отправились Хрофт и Джим. Асмуда не взяли, как ни просился: после пребывания во вражьем стане с ним сделалась нервная горячка, и психоневролог прописал ему, помимо транквилизаторов, месяц абсолютного покоя. Асмуд подчинился с крайним нежеланием.
И вот они в Италии. Перегон по голенищу полуострова-сапога, и – buon giorno, Неаполь! А там и до Помпей недалеко. Полдня посвятили рассматриванию отрытых из-под восьмиметрового слоя святилищ, рынков и палестр с восстановленными настенными росписями. Рита была в Помпеях впервые, а Хрофт и Джим вообще никогда не посещали государства Цезаря. Когда солнце вступило в зенит, Хрофт предложил сделать привал. Устроились под навесом-козырьком бывшего жилого дома. Рита снова развернула тетрадь.
– «Пункт избрал на улице Гробниц». Понятно, что в письме брату Брюллов говорит о пункте, с которого писал пейзаж для своей картины. Означает ли это, что капитал сокрыт там, а не где-нибудь в ином месте?
Джим обозрел окружавший их ландшафт.
– Город большой… За триста лет здесь столько всего накопали! Перво-наперво надо выяснить, какие улицы были освобождены от лавы в начале девятнадцатого века, когда Брюллов приезжал сюда на натуру. Их было меньше, чем сейчас. Это существенно ускорит наши поиски.
– Ни фига не ускорит! – заартачился Хрофт. – Клад могли спрятать древние помпейцы, ещё до извержения. Потом город накрыло лавой, а сокровища лежат себе и лежат. Может, они до сей поры ещё там, под камнями. – И он указал на ту часть города, которая не была раскопана и находилась под непроглядным пологом горных пород.
– Как же Волконская узнала о них?
– Из летописей! Были же у макаронников летописи? Какие-нибудь клинописные таблички, папирусы…
– Это называлось хроники, – сказала Рита. Сказала не в порядке полемики, а ради восторжествования истины. – И писали их на пергаменте. Но в целом я с тобой согласна: во времена Волконской клад мог быть законсервирован под лавой. Просто у неё были неоспоримые доказательства его существования. Их она и передала сперва Веневитинову, а после – Пушкину.
– И Брюллову, – дополнил Джим, тоже любивший истину. – В противном случае, как он мог зашифровать месторасположение клада в своей картине?
– Брюллову, кажется, отводилась всего лишь роль картографа. Но где деньги лежат, он, конечно, знал… А мы не знаем.
– Мало сведений.
– Покажи-ка мне ещё этот перстень, – повернулся Хрофт к Рите.
Она передала ему кольцо с сердоликом, полученное от Анастасии Иннокентьевны. Оно было уже не раз осмотрено со всех сторон, но даже Калитвинцев не сумел отыскать на нём ничего такого, что подсказало бы, как разгадать загадку Пушкина, Волконской и Брюллова.
– Всё-таки зря искусствовед с нами не поехал, – попенял Хрофт на недостачу в экспедиционном отряде квалифицированных научных кадров. – Хоть и размазня, а сгодился бы…
На сердолике, на восьмигранной миндалине, была вырезана древнееврейская надпись. Пушкин считал её каббалистической тайнописью. На русский язык её перевели ещё при жизни графини Воронцовой. «Тайнопись» означала: «Симха, сын почтенного рабби Иосифа-старца, да будет его память благословенна». Заметив, что Хрофт засмотрелся на неё, Джим сказал:
– Это граффити сделали по велению кого-то из крымских караимов. Такие перстни были у них в домашнем обиходе. К сокровищам Волконской Симха с Иосифом касательства не имеют.
– Сам знаю, – ответствовал Хрофт, продолжая разглядывать надпись.
Он сунул длинный, как медиатор, ноготь в один из прорезанных в сердолике завитков, надавил, и камень отделился от золотого ободка.
– Что ты наделал!
– Спокуха. – Хрофт отдал Рите сердолик. – Это возьми.
Под снятой драгоценной пломбой кольцо было зеленоватым. Как и предполагал Калитвинцев, золотое покрытие напылили на бронзовую основу.
– Здесь штырёк! – сказал Джим. – С зубцами.
– Отмычка от сокровищницы!
– Но сокровищницу мы так и не нашли.
Он протянул руку к сердолику. Хрофт со словами «Не лапай!» взял камень сам и, перевернув его, обнаружил на обороте восьмигранника какие-то строчки, махонькие, неразборчивые.
– Без микроскопа и не прочитаешь.
– Дай я! – Джим выхватил у него камень и, сдвинув очки на кончик носа, прочёл: – «Начни от первой, что со мною рядом. Второй зеницы кажут направленье. Затем взгляни скорей на матерь третьей – шаги тебе поможет счислить шуйца».
– Оп-ля! – то ли восхитился, то ли выругался Хрофт. – Такая, понимаешь, загогулина…
– Первая, вторая, третья… – Рита забрала у Джима сердолик, про себя перечитала написанное. – Это писали не караимы! Надо взглянуть на картину.
Джим положил на колени привезённый из России ноутбук и, когда загрузился «Windows», растянул на весь экран цветной JPG-файл с картиной «Последний день Помпеи».
– Дома я почитала литературу о том, как Брюллов писал это полотно. Видите курчавого мужичка с этюдником на голове? Вот он, у столба с пирамидкой наверху… Это автопортрет Брюллова. «Начни от первой, что со мною рядом…» Рядом с ним на картине девушка с кувшином. Вот вам и точка, с которой надо начинать поиск!
– Рядом с ним не одна девушка, а две, – приметил Джим. – И та, что слева, стоит ближе.
– Зато та, что справа, срисована с его пассии Юлии Самойловой. Брюллов использовал её в качестве натурщицы сразу для трёх героинь своих «Помпей». Разве вы не замечаете одинаковых лиц? Первая, вторая и третья! Идём на улицу Гробниц!
Они вернулись туда, откуда начали свою экскурсию по бездыханному городу.
– Брюллов работал, находясь спиной к воротам. Как по-вашему, где может быть столб с пирамидкой?
– Вон та халабуда очень похожа. – Хрофт смерил взглядом башенку с гранёным набалдашником. – Только там их штуки три, и все одинаковые.
– Девушка с кувшином стояла перед колонной, которая ближе к нам.
– Она стояла на ступенях! – Джим подошёл к каменной лестнице. – Здесь всё, как на картине. То самое место! Она стояла на второй ступеньке снизу, её ногу видно из-за туники патриция, который на картине повернулся к колонне и загораживает художника.
– Не уверена, что это патриций и что на нём туника.
– Не придирайся! – Джим хотел сказать, что Рита сегодня несносна, но сразу размяк. Не мог он сердиться на неё, такую желанную, ненаглядную и такую незаурядную!
Хрофт поставил ногу на вторую ступень лестницы, о которой они говорили. Прямо перед ним оказался какой-то чертог, позади – улица с растрескавшимися домами.
– Ок, начинаем отсюда. Ищите вторую.
Вторая помпеянка с ликом Юлии Самойловой отыскалась шагах в четырёх от первой. Недалеко от неё стояла коленопреклонённая третья. Возникли разногласия относительно того, как их нумеровать.
– «Затем взгляни скорей на матерь третьей…» Ту девушку, что стоит на коленях, обнимает женщина лет сорока, – рассуждал Джим, – а та, что бежит, сама обнимает двоих детей, с нею вместе муж или сожитель, никакой матери нет. Так что всё очевидно. Вот номер два, а вот номер три. «Второй зеницы кажут направленье…» Глаза её устремлены вправо. На картине это явный диссонанс, потому что справа ничего опасного нет: Везувий у неё за плечом, а стены, которые могут повалиться и придавить детей, слева… Стало быть, от второй ступеньки лестницы идём направо, через улицу.
– Там же дома!