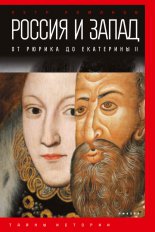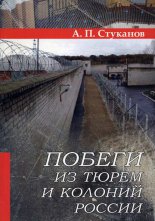Инквизитор. Охота на дьявола Колотова Ольга
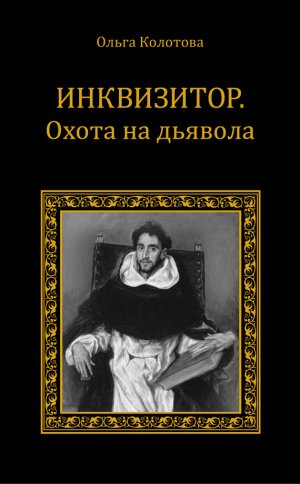
– Что-что?
– Лягушачьи лапки, – серьезно повторил Руис. – Около сотни. Далее…
– Хватит! – оборвал его Бартоломе, чувствуя, что к горлу подкатывает тошнота. – Перепиши список набело и отдай секретарю. Я потом посмотрю.
– Пересчитать?
– Что пересчитать?
– Лягушачьи лапки.
Иногда Бартоломе не мог надивиться проницательности и догадливости старого альгвасила, иногда же приходил в полное замешательство от его тупости. Федерико Руис знал все повадки и привычки ведьм и колдунов, умел отыскать любой тайник, на службе сохранял хладнокровие и присутствие духа, но при всем при этом отличался полным отсутствием чувства юмора и многолетним пристрастием к выпивке.
Бартоломе усмехнулся и кивнул.
– Пересчитай.
Пока инквизитор рылся в книжном шкафу, а стражники пытались угадать истинное назначение астролябии, старый альгвасил, стоя на коленях возле сундука, усердно пересчитывал лягушачьи лапки. Через полчаса Бартоломе получил абсолютно точную цифру: сто двадцать две.
Альгвасил инквизиции Федерико Руис был, по общему признанию, в своем роде человеком замечательным: никто никогда не видел его полностью трезвым, но никто никогда не видел его и совершенно пьяным. Проще говоря, он всегда был немного навеселе. Тем не менее, он всегда исправно выполнял свои обязанности, а по воскресеньям регулярно посещал церковь. Словом, он был хорошим служащим и добрым католиком. К тому же, несмотря на свое вечное полупьяное состояние, альгвасил отнюдь не был глуп. «Проверим, правду ли говорят, что in vino veritas[9]», – сказал себе Бартоломе, глядя в задумчивые, слегка затуманенные глаза Федерико Руиса. Инквизитор надеялся, что альгвасил хотя бы отчасти поможет ему прояснить эту самую veritas, потому что он был одним из первых, кто оказался на месте преступления: соседи, сбежавшиеся на крик жены ростовщика и обнаружившие рядом с трупом договор с нечистой силой, тотчас донесли об этом происшествии инквизиции.
– Как вы думаете, мог ли дьявол утащить душу еврея в ад? – слегка улыбнувшись, осведомился Бартоломе.
– Пожалуй, мог, – уклончиво ответил Руис, внимательно приглядываясь к собеседнику, словно оценивая, насколько инквизитору можно доверять.
– И утащил?
– Думаю, да. После смерти.
– То есть сначала дьявол убил Перальту?
– Святой отец, – произнес альгвасил, и Бартоломе показалось, что он даже усмехнулся, – вы когда-нибудь видели, чтобы черти кого-нибудь убили?
– Признаюсь, это первый случай.
– А я вообще никогда ничего подобного не встречал.
– Вы хотите сказать, что нечистая сила не имеет никакого отношения к смерти Яго Перальты?
– Имеет, наверное. Преступления ведь совершаются по наущению дьявола, не так ли?
– Но этим его участие и ограничивается?
– Послушайте, святой отец, я человек простой, неученый, и едва ли смогу вам как следует объяснить, в какой степени в преступлении повинен дьявол, а в какой – сам убийца.
– Итак, было совершено убийство? – напрямик спросил Бартоломе.
– Без сомнения.
– Почему вы так решили?
– Святой отец, я за свою жизнь всякого насмотрелся. Видел и утопленников, и удавленников, и зарезанных, и отравленных… Всякое бывало. Так вот, я со всей определенностью могу вам сказать: Яго Перальта был отравлен.
– По каким признакам?
– Труп почернел.
– Но каким же образом его отравили?
– Я полагаю, убийца нанес ему рану отравленным оружием: шпагой, ножом, например… У еврея на левой руке был надрез.
– Но мальчишка, слуга Перальты, уверяет, что видел черта собственными глазами. Думаете, он врет?
– Весьма вероятно. Слуги вообще народ нечестный, а этот прохиндей Пабло в особенности. Я выяснил: его отец попался на воровстве.
– Допустим, мальчишка соврал. Но ради чего?
– Чтобы не выдавать имя настоящего убийцы. Может быть, он его хорошо знает, может быть, запуган…
– Пожалуй, я согласился бы с вами, – задумчиво произнес Бартоломе, – если бы не два обстоятельства. Во-первых, наличие договора с дьяволом. Вы видели этот документ, не так ли?
– Ну да, ведь я должен был осмотреть труп… Бумага была испачкана кровью.
– В таком случае, вам не кажется странным, что история о черте, которую рассказывает парнишка, так хорошо согласуется с содержанием документа?
– Я что-то не понимаю, святой отец, что вы хотите этим сказать?..
– Я хочу сказать, что, если исключить чистую случайность, такое совпадение возможно лишь в двух случаях: либо мальчишка действительно видел дьявола, либо знал о договоре с нечистым. Последнее едва ли возможно: мальчик совершенно неграмотный.
– Он мог что-нибудь об этом слышать.
– Полагаете, о таких вещах распространяются?
– Ему могли объяснить, что нужно говорить.
– И Пабло – сообщник убийцы? В таком случае, он не стал бы признаваться в ненависти к еврею и вообще постарался бы отвести от себя подозрения.
– В таком случае, я ничего не понимаю…
– Я тоже, – вздохнул Бартоломе. – Во-вторых, вы знаете, Яго Перальта был сказочно богат. И тем не менее на его сокровища никто не покушался. Монеты, драгоценности были разбросаны по комнате, как мусор. Но ничего не пропало. Открою вам секрет: записи еврея и сумма, обозначенная в реестре приемщиком инквизиции, полностью совпадают. Убийца не был грабителем. У вас есть какие-нибудь соображения по этому поводу?
– Допустим, личные счеты… Перальту здесь не любили.
– Но и со стороны мстителя глупо было бы не воспользоваться такой возможностью.
– Значит, убийца либо не нуждался в деньгах, либо он… малость не в себе.
– Либо это был сам черт! – раздраженно закончил Бартоломе. – Вы можете идти, сын мой.
Сбитый с толку альгвасил поспешно вышел.
«Отправился в ближайший трактир, надо полагать, – подумал Бартоломе, – прочищать мозги. Очень неглупый человек этот Федерико Руис, жаль, что такой пьяница. Если б дело расследовал он, может быть, он и докопался бы до истины. Гм. И тем самым лишил бы святой трибунал поживы. Нет уж, пусть лучше отправляется в таверну, а с убийством я и сам разберусь. Похоже, я почти убедил Руиса, что к еврею явился сам дьявол.
Но случай действительно интересный. Ни разу не сталкивался ни с чем подобным. Сколько лет служу в трибунале, а настоящий договор с дьяволом держу в руках впервые. Любопытно, какому мерзавцу пришло в голову составить подобный документ? Понятно, это был не еврей. Если он чему-нибудь и молился, так это был золотой телец.
Что я могу предположить? Некто, по свидетельству очевидца – сам дьявол, по утверждению Руиса – недоброжелатель, проник в дом Яго Перальты, для отвода глаз заставил его подписать договор с нечистой силой, нанес ему рану отравленным клинком, наконец, привел комнату в полнейший беспорядок, однако не позарился на богатства еврея, ничего не взял и исчез. Безумие! Мне кажется, в существование дьявола я не поверю, даже если увижу его собственными глазами. Все становится на свои места только в одном случае – если убийца действительно выглядел как посланец ада. Предположим, на нем было что-то вроде маскарадного костюма… Думаю, что Пабло не соврал: он действительно встретился с чертом. Иначе как объяснить, что этот сын вора даже не попытался обчистить открытый тайник, а что есть мочи бросился бежать от дома ростовщика?
Что я теперь должен делать? Разыскивать сумасшедшего преступника? Но у еврея сотни врагов. Опросить всех? Сомневаюсь, что это приблизит меня к разгадке. Все равно никто не сознается, а улик у меня нет. Еще раз вызвать на допрос мальчишку? Но, по-моему, вопреки подозрениям Руиса, мальчик выложил все, что знал. И я сильно удивлюсь, если окажется, что сорванец Пабло, после того как его напугал черт, а затем вызвали в трибунал, не сбежал от греха подальше. Но для начала попробую поговорить с женой ростовщика, может быть, она сообщит мне что-нибудь стоящее.
Не переусердствуй, друг мой, – посоветовал Бартоломе сам себе напоследок, – ростовщика в любом случае надо признать колдуном – нельзя упускать такое богатство».
– Все своими глазами видела, своими глазами! И под присягой готова подтвердить! Да неужели я, святой отец, врать стану?! Истинный крест, истинный крест! Никогда ничего не утаивала, не утаиваю и впредь не утаю! Я, святой отец, наоборот, в своей жизни если от чего и страдаю, так это от чрезмерной честности. Делото ведь известное – правда всем глаза колет. Никто ее не любит, правду-то. Взять хотя бы эту же Франсиску Альварадо, сколько я ей говорила: стерва ты, стерва, веди себя по-человечески, а то Бог – он ведь все видит – накажет тебя, непременно накажет, еще как накажет!.. Да разве она послушает? Куда там!..
У Бартоломе было такое чувство, словно его оглушили. Каталина Мендес, толстая, неопрятная женщина лет пятидесяти, говорила быстро, громко, взахлеб, перебивая сама себя, и остановить ее не было никакой возможности. Ее двойной подбородок трясся, заплывшие глазки бегали из стороны в сторону, а руки беспрестанно теребили складки на юбке. Она очень сильно напоминала упитанную свинью, правда, ей недоставало невозмутимости и спокойствия этого животного.
Каталина Мендес пришла с доносом в святой трибунал одной из первых и заявила, что ее соседка Франсиска Альварадо – ведьма, что по ночам она летает над городом (очевидно, на шабаш, куда же еще?), торгует приворотными зельями и другими бесовскими снадобьями и вообще гадина, каких свет не видывал.
Бартоломе морщился. Он любил красивых женщин – Каталина вызывала у него отвращение.
Второй инквизитор, брат Эстебан, по своему обыкновению, находился в дремотном состоянии, а болтовня Каталины, видимо, еще больше его усыпляла.
В углу усердно скрипел пером секретарь.
– Уймись, дочь моя! – Бартоломе наконец удалось вставить пару слов, когда Каталина на мгновение замолчала, чтобы набрать воздуха перед очередной тирадой. – И постарайся только отвечать на вопросы, которые я буду тебе задавать. Итак, что ты видела?
– Летала она, Франсиска эта, вот истинный крест, летала! И все, стерва, над моим садом! Летала бы себе над своим, если ей так приспичило, так нет же – обязательно над чужим! Оно понятно, на чужое добро все падки… Особенно, если добро это – последнее, что осталось у женщины честной, беззащитной, вдовы… у меня, в общем.
– Она у тебя что-нибудь украла?
– Да она, змея, мне столько крови попортила, что и сказать страшно! Вы бы, святой отец, могли спокойно спать, если б над вашим садом ведьмы летали? Нет? Вот то-то и оно! И я не могу. Каждую ночь, как выгляну в окно, так сразу и вижу: соседка-то моя, – Бог ты мой! – в чем мать родила висит над моими грядками! А то полетит куда-то к чертям, над крышами, все выше, выше, да и сгинет…
– Она летала одна?
– Когда одна, а когда и с дочерью. Обе они, дьявольское отродье, со свету меня сжить хотели. Конечно, я женщина одинокая, беззащитная, меня всякий обидеть может, а они, ведьмы проклятые, только и думают, как бы навредить добрым христианам. Дочка-то, почитай, еще хуже матери будет…
Тут брат Эстебан, до этого мирно дремавший, вдруг вздрогнул, поднял голову и поинтересовался:
– Сколько же лет ее дочери?
– Семнадцать, святой отец, никак не больше. С виду-то она такая скромница, только все это обман, одна видимость. Душа у нее черная, как безлунная ночь, как сажа…
– Надо же, – с деланным сожалением вздохнул брат Эстебан, – такая юная и уже такая порочная.
– Порочным можно быть в любом возрасте, – заметил Бартоломе, выразительно посмотрев на своего коллегу.
– Совершенно с вами согласен, – тихо ответил тот, смиренно склонив голову.
– Каким образом, дочь моя, Франсиска Альварадо и ее дочь вредили тебе?
– Яблоня у меня под окном засохла – кто виноват? Она, колдунья проклятая! Собачонка моя подохла – кто, спрашивается, порчу навел? Все она, проклятущая! А на прошлой неделе захворала я – неужели, думаете, тут без сглазу обошлось? Кому же виноватой быть, как не ей?
– Что еще такого богомерзкого совершила Франсиска Альварадо?
Каталина не заметила иронии в словах инквизитора. Она уверенно сообщила, что, по ее мнению, за последние десять лет в провинции не приключилось ни одного бедствия, к которому не была бы причастна ее соседка. Франсиска Альварадо несла ответственность за любую засуху или бурю, за каждый ураган или неурожай.
– Это очень важный случай, – высказал свое мнение брат Эстебан, после того как допрос доносчицы был закончен и секретарь зачитал ей показания, с которыми Каталина Мендес полностью согласилась и наконец-то убралась восвояси. – Колдуний нужно немедленно арестовать.
– Распорядитесь, – пожал плечами Бартоломе.
Дело не представлялось ему интересным. Прежде всего, он не поверил ни единому слову Каталины. Он был уверен, что речь идет всего лишь о ссоре двух соседок, одна из которых решила упечь другую в тюрьму. Но брат Эстебан хотел заполучить в свои руки молоденькую колдунью. И пока что Бартоломе не видел причин препятствовать этому.
Франсиска Альварадо на первом допросе ни в чем не призналась. На вопросы отвечала кратко, с чувством собственного достоинства. Она упорно и без всякого смущения повторяла, что она добрая христианка. Наведение порчи? Полеты на шабаш? Это полный вздор. Ее оклеветали. У нее в доме нашли различные травы? Она изготовляла настои и продавала их? Да, но что это доказывает? Разве Бог запрещает лечить людей? Откуда она узнала о целебных свойствах тех или иных растений? От своей бабушки. Где она? Умерла. Умерла очень давно. Ее муж? Он тоже умер. Точнее, у нее не осталось надежды, что он жив. Он был моряком. У него было собственное судно, правда, небольшое. Он совершал рейсы на Сицилию и Майорку. Однажды он не вернулся. Это было семь лет назад. Море поглотило очередную жертву. Франсиска осталась с десятилетней дочерью. Они должны были как-то жить. Вот тогда-то она и вспомнила о своем искусстве. Дочь помогала ей? Тут в глазах Франсиски впервые мелькнула тревога. Нет, никогда. Девочка ни в чем не виновата. Франсиска всегда воспитывала ее как истинную христианку. Долорес каждое воскресенье посещает церковь, регулярно исповедуется. Если не верите, спросите приходского священника. У брата Себастьяна не было оснований ей не верить.
На следующий день допрашивали дочь Франсиски, Долорес. Разумеется, не обошлось без брата Эстебана, уж он-то не мог пропустить допроса молоденькой колдуньи. Присутствовал даже епископ, очевидно, решил показать, что принимает деятельное участие в работе трибунала. Впрочем, он не произнес ни слова, только щурил свои маленькие, маслянистые глазки.
Когда Долорес ввели в зал допросов, Бартоломе содрогнулся. Он узнал ее. Это была именно она, девушка, попросившая у него благословения на ступенях собора. Девушка, чей восхищенный и доверчивый взгляд он долго не мог забыть. «Надеюсь, вы с ней больше никогда не встретитесь, – вспомнил он пожелание Санчо. – Было бы лучше, если б ей никогда не пришлось иметь дело с инквизицией».
Вопреки обыкновению, в течение всего допроса Бартоломе молчал. Вопросы задавал брат Эстебан.
Как и мать, она все отрицала. Или говорила, что ничего не знает.
Бартоломе лишь удивлялся тому, каким выразительным может быть ее взгляд. Какое странное сочетание: испуг и вызов, точнее, борьба со страхом и желание помериться силами с судьбой. И еще – надежда. «Бедная девочка, ты думаешь, что перед тобой строгие, но справедливые судьи. Они безжалостно карают порок, но снисходительны к невинным. Они во всем разберутся, они будут беспристрастны. Как же! Присмотрись-ка к ним повнимательней! Присмотрись! Вот, справа от меня епископ. Такой добрый, снисходительный старичок. Он щурится, но глазки его искрятся. Подумать только, старый осел еще заглядывается на красивых девочек! Хитрая старая бестия!» Бартоломе обернулся к брату Эстебану. «А ему, девочка, доверяй еще меньше. Держу пари, что сейчас он уже представляет тебя на дыбе. Ишь ты, как заинтересовался, вытаращился, толстый боров! Оба они увидели, какая ты красивая, девочка… И не на дыбе твое место, а…» Взгляд Бартоломе встретился со взглядом брата Эстебана. «Живодер», – мысленно сказал брат Себастьян своему соседу. «Кобель», – ответил тот. Оба поняли друг друга.
А потом Бартоломе поймал взгляд Долорес. И столько в нем было надежды и мольбы о помощи, что инквизитор невольно отвернулся, отвел глаза, смутился, быть может, впервые в жизни. И невольно почувствовал себя виноватым.
– Не кажется ли вам, что к этим упорствующим еретичкам следует применить пытку? – после окончания допроса вкрадчиво поинтересовался брат Эстебан.
– Нет, – резко ответил Бартоломе. – Не кажется!
А потом он остался один в опустевшем зале и долго сидел, обхватив голову руками.
Они ни в чем не виновны. Ни мать, ни дочь. Даже если они и в самом деле торговали травами – какие пустяки! Отпустить с миром. Просто отпустить. Ах, если б это действительно было так просто! Существуют еще тупица-Эстебан и собака-прокурор. Очевидные истины придется доказывать. А еще… в конце концов существую я сам! «Она в твоей власти, Бартоломе, – шепнул ему бес в правое ухо. – Конечно, ты ее отпустишь… Потом. В самом деле, разве лучше будет, если она достанется похотливому старикашке или повиснет на дыбе к вящему удовольствию живодера Эстебана?..»
При виде чужих страданий брат Эстебан испытывал ни с чем не сравнимое удовольствие. Эту странность он заметил у себя давно, еще в детстве, лет шести-семи. Тогда его старший брат избил собаку, стащившую со стола кусок мяса. Он стегал ее попавшейся под руку веревкой, собачонка забилась в угол и дико, с каким-то присвистом, визжала. Брат словно с ума сошел: он никак не мог остановиться, все хлестал ее и хлестал. А маленький мальчик стоял и смотрел. Ему было интересно, чем все это закончится, почему-то приятно и немного страшно. Позже он сам попытался избить собаку. Он пару раз огрел ее длинным ремнем, но собачонка оскалилась, полоснула его острыми зубами по щиколотке и бросилась наутек. Все его первые попытки истязать другое живое существо позорно провалились. Он попробовал вырывать перья у соседских куриц из хвостов, но за этим занятием его застал сосед, заслышавший шум во дворе, поймал мальчишку и едва не открутил ему ухо. Выдергивание усов у кошки тоже закончилось плачевно – расцарапанными руками. Получив такого рода уроки, он надолго оставил игру в палача.
Со временем брат Эстебан почти забыл о своих детских впечатлениях. Но однажды все до поры подавленные, дикие, животные чувства вдруг проснулись в его душе и уже впредь не отпускали. Он тогда был секретарем инквизиционного трибунала, и в этом качестве ему довелось впервые присутствовать на допросе с пристрастием. В пыточную камеру привели девочку лет пятнадцати. Ее раздели, вздернули на дыбу, тонкие руки были вывернуты из суставов. Потом ее секли. Сперва она кричала, молилась, призывала Иисуса Христа и Деву Марию, затем только вздрагивала и тихо стонала. Брат Эстебан смотрел во все глаза и как будто не просто слушал, а каждой своей частичкой впитывал ее всхлипы и стоны, он не замечал ничего, кроме этих стонов, он не видел ничего, кроме ее нежной кожи в тонких струйках стекавшей по спине алой крови. Никогда до этого он не испытывал столь сильного блаженства. Кажется, он даже забыл о своей обязанности вести протокол допроса. Но эта девочка, в сущности, ничего и не сказала… Когда ее тело бессильно обмякло, ее отвязали. «Все? Уже все?» – с отчаяньем спросил себя брат Эстебан. Возможно, он произнес эти слова вслух, сейчас он не смог бы вспомнить. Он понял только одно: он больше не сможет жить, еще раз не испытав такого же сильного наслаждения чужой болью. Он будет видеть пытки во сне, рисовать их в мечтах, он будет ждать, глубоко в душе схоронив тайну открытого им наслаждения. Лишь бы у него не отняли этот источник радости!
С тех пор брат Эстебан не пропускал ни одного допроса с пристрастием. Он связал свою судьбу со святым трибуналом и в конце концов стал инквизитором. Его почти не интересовали обрюзгшие бабы и грубые мужчины, только нежные, стройные юноши и девушки. К сожалению, брат Себастьян, возглавлявший трибунал, не часто баловал его подобным зрелищем. Нет, брат Себастьян никогда ни в чем не упрекал брата Эстебана, но когда брат Эстебан замечал ироничный, насмешливый взгляд брата Себастьяна, ему казалось, что тот видит его насквозь и знает о его тайной страсти. Брат Эстебан никогда не спорил с главой трибунала, никогда не противоречил, покорно соглашался со всеми его приговорами, так что фактически Бартоломе принимал единоличные решения. Брат Эстебан готов был целыми днями сидеть и молчать во время длинных, нудных процессов, ни во что не вмешиваясь и ни во что не вникая, лишь бы потом получить наконец часок-другой долгожданного счастья. Но если заключенного было необходимо подвергнуть пытке, брат Себастьян, как будто в благодарность за длительное смирение и покорность брата Эстебана, поручал это дело ему. Брат Эстебан знал, почему брат Себастьян терпит его и даже относится снисходительно – потому что сам не любит пыток. Он, внешне бесстрастный и холодно-насмешливый, на самом деле прячет под этой маской собственную впечатлительность.
Брат Эстебан до тонкостей изучил всю процедуру ведения подобного допроса. Сперва было предвкушение удовольствия. Палач и его подручный деловито и методично готовили инструменты, разжигали огонь в очаге, а брат Эстебан уже мелко дрожал от возбуждения. У него и правда иногда начинали трястись руки и он прятал их под столом.
Потом приводили жертву, обычно бледную, с округлившимися от страха глазами, но иногда, такие иногда попадались, – настроенную весьма решительно. Брат Эстебан, как и полагалось, еще раз предлагал ей покаяться, сознаться во всех заблуждениях, отречься от ереси и не доводить дело до необходимости применить пытки. Он задавал этот вопрос с внутренним содроганием. Случалось, что ведьма малодушничала, просила о примирении с церковью, а он лишался долгожданного зрелища.
От природы брат Эстебан не был слишком умен, но годами скрываемая от людей тайная страсть и ощущение собственной греховности и порочности, сделали его мнительным и подозрительным. И потому он понимал, что считанными часами или даже минутами выпадавшего ему блаженства нельзя злоупотреблять и чрезмерно истязать жертву. Страх лишиться той редкой, но захватывающей радости, которая заставляла трепетать все его существо, страх перед всеведущим братом Себастьяном заставлял его держаться в пределах разумного и, затаясь, ждать, ждать неделями, месяцами, когда же он вновь сможет испытать сладостное чувство наслаждения чужими страданиями.
Он надеялся, что с момента основания в городе инквизиционного трибунала, в провинции, где, по слухам, гнездилась ересь, у него не будет недостатка в тайных радостях. Как он ошибался! Целый месяц он был вынужден ждать! Наконец ему показалось, что его надежды вот-вот осуществятся. Появилась Долорес. Упорствующая. Девушка поразительной красоты. Уже одна мысль о том, что ее нежное, смуглое тело будет привязано к «кобыле» или повиснет на дыбе, вызывала у брата Эстебана сладостную дрожь. Лишь бы она не раскаялась!
«Кажется, эта девочка не испугается, – утешал себя брат Эстебан, – уж очень горячо она защищала себя и свою мать. Любопытно, будет она кричать? Наверное, да. Многие кричат. Некоторые, впрочем, молчат, стиснув зубы. Глупые. Какой в этом прок? Когда ведьма кричит – интереснее. Заметнее, что она страдает. Я заставлю ее кричать».
К сожалению, у брата Себастьяна была еще одна премерзкая черта, которая доставляла брату Эстебану немало хлопот. Брат Себастьян любил хорошеньких женщин. И зачастую его слишком мягкие приговоры в отношении молоденьких ведьмочек объяснялись отнюдь не их невиновностью, а смазливой внешностью. Брат Эстебан не без оснований подозревал, что снисходительность брата Себастьяна к красивым колдуньям была не вполне бескорыстной. Брат Эстебан догадывался о плутнях Бартоломе, злился, но, по понятным соображениям, молчал.
«И главное, – обиженно размышлял любитель пыток, – зачем ему эти ведьмы? Девки и так вешаются на него, словно в нем есть нечто особенное!» Как уже давно успел заметить брат Эстебан, Бартоломе пользовался успехом у женщин, хотя и не прикладывал к этому особых усилий. В тайне брат Эстебан завидовал брату Себастьяну, потому что на него самого ни одна женщина не смотрела иначе как с отвращением, хотя, как ему казалось, он отнюдь не был уродом, разве что за последнее время слегка располнел. И сейчас, с безошибочной проницательностью заинтересованного человека, брат Эстебан определил, что Бартоломе положил глаз на Долорес. Чертов распутник! Не нашлось бы таких проклятий, каких брат Эстебан мысленно не послал бы брату Себастьяну, видя, как жертва прямо-таки ускользает у него из-под носа.
Долорес не бросили в карцер. Камера, куда ее поместили, вовсе не была мрачным, сырым подземельем. Ее стены были холодными, шершавыми, но вполне сухими. Оконце под потолком выходило на солнечную сторону, и Долорес не страдала от постоянной темноты, как узники подземных казематов. Она могла видеть кусочек голубого неба.
Ложем ей служила кровать с колючим матрацем, набитым соломой. И все же это была не куча гнилого тряпья, на котором зачастую приходилось коротать дни и ночи узникам инквизиции.
Завтрак, обед и ужин ей заменяли кусок хлеба и кувшин воды. Но Долорес не была избалованной девочкой из богатой семьи и умела стойко переносить лишения. К тому же, ей не хотелось есть. Она была настолько потрясена случившимся, что совсем не ощущала голода.
Арест стал самым ужасным событием за всю ее коротенькую жизнь. Исключая, может быть, смерти отца. Но тогда она была десятилетней девочкой и не могла переживать слишком долго. В отличие от матери, для которой смерть мужа была страшным ударом.
Раннее детство Долорес было безоблачным. Ее окружала любовь. Отец и мать, которым Бог послал единственную дочь, души в ней не чаяли. А она восхищалась ими обоими.
Отец имел собственное небольшое судно, фелуку «Долорес». Он перевозил товары на Сицилию и Балеарские острова, а своей дочке привозил разные диковины – большие раковины, обточенные морем разноцветные камешки, а иногда даже маленькие жемчужины.
Франсиска Альварадо, в девичестве де Арельяна, принадлежала к старинному дворянскому роду. Она вышла замуж за отважного моряка вопреки воле родителей, и они отреклись от нее. Тем не менее, Франсиска была счастлива, и только частые отлучки мужа огорчали ее. Мать не раз просила отца бросить опасное ремесло и найти для «Долорес» дельного шкипера. Но отец всегда отказывался.
– Дорогая моя, – говорил он, обнимая жену, – ты прекрасно знаешь, все что я делаю, я делаю для тебя и для дочери. Мне тоже тяжело расставаться с вами. Но неужели ты хочешь, чтобы я всю жизнь провел около твоей юбки?
Франсиска вздыхала, но не спорила. Она и сама понимала, что именно таким и полюбила его – бесстрашным, готовым встретиться лицом к лицу с любой опасностью, полюбила капитана корабля, а не тихого домоседа.
Однажды он не вернулся… Море, постоянно требующее человеческих жертвоприношений, на этот раз выбрало его.
Франсиска написала родным, но не получила ответа. Чванливое дворянство не пожелало признать своей женщину, нарушившую устои общества. И Франсиска поняла, что ей придется рассчитывать только на собственные силы. И тогда она вспомнила о ремесле, которому когда-то научилась у своей бабушки. С трудом ей удавалось сводить концы с концами. Впрочем, в отличие от родителей, друзья мужа не забывали ее.
Иногда в душе Франсиски шевелилось подозрение, что она добывает средства к существованию способом, не одобряемым церковью. Но в их городке все было тихо и спокойно. До прибытия инквизиторов.
А Долорес не знала за собой никакой вины. Первое время она надеялась на беспристрастность и справедливость судей, которые в ее глазах были почти святыми. Они должны были во всем разобраться и понять, что и она, и мать – жертвы какого-то недоразумения. Но чем больше она присматривалась к толстому, вкрадчивому брату Эстебану или к хитроватому епископу, тем меньше им верила. Шли дни и недели, а судьи, как будто, не торопились восстанавливать справедливость и отпускать их с мамой на свободу. Оставался только декан[10] инквизиторов. Неужели и этот человек, с виду такой умный и благородный, тоже бросит ее? Мысленно она молила его о помощи, захлебываясь в безмолвном крике. Неужели он не услышит ее?
Он услышал. То есть, сперва ей показалось, что услышал. Однажды дверь ее камеры отворилась, и вошел он. Она словно окаменела. Она одновременно и верила и не верила. Она не знала лишь одного: разговоры инквизитора один на один с обвиняемым были строжайше воспрещены. Брат Себастьян сознательно шел на нарушение закона, и одно это могло бы насторожить ее, будь она хоть чуть-чуть опытнее.
– Я готов освободить тебя, – сказал он. – Но за это тебе придется заплатить.
– Но у нас ничего нет, – возразила Долорес. – Разве вы не знаете? Мы бедны…
Инквизитор негромко рассмеялся, окинул ее взглядом, и под этим взглядом Долорес вдруг почувствовала себя очень маленькой и беззащитной. Он ничего больше не произнес, но в ее голове уже промелькнула догадка. Сначала она не поверила сама себе. Она просто не могла поверить в такое беззаконие! Но инквизитор как будто прочел ее мысли.
– Я вижу, ты поняла, – улыбнулся он. – Ну так как?..
Он задал этот вопрос насмешливо-безразличным тоном, так, как будто заранее знал ее ответ, точно он играл с ней, как кошка с мышкой.
– Нет! – воскликнула она, отшатнувшись. – Нет, нет, нет!
– У тебя нет другого выхода, девочка, – спокойно объяснил он.
– Есть! – возразила она. – Есть! Я могу принять все, что уготовано мне судьбой, безвинно пострадать, вынести любое наказание… умереть наконец!
– Глупо, – сказал инквизитор, – глупо в семнадцать лет страдать и думать о смерти, когда можно радоваться жизни, когда можно получить свободу и, кстати, возвратить конфискованное имущество.
– Ценой позора и бесчестья!
– В таком случае, весь мир пребывает в позоре и бесчестье и, тем не менее, до сих пор не провалился в преисподнюю. К тому же, я вовсе не злодей и не чудовище, вскоре ты сама в этом убедишься.
– Нет!
– У тебя нет выхода, девочка, – повторил инквизитор. – Я допускаю, что ты не боишься смерти. Не боишься своей смерти. А смерти близкого человека? Не забудь, девочка, здесь твоя мать. И она разделит твою судьбу, пройдет через те же мучения, что и ты. Поразмысли об этом, моя милая.
Долорес вздрогнула.
– Вот видишь, ты уже колеблешься.
– Допустим, – прошептала она, – допустим, я… приму ваше предложение. Но как я могу вам поверить? А что, если вы обманете меня?
– Что ж, договоримся так. Сначала я исполню свое обещание, потом ты исполнишь свое. Идет?
Она недоверчиво посмотрела на него.
– Я не требую у тебя платы вперед. Ты расплатишься после. Подумай. Я даю тебе два дня срока.
Он ушел, а Долорес разрыдалась, уткнувшись лицом в жесткий матрац. «Так не должно быть, так не должно быть!» – твердила она, захлебываясь слезами. За свою короткую жизнь она уже успела столкнуться с жестокостью и несправедливостью этого мира. Почему же сейчас ей было так больно? Ведь тот позор, через который предстояло ей пройти, верно, был не худшим злом, чем приговор инквизиции и, возможно, вечное заточение. Почему? Потому что она получила удар от руки человека, которого до этого почитала почти святым. И тут в ее голове возникла совершенно новая мысль. Слова, как будто, были те же, но смысл их был абсолютно иной. «Все должно быть совсем не так! Совершенно не так!» Но надеяться на то, что отец Себастьян вдруг осознает всю низость своего поведения и передумает, не приходилось…
Через два дня инквизитор вновь вошел в ее камеру.
– Ну? – спросил он только.
И Долорес побелевшими губами прошептала:
– Согласна…
– Иного я и не ожидал, – кивнул он.
Сжавшись в комочек, она ждала того, что последует дальше. Но он заговорил совсем о другом.
– А теперь, дочь моя, вспомни, нет ли у тебя или у твоей матери недоброжелателей, тех, кто был бы готов погубить вас, не побрезговав даже лжесвидетельством?
– Нет…
– Как ты наивна! Слушай же, я объясню тебе, что следует говорить на допросах и как следует поступать…
В инквизиционном процессе имена свидетелей никогда не сообщаются обвиняемым. Однако обвиняемый имел право назвать, перечислить своих врагов, которые, как он предполагает, могли намеренно донести на него, чтобы свести счеты. Если подозреваемый случайно угадывает доносчика, показания такого свидетеля считаются недействительными. Мать и дочь Альварадо согласно заявили, что Каталина Мендес давно точит на них зуб, потому что в течение многих лет они не могут поделить садик, расположенный между их домами. Сама Каталина неожиданно призналась, что не побоялась загубить свою душу ложным доносом, лишь бы насолить соседке. Показаний других свидетелей оказалось явно недостаточно, чтобы осудить Долорес и Франсиску. Таким образом, обвинение было не доказано, и церковный трибунал вынес столь редкий в практике инквизиции оправдательный приговор.
– Я жду тебя в пятницу вечером, – шепнул ей Бартоломе на прощание, – на улице Короля, в доме напротив оружейной лавки…
– Хорошо, – тихо ответила Долорес.
Она не знала радоваться ли ей долгожданному освобождению или же страшиться грядущего позора.
Стучать пришлось долго. Бартоломе отбил себе все кулаки, прежде чем за дверью произнесли старческим голосом:
– Кого еще черт принес?
– Священника! – разозлился Бартоломе. – Немедленно открывай, если не хочешь, чтобы за тобой прислали стражу!
Старуха долго звякала засовами и звенела ключами. Наконец дверь открылась. Бартоломе хотел войти внутрь, но так и замер. Неизвестно, кто из них испугался больше: старуха при виде доминиканца или Бартоломе при виде отвратительной физиономии старой ведьмы. Первой мыслью Бартоломе было, что дьявол никуда не исчез после убийства ростовщика, а так в его доме и поселился. Вместо платка на голову старой карги была намотана какая-то полинявшая тряпка.
Глубокие морщины избороздили ее лицо, над беззубым, ввалившимся ртом нависал огромный крючковатый нос, похожий на вороний клюв, а на подбородке торчала большая, как пуговица, волосатая бородавка. К тому же, старуха была усатой.
Несколько минут они оторопело смотрели друг на друга, причем у старухи нервы явно оказались крепче: она пришла в себя первой.
– Теперь в долг не даем! Вещи под залог не принимаем! Обмен денег не производим! – проскрипела она. – Нет его больше, благодетеля нашего. Никого больше нет! Слуга и тот сбежал. Ничего больше нет! Все отобрали! Все разрушили! До нитки обчистили! По миру пустили!
– Вот что, старая карга, – прервал ее Бартоломе, – позволь мне войти. А теперь молчи и слушай. Сейчас ты мне выложишь все, как на исповеди. И если я замечу, старая ведьма, что ты решила водить меня за нос, то ты быстро окажешься в компании своего дражайшего супруга Яго. Только он-то уже мертв, а вот ты, старая, поджаришься заживо. Поняла?
– Как не понять, – вновь затянула она ту же песню, и голос ее был похож на скрип несмазанного каретного колеса, – последнее отобрать хочешь… Выложи ему! А нечего выкладывать. Все отобрали, все похитили, все унесли, все повытаскали… Все, что многолетними трудами нажито, по крупицам собрано…
Бартоломе понял, что угрозами от старухи ничего не добьешься, и решил ей подыграть.
– Действительно, вот изверги! – сказал он. – А что, старая, много у твоего мужа было врагов?
– О, что звезд на небе! Полгорода облагодетельствовали – полгорода на нас зло затаило. Чем больше людям добра делаешь, тем они злее. Да без моего Яго все бы они здесь пропали, передохли от голода, как собаки. Скольких мы спасли, один Бог знает. Тому дай, другому дай, третьему дай! И никому-то он по доброте душевной не отказывал. Все беды людские близко к сердцу принимал. Вот и отблагодарили его, несчастного, да еще и опорочили!
– Но ведь твой Яго был поклонником сатаны, – заметил Бартоломе.
– Что вы, что вы! Яго был верным сыном церкви. Кресты очень любил. Особенно золотые. Серебряными, правда, тоже не гнушался. А уж сколько священников у нас в доме перебывало – и не сосчитать!
– Значит, с церковью у него были замечательные отношения?
– Да как же иначе? К нам сам настоятель монастыря святого Доминика захаживал. Бывали каноник собора святого Петра. Они церковную утварь сбывали. Каноник, так тот даже мощи предлагал. Чей-то палец да клок волос, а чей, не припомню…
– Ясно, ясно! – перебил ее Бартоломе. – Но ты говоришь, недоброжелателей у Яго было предостаточно? Можешь назвать имена?
– Как же, как же! Хулио Лоретта занял у нас сто пятьдесят эскудо, и был таков, мерзавец!! Бенито Перейра продал подсвечник, выдав за золотой, а он оказался только позолоченным. А еще… – и тут старуха начала длинное перечисление тех, кто, по ее мнению, так или иначе обидел ее благоверного.
– Довольно! – остановил ее Бартоломе. – Лучше скажи, не угрожал ли ему кто-нибудь?
– Как не угрожали! Чего только он, бедный, за свою жизнь не натерпелся! С лестницы спускали, палками били, даже собаками травили…
– В последнее время он с кем-нибудь ссорился?
– Ну да. С Антонио Диасом. Сколько крови ему этот молокосос перепортил! А того, дурак, не понимает, что его товар сбыть – это же какая ловкость нужна, какая смелость! И раздел тут может быть только такой: ему – треть, нам – две трети. Он же себе две трети требовал. «Я, – говорит, – жизнью рискую, а ты – только прибылью».
– Что это был за товар?
Старуха замялась.
– Всякий бывал… То одно, то другое…
– Ну-ка, объясни, старая!
– Они обычно говорили тихо, когда о делах совещались. А я, знаете ли, с годами туговата на ухо стала. Не могу всего разобрать. То ли было в прежние годы! О чем говорили в доме напротив и то слышала.
Бартоломе расхохотался. Он-то думал, что осведомленность старухи объясняется доверием к ней со стороны мужа, оказалось, она попросту подслушивала!
– Так о чем же говорили Яго и Антонио Диас в последний раз?
– Ругались. Этот мальчишка все кричал: «Чтоб дьявол утащил тебя в ад, старый хрыч! Чтобы ты, живоглот, провалился в преисподнюю!» Прямо так и сказал. «Или две трети мне выкладываешь, – говорит, – или я тебя сам, своими руками, задушу».
– Кто этот Антонио Диас? Торговец?
– Если бы! Если бы он был честным, добропорядочным торговцем! А то он грабитель, разбойник, пират паршивый! За таким глаз да глаз нужен. Любого обведет вокруг пальца!
– Если я правильно понял, он моряк?
– Да-да.
– Где его найти, не знаешь?
– У черта на рогах! – выругалась старуха. – Чтоб мои глаза никогда его больше не видели!
– Понятно, – улыбнулся Бартоломе. – Спасибо, старая. У черта или еще где-нибудь, но я его разыщу.
Бартоломе покидал старую еврейку в превосходном настроении. Во-первых, она его порядком позабавила, во-вторых, у него появилась надежда найти разгадку таинственного преступления.
Волны накатывались на песчаный пляж, замусоренный щепками, обрывками веревок, водорослями и отбросами. Пахло смолой и протухшей рыбой.
Бартоломе шел вдоль вереницы растянутых для просушки рыбацких сетей. Он счел неуместным явиться в порт в одеянии священника и, по своему обыкновению, на время опять превратился в светского человека. По этому случаю он надел черный бархатный камзол, отороченный тончайшими кружевами, завернулся в черный плащ, надвинул на глаза широкополую шляпу с черным пером.
Он заглянул сюда впервые и сейчас с любопытством рассматривал гавань, образованную двумя мысами, далеко вдающимися в море. На одном из них находился защищавший вход в бухту прямоугольный форт и королевская таможня, другой, за исключением нескольких полуразвалившихся лачуг, был гол и пуст.
В гавани на якоре стояло примерно с десяток небольших суденышек, предназначенных для каботажных плаваний: двухмачтовые тартаны или маленькие барки. Среди них выделялась длинная, узкая, выкрашенная в черный цвет шебека с ярко-желтой полосой вдоль борта. Судно было вооружено: солнечные блики вспыхивали на начищенных стволах медных пушек. Однако ни одного человека не было видно на палубе. В этот жаркий час весь порт словно погрузился в сон.
Только одно зрелище оживляло картину: в гавань медленно входил венецианский галеон. Бартоломе, щурясь от солнца, остановился, чтобы полюбоваться огромным кораблем. Даже отсюда были видны черные точки, перемещавшиеся по реям: матросы убирали паруса, – и два ряда задраенных пушечных портов. На фоне ярко-голубого неба четко вырисовывалось переплетение снастей и обнаженные мачты. Только под бушпритом еще трепетал блинд, да на корме развевался флаг республики св. Марка: золотой лев на красном фоне. Вот с кормы корабля поднялось небольшое облачко дыма, и над водой прогремел выстрел. Галеон салютовал. В ответ ухнула пушка форта. Вслед за этим со стороны таможни от берега отвалила шлюпка и заскользила по направлению к кораблю.
Бартоломе поискал взглядом, к кому бы обратиться, и заметил только пожилого рыбака, который, сидя на перевернутой лодке под навесом из парусины, чинил порванную сеть.
– Не знаешь ли ты Антонио Диаса? – обратился к нему Бартоломе.
– Как же, знаю, – ответил тот. – Вот его шебека «Золотая стрела». Самое быстрое судно на побережье от Барселоны до Гранады, – неожиданно с гордостью добавил он. – На ней служит мой сын.
– Скажи, где мне найти Диаса?
– Пойди туда, – рыбак ткнул пальцем в сторону портовой таверны, откуда даже с расстояния двухсот шагов были слышны пьяные возгласы. – Если его самого там нет, то, по крайней мере, тебе скажут, где он.
В таверне было жарко, чадно и шумно. Оглядевшись, Бартоломе понял, что здесь не так уж много народа, как могло бы показаться, судя по громкому стуку оловянных кружек, пьяным выкрикам и хриплому хохоту. Вся компания сгрудилась вокруг одного из колченогих, почерневших столов, за которым четверо моряков играли в кости. Остальные десять человек – грубые парни в рубашках, которые, вероятно, когда-то были белыми, босые или в грубых башмаках – просто наблюдали. По всей видимости, это были просто местные рыбаки, которые сами могли поставить на кон разве что свои грешные души. Здесь же вертелись три женщины, не менее пьяные, чем вся остальная компания, и отнюдь не первой молодости.
На столе из рук в руки переходила груда мелочи. Очередной проигрыш или выигрыш сопровождался возгласами одобрения или выражением сочувствия в форме витиеватых проклятий.
В зале было жарко из-за находившегося тут же очага, над которым на вертелах жарились куски мяса. Смуглый мальчишка-поваренок время от времени поворачивал их.