Россия и Запад на качелях истории. От Павла I до Александра II Романов Петр
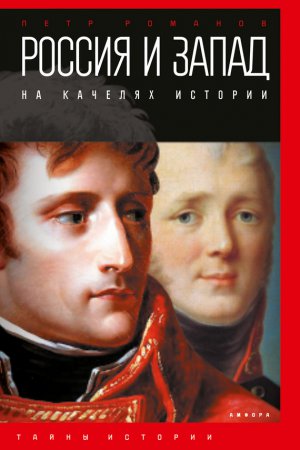
Расчет Кутузова, а до этого и Барклая, был верным. Уже на первом этапе войны, понеся потери в столкновениях с арьергардами отступающей русской армии, в результате партизанских налетов, во время ожесточенных боев под Смоленском и в других местах, вынужденно оставляя по дороге гарнизоны для охраны коммуникаций, наконец, из-за болезней и дезертирства Великая армия растеряла значительную часть своих сил. Сведения о потерях на этом этапе войны приводятся разные. По данным Тарле, Великая армия к Бородинскому сражению уменьшилась приблизительно в три с половиной раза. Сохраненная и укрепленная регулярная русская армия должна была в решающий момент довершить разгром ослабевшего противника. Таким образом, генеральное сражение под Москвой в эту стратегию никак не вписывалось. И все же оно произошло. По просьбе общественности.
Само Бородинское сражение описано историками по минутам. Это одна из тех великих битв мировой истории, когда противники оказались достойны друг друга, демонстрируя массовый героизм. Силы были приблизительно равны. Русские имели по разным данным 120-130 тысяч человек, французы -124-135 тысяч. Первый пушечный выстрел прогремел еще перед рассветом 26 августа (7 сентября), а последний в вечерней темноте. Многие позиции не раз переходили из рук в руки. Пленных, если учитывать масштабы сражения, с обеих сторон было совсем немного, где-то по тысяче человек, что говорит об ожесточении боя. Победителя битва так и не выявила. Обе стороны могли считать себя как победителями, так и побежденными.
Оба полководца — и Наполеон, и Кутузов, — узнав о потерях, впали в уныние. Русские потеряли половину армии и ночью оставили позиции, отступив снова. Французы потеряли около 30 тысяч человек и 49 своих лучших генералов: по данным инспектора Главного штаба Великой армии Денье, то генералов было убито и 39 ранено.
Впрочем, называются и другие цифры. Гораций Вернет в своей «Истории Наполеона», изданной в России в 1842 году, пишет:
Урон в Бородинской битве со стороны русских простирался от пятидесяти семи до пятидесяти восьми тысяч убитыми и ранеными; со стороны французов до пятидесяти тысяч, в том числе сорок три генерала... Французы сражались в этой битве так, как можно было и ожидать от прекрасно образованной армии; но счастье изменило своему наперснику: русские остались непобежденными. Не постигая, каким образом Наполеон не одержал победы, имея армию, пятьюдесятью тысячами человек превосходящую русские силы, французы стараются истолковать это событие разными предположениями.
Эти «предположения» хорошо известны, начиная со знаменитого насморка Наполеона и кончая упреками некоторых французских историков в адрес корсиканца, что он чувствовал себя под Москвой уже не столько полководцем, сколько императором, а потому утратил часть своего военного дарования. Все эти аргументы так поверхностны, что даже оспаривать их всерьез смешно. Насморку Наполеона русские могут противопоставить букет старческих недомоганий Кутузова или напомнить известные исторические факты, когда корсиканец оставался на высоте своего гения даже будучи раненым. Что же касается известного высказывания маршала Нея, который после Бородинского сражения якобы заметил, что Наполеон в императорской мантии перестал быть генералом, то этот довод опроверг сам Бонапарт, блестяще выигравший после московского похода еще немало сражений в Европе.
Не стоит искать нелепых объяснений там, где и так все очевидно: французы под Бородино сражались великолепно, но русские были не хуже их. Нередко Наполеона укоряли за то, что он не отважился в ходе сражения ввести в бой свой последний резерв — старую гвардию. «Всемирная история войн» резонно объясняет:
Французский полководец вводил гвардию в сражение всегда в последний момент, когда победа уже была подготовлена другими войсками... Здесь, оценивая обстановку, он не видел признаков победы и поэтому не рискнул ввести в бой свой последний резерв.
Сам Наполеон о Бородино говорил следующее:
Из пятидесяти сражений, мною данных, в битве под Москвой выказано наиболее доблести и одержан наименьший успех... Сражение при Бородино было одно из тех, где необыкновенные усилия имели самые неудовлетворительные результаты.
В докладе, направленном Кутузовым царю, сообщалось, что сражение «кончилось тем, что неприятель нигде не выиграл ни шаг земли», но что ввиду огромных потерь ему пришлось отдать приказ отойти с занимаемых позиций. Донесение Кутузова в Петербурге восприняли как известие о победе. Сам Кутузов был произведен в генерал-фельдмаршалы и награжден изрядной денежной суммой, а Барклай за проявленное в сражении мужество награжден крестом Святого Георгия 2-й степени. Однако уже следующая новость, полученная с театра военных действий, произвела в том же Петербурге эффект холодного душа — Москва оставлена без боя.
За это решение на военном совете в подмосковных Филях выступили и Кутузов, и Барклай. Свою позицию Кутузов обосновал так:
С потерею Москвы не потеряна Россия. Первою обязанностью поставляю сберечь армию и сблизиться с теми войсками, которые идут нам на подкрепление. Самым уступлением Москвы приготовим мы неприятелю неизбежную гибель. Доколе будет существовать армия и находиться в состоянии противиться неприятелю, до тех пор сохраним надежду благополучно завершить войну, но когда уничтожится армия, погибнут Москва и Россия. Приказываю отступать.
Кутузов не выполнил слова, данного им императору, зато выполнил свой долг перед Россией. Под Аустерлицем ему не хватило мужества противостоять воле царя, зато в Филях он взял на себя всю ответственность за судьбу отечества.
Паника, охватившая многих в Петербурге при известии о сдаче Москвы, не затронула Александра I. Он сумел навести порядок и в городе, и у себя при дворе, и в собственной семье. Его мать, убежденная в том, что Наполеон вот-вот появится и в столице, готовилась бежать. Сын, как государь, приказал матери остаться. Все это далось императору огромным напряжением воли. Рассказывают, что, когда в Петербург пришли известия о тяжелых потерях при Бородино и сдаче Москвы без боя, его появление у Казанского собора народ встретил гробовым молчанием. Царь прошел сквозь грозную толпу и испепеляющие его взгляды бледный как смерть.
Престиж царя и у себя дома, и за границей был тогда невысок. Меттерних без какого-либо намека на сочувствие к царю или России писал в это время прусскому канцлеру Гарденбергу:
...Я тут вижу только потерю европейского существования России... Я не рассчитываю ни на какую твердость со стороны императора Александра, ни на какую связность в настоящих и будущих планах его кабинета, ни на какие решительные результаты в его пользу вследствие климата, приближения зимы: я отрицаю возможность, чтоб те же самые люди, которые поставили государство у края погибели, могли вывести его из этого положения.
В этот период Меттерних язвительно называл Александра I не иначе как «московским императором», прямо намекая на сдачу Москвы
Особенно пристально следили за психологическим состоянием русского императора англичане и французские эмигранты, больше других заинтересованные в том, чтобы Россия не вышла из борьбы.
Выводы, к которым приходили они, коренным образом отличались от пессимистического прогноза Меттерниха. Английский посланник генерал Вильсон, встречавшийся в этот трудный момент с царем, беседой остался удовлетворен, поскольку Александр I позорного мира подписывать не собирался. «Лучше отращу себе бороду и буду питаться картофелем в Сибири», — заявил он Вильсону. О том же свидетельствовал и французский эмигрант Жозеф де Местр, записавший в своем дневнике: «Император тверд и слышать не хочет о мире».
Александр принял решение сражаться до конца. В письме к Бер-надоту царь писал:
Потеря Москвы дает мне случай представить Европе величайшее доказательство моей настойчивости продолжать войну против ее угнетателя. После этой раны все прочие ничтожны. Ныне, более нежели когда-либо, я и народ, во главе которого я имею честь находиться, решились стоять твердо и скорее погрести себя под развалинами империи, нежели примириться с Аттилою новейших времен.
Наполеон в пылающей Москве: «Это скифы!»
Если Александр I называл Наполеона Аттилой, то приблизительно то же самое думал в этот момент французский император о русских, наблюдая из кремлевских окон пылающую Москву. Такого он не видел ни в одном из многочисленных европейских городов, что ему пришлось брать в своей жизни. Если верить воспоминаниям очевидцев, то, глядя на огненное зарево и ощущая на своем лице жар бушующего пламени, Наполеон с изумлением произнес: «Москвы нет более. Я лишился награды, обещанной войскам! Русские сами зажигают... Какая чрезвычайная решительность. Что за люди! Это скифы!»
В том, что Москву сожгли сами русские, французский император ничуть не сомневался. Главным виновником пожара Наполеон до самой смерти считал московского градоначальника графа Ростопчина, называя его не иначе как «поджигателем» и «сумасшедшим». В своем письме царю из Москвы, на которое он так и не получил ответа, Наполеон, пытаясь оправдаться, пишет:
Красивый, великолепный город Москва не существует; Ростопчин ее сжег. 400 зажигателей пойманы на месте преступления; все они объявили, что жгли по приказанию губернатора и полицмейстера; их расстреляли... Так поступали начиная с Смоленска и пустили 600 000 семейств по миру. Человеколюбие, интересы Вашего величества и этого обширного города требовали, чтоб он был мне отдан в залог, потому что русская армия не защищала его; надобно было оставить в нем правительственные учреждения, власть и гражданскую стражу. Так делали в Вене два раза, в Берлине, в Мадриде; так мы сами поступили в Милане пред вступлением туда Суворова. Пожары ведут к грабежу, которому предается солдат, оспаривая добычу у пламени.
По свидетельству французов, когда в Москве начались пожары, они не нашли в городе ни одной пожарной трубы — все оборудование вывезли по приказу градоначальника. Любопытно, что сами русские, хорошо знавшие колоритную фигуру Ростопчина (в этом человеке удивительным образом сочетались организаторские способности, позерство и зазнайство), говорили о графе, что «в нем два ума, русский и французский, и один другому вредит». Сам Ростопчин, объявивший себя главным российским патриотом, свое участие в поджогах то признавал, гордясь этим как подвигом, то категорически отрицал, трезво оценивая ужасные последствия трагедии. Следует также признать, что после ухода оккупантов граф сделал немало, чтобы снова обустроить город и помочь москвичам.
На самом деле вольными или невольными организаторами пожара являлись обе противоборствующие стороны. Помимо русских (как поджигателей, так и тех, кто, в спешке покидая город, просто оставлял незатушенными свои очаги) виновными были, конечно, и сами французы. Сразу же после того, как был занят город, в нем начались грабежи, мародерство и пьянство. В этих условиях пожаров в Москве избежать было нельзя. Как свидетельствует история, пожары в городе возникали всякий раз, когда там накалялась политическая ситуация и начинались народные волнения. Несколько раз Москва выгорала, по свидетельству летописцев, полностью. Пожар 1812 года стал последним в этом страшном огненном списке. Из 8771 жилой постройки сгорели 6341, из 387 государственных и общественных зданий сгорело 191.
В какой-то степени виновником московского пожара можно считать даже Петра I. Стремясь как можно быстрее украсить Петербург, царь в 1714 году повелел запретить строить каменные дома в Москве: все каменщики в обязательном порядке направлялись в петровский «парадиз». Много лет спустя этот приказ отменили, но к моменту наполеоновского нашествия Москва оставалась в основном деревянной, была застроена беспорядочно и хаотично, так что побороть огонь в пылающем городе мог разве что вселенский потоп.
Пожар 1812 года оказался столь силен, что Наполеону пришлось покинуть Москву: языки пламени охватывали уже кремлевские стены, а стекла во дворцах стали лопаться от жара. Как вспоминает один из очевидцев, когда свита Наполеона покидала Кремль, чтобы перебраться в загородный Петровский дворец, им пришлось идти сквозь дым и падающие со всех сторон искры: «Мы шли по огненной земле под огненным небом, между стен из огня».
Впрочем, настроение корсиканцу русские испортили еще до вступления в Москву. Французский император рассчитывал на триумфальный въезд в город и готовился принять депутацию горожан с ключами от древней русской столицы и просьбами о пощаде. Вместо этого ему долго и безрезультатно пришлось топтаться в московском пригороде, пока разведка наконец не донесла, что город пуст.
Следующая новость встревожила корсиканца еще больше: русская армия, пройдя Москву насквозь, исчезла, словно провалившись сквозь землю. Это редчайший случай в практике Наполеона: великий полководец потерял армию противника на две недели! Когда же разведка ее наконец обнаружила недалеко от Москвы, в Тарутине, то причин для беспокойства только прибавилось. Предприняв мастерский маневр, Кутузов не только вывел свои войска из-под удара противника, но и расположил их таким образом, что поставил под угрозу основные силы французов и все их коммуникации. Наполеон, формально получив то, что хотел — Москву, оказался заблокированным в городе, как в мышеловке.
Неоднократные попытки наладить контакты с царем, чтобы заключить мир, провалились: Александр I даже не желал об этом слушать. В результате дезертирства, ударов партизан, голода и болезней французские полки таяли и теряли боеспособность на глазах. Что было закономерно. Наполеон сам совершенно точно подметил, что командует армией наступления, а не обороны, ей противопоказано стоять на месте. В это же самое время русские войска постоянно укреплялись.
В середине сентября положение Наполеона стало уже без всякого преувеличения критическим: в Москве и ее окрестностях, безостановочно разлагаясь и теряя моральные и физические силы в бессмысленном ожидании, томились 95 тысяч французов. К югу от Москвы, под Калугой, стояла уже 110-тысячная армия Кутузова — свежая и полная желания драться. Есть свидетельства, что в создавшейся проигрышной ситуации французский император всерьез думал даже о том, чтобы спровоцировать в России крестьянское восстание, благо память о Пугачеве в народе еще жила. По некоторым данным, делались даже наброски манифеста к российскому крестьянству.
Некоторые полагают, что если бы Наполеон ударил по самому слабому и больному месту Российской империи, то есть провозгласил отмену крепостного права, то это могло бы его спасти. Вопрос спорный. Возможно, это действительно погубило бы империю и Александра I, но вряд ли существенно помогло бы Великой армии. Ненависть к оккупантам в русском народе была столь велика, что выжить французам в глубине России посреди полыхающего крестьянского восстания было бы, пожалуй, еще труднее, чем противостоять Кутузову.
К тому же вечно находиться в России Наполеон не хотел, следовательно, французам требовался оппонент, с которым можно было хоть о чем-то договориться. С крестьянской революцией вести переговоры бесполезно. Таким образом, и «пугачевский вариант» оказался для французов тупиковым. Как бы то ни было, ящик Пандоры Наполеон открыть так и не решился. И это было, кажется, самое мудрое решение из тех, что принял корсиканец за все время своего «московского похода».
Кутузов и Александр I полностью переиграли Наполеона. Первый в военно-стратегическом, а второй в политическом плане. Кутузов обыграл корсиканца, найдя в себе мужество вовремя отступить, несмотря на многочисленные протесты патриотов, в свою очередь, Александр I обыграл Наполеона, наоборот, не уступив ему ни пяди политического пространства, несмотря на тяжелейшую ситуацию и на то, что в окружении царя паникеров имелось немало.
Победа стоила русскому императору огромных душевных сил и наложила отпечаток на всю его оставшуюся жизнь. Как пишет историк Сергей Платонов:
...Последствием был перелом в его религиозном сознании. Он сам говорил, что пожар Москвы осветил его душу и согрел его сердце верою, какой раньше он не ощущал. Деист превратился в мистика. Мало интересовавшийся Библией и не знавший ее, Александр теперь не расстается с нею и не скрывает своего нового настроения. Он теперь убежден, что для народов и для царей слава и спасение только в Боге, и на себя смотрит лишь как на орудие Промысла, карающего им злобу Наполеона... Такой склад мыслей и такое настроение Александр сохранил до конца своих дней.
Поле, где «остановилось завоевание мира»
Отступление французов началось позорно, а продолжилось трагически. Уходя из Москвы, Наполеон приказал оставить в ней десять тысяч раненых, уповая на милосердие русских, но одновременно при этом распорядился взорвать храмы и дворцы Кремля, снять крест со знаменитой колокольни Ивана Великого. Варварский план, к счастью, русским частично удалось сорвать: многие церкви, рискуя жизнью, москвичи смогли в последний момент разминировать. Тем не менее и разрушения оказались большими, часть кремлевских башен дала трещины. Стоит ли после этого удивляться, что разъяренные чудовищным приказом Наполеона москвичи, вернувшись в разоренный город, не пощадили многих пленных: четыре тысячи из десяти были перебиты толпой.
Попытка Наполеона прорваться на богатую припасами Калужскую дорогу, чтобы подкормить свою оголодавшую армию, успехом не увенчалась. Кутузов, твердо следуя своему плану, намеревался дать генеральное сражение, но не допустить туда французов. Знаменитой в этот период стала фраза Кутузова: «Я заставлю их есть конину».
Психологически ситуация изменилась. Русские спокойно готовились к сражению, а Наполеон его опасался. Прощупав в нескольких столкновениях русских и почувствовав их силу, Наполеон предпочел начать отступление по тому разоренному войной коридору, куда направил неприятеля Кутузов. Теперь он диктовал правила игры.
Этот ключевой в психологическом, стратегическом и историческом плане момент очень точно уловил французский генерал Се-гюр. Вот как он описывает столкновение под Малоярославцем:
Помните ли вы это злосчастное поле битвы, на котором остановилось завоевание мира, где двадцать лет непрерывных побед рассыпались в прах, где началось великое крушение нашего счастья?.. Представляется ли вам Наполеон... его взгляды, блуждавшие с юга на восток, с Калужской дороги на Медынскую? Обе они для него закрыты: на Калужской — Кутузов и 120 тысяч человек, готовых оспаривать у него 20 лье лощины, со стороны Медыни он видит многочисленную кавалерию — это Платов.
Да, тот самый казачий атаман Платов, что незадолго до этого, реализуя общие замыслы Павла I и Наполеона, возглавил передовые части, двинувшиеся на завоевание Индии. Судьба явно благоволила к казаку. Атаман мог бы погибнуть в индийском походе, воюя против англичан. Но дело закончилось тем, что Платов за успешную войну с французами получил от англичан в 1814 году диплом почетного доктора Оксфордского университета.
Французская армия отступала, на каждом шагу теряя людей, пушки, обозы, знамена, замерзая в сугробах и питаясь лишь трупами павших лошадей. Меню, как и обещал Кутузов, разнообразием не отличалось. Чудом остался в живых и сам Наполеон. На следующий день после исторического боя под Малоярославцем, возле села Го-родни на небольшую группу всадников, среди которых находился и французский император, налетели казаки. (По рекомендации Бернадота и по собственной инициативе многие казаки и партизаны целенаправленно охотились за Наполеоном.) Взяться за оружие пришлось всем, включая маршалов Мюрата и Бессьера. От неминуемой гибели императорскую свиту спасла лишь польская конница.
Несмотря на всеобщие требования предпринять решительные действия, чтобы окончательно разгромить противника, старик Кутузов флегматично отвечал: «Все это развалится и без меня». Царю же в Петербург докладывал: «Полагаю нанести неприятелю величайший вред параллельным движением».
О том, насколько прав был Кутузов, избрав на этом этапе войны именно такую тактику, спорили в 1812 году, спорят и сегодня. С точки зрения одних, Кутузов все делал верно, сберегая силы для будущих баталий с Наполеоном. Но есть и иная точка зрения. Историк Сергей Цветков пишет:
Медлительность Михаила Илларионовича, ставившего себе в заслугу сбережение людей, «чтобы было с чем явиться на границу», не оправдывается цифрами потерь, которые понесла русская армия, из юо тысяч человек, вышедших из Тарутина, в Смоленск пришла только половина, причем лишь ю тысяч из них выбыло в сражениях, остальных скосили голод, холод и болезни... Вряд ли генеральное сражение нанесло бы русской армии больший ущерб.
Если в такой степени голод, холод и болезни преследовали русскую армию, прекрасно экипированную в Тарутине, то можно представить себе, каким адом стало отступление для французов. Данные о том, сколько из них сумели выбраться из России, разнятся. По некоторым сведениям, из полумиллионной армии вернулось домой лишь 18 тысяч человек; 130 тысяч солдат сдались в плен, остальные, следовательно, погибли. «Всемирная история войн» дает приблизительно те же цифры: в ней сообщается, что в ходе военной кампании 1812 года Великая армия убитыми и ранеными потеряла 370 тысяч человек, причем приблизительно 300 тысяч из них французы. И это несмотря на то, что Наполеон не проиграл в России ни одного крупного сражения!
Ни один год эпохи наполеоновских войн не был столь трагическим по числу потерь для Франции. Наполеон, однако, в отличие от Александра I никаких душевных потрясений в связи с этим не пережил, и к Библии его не потянуло.
Говорят, что в 1805 году, беседуя с Меттернихом, Наполеон хладнокровно заявил, что «может позволить себе расходовать 30 тысяч человек в месяц». В 1812 году эту «квоту» он явно перебрал, но не отчаивался. Покинув отступающую армию и в двенадцать дней домчавшись до Парижа, император тут же начал деятельно набирать новые войска. «Я ошибся, но не в цели и не в политической уместности этой войны, а в способе ее ведения», — сделал для себя ошибочный вывод Наполеон. Он признавал, что в России получил тяжелую рану, но еще не осознал, что на самом деле она смертельна. Провал московского похода дал сигнал всей Европе, что наполеоновской эпохе приходит конец.
Во главе антинаполеоновской коалиции встал император Александр I. Как верно подмечено многими, царь сам провозгласил себя предводителем, не спрашивая на то согласия у других монархов. Обратившись после всех бед, обрушившихся на Россию, к Библии, царь действительно ощущал себя неким орудием Божьего промысла. В одном из сражений близ Люцена, когда генералы умоляли царя уйти в безопасное место, он убежденно отвечал: «Для меня здесь нет пуль». Новая битва под Дрезденом только подтвердила уверенность Александра в том, что он находится под покровительством Всевышнего. Холм, где находился царь, во время сражения подвергался обстрелу, но Александр оставался на месте. Лишь заметив, что его лошадь тревожно бьет копытом, император, чтобы успокоить ее, отъехал в сторону на несколько метров. На его место встал бывший наполеоновский генерал Моро. Через минуту француза поразило ядро. То же самое произошло и в следующем сражении, под Лейпцигом, где ядра падали рядом с царем, не задевая его.
Историк Цветков пишет:
В начале февраля русские войска перешли Одер... Здесь наметилась одна характерная особенность дипломатического поведения Александра. Царь, вступая во владения прусского короля, без всякого гласного или тайного соглашения с последним обратился сначала к его подданным, призвав их к вооруженной борьбе с французским владычеством, а затем от его же имени обратился к подданным других немецких государей. Тем самым он как бы заявлял, что признает себя судьей и вершителем судеб тех стран, куда вступал по собственному произволу. Не дожидаясь признания другими монархами своих прав на руководство сопротивлением Наполеону, он сам провозглашал себя предводителем сражающейся Европы
И Европа приняла руководство нового Агамемнона, признав особую роль русских в борьбе против наполеоновской Франции и очевидную решимость самого царя довести эту борьбу до победного конца. Прусский король, увидев, как восторженно встречают его подданные русскую армию, подписал с Россией союзный договор. Русские войска вступили в Берлин уже как союзники. В августе, предварительно безуспешно поторговавшись с Наполеоном, войну Франции объявила и Австрия, вызвав бешеное негодование Наполеона. Он писал тогда Коленкуру:
Россия имеет полное право на выгодные условия мира. Она купила их ценой двух тяжких походов, опустошением своих областей, потерей столицы. Австрия, напротив того, не заслуживает ничего. Ничто не огорчило бы меня так, как если бы Австрия в награду за свое вероломство получила выгоды и славу восстановления мира в Европе.
Так или иначе, европейская коалиция от обороны постепенно переходила в наступление. Империя Наполеона начинала рушиться, точно так же как год назад на российских просторах развалилась Великая армия. Бонапарт по-прежнему демонстрировал свои военные дарования, нанося союзникам ощутимые удары, но силы самой Франции иссякали, французская армия набирала новых рекрутов уже из числа подростков.
Военная кампания 1813 года завершилась в октябре грандиозным трехдневным сражением под Лейпцигом, получившим в истории название «Битвы народов». Против французов, поляков, итальянцев, бельгийцев, саксонцев, голландцев и немцев Рейнского союза сражались русские, австрийцы, пруссаки и шведы. В результате Наполеон уступил поле боя и ретировался во Францию. К концу «Битвы народов» у французов уже не было соратников. Саксонцы начали сражение стреляя в солдат коалиции, а закончили паля по отступающим французским частям.
Австрийцы и пруссаки готовы были удовлетвориться достигнутым и подписать с Наполеоном мир. Александр I отказался, заявив, что прочный мир может быть подписан только в Париже. «Я не могу каждый раз поспевать вам на помощь за четыреста лье», — сказал он прусскому королю и австрийскому императору.
Французские маршалы в очереди к православному кресту
Убедить союзников продолжать борьбу царю помог сам Наполеон, отказавшийся в очередной раз от мирных предложений. Хотя условия мира, учитывая весь ущерб, нанесенный им Европе, казались вполне справедливыми: Франции предлагалось всего лишь ограничить свои аппетиты теми границами, что страна имела в 1790 году.
То, что могло устроить рядового француза, не могло устроить Наполеона. Признать границы 1790 года означало для него признать всю бессмысленность и авантюризм десятилетней наполеоновской внешней политики, абсурдность принесенных им жертв.
Я так взволнован гнусным проектом... я считаю себя уже обесчещенным тем, что нам его предлагают, —
писал Наполеон Коленкуру, своему представителю на Шатильонском конгрессе. Император по-прежнему полагался только на силу оружия и считал, что одно выигранное у союзников крупное сражение заставит фортуну снова улыбаться Франции и ему лично. При этом, как и накануне московского похода, снова не учитывалось очевидное-. то, что союзники (и в первую очередь Александр I) психологически и политически были готовы проиграть еще не одну битву, но все равно обязательно выиграть войну. Так и получилось.
У главных архитекторов победы есть и конкретные имена - Талейран и Александр I. В начале марта к русскому императору прибыл тайный посланец Талейрана — барон Витроль, занимавший скромную должность инспектора казенных ферм. Этот «фермер» и привез царю мудрый совет — перестать фехтовать с Наполеоном на выгодном для него военном поле, бесконечно маневрируя на французской территории, а (пока корсиканец в Париже отсутствует) решительно двинуться на столицу, где обстановка вполне созрела для смены власти.
По другой версии, идея направить войска к Парижу принадлежала корсиканцу Поццо ди Борго, старому врагу Наполеона и одному из приближенных русского императора. Послание Талейрана явилось лишь последним аргументом, убедившим Александра I. В любом случае решение оставалось за царем, и он его принял. Не без труда, но ему удалось убедить своих военачальников, а затем и союзников в необходимости стремительного броска на Париж.
Сам Наполеон, слишком поздно узнавший об этом неожиданном маневре, говорят, воскликнул: «Это превосходный шахматный ход. Никогда бы не поверил, что у союзников есть хоть один генерал, способный до этого додуматься!»
Штурм Парижа, обороной которого командовал маршал Мармон, начался 18 (30) марта и оказался непродолжительным, хотя и кровопролитным. С обеих сторон потери составили тысяч по девять человек, причем основной вклад в успех внесли русские. Они находились на острие атаки, а потому и потери среди союзников у русских были самыми большими — шесть из девяти тысяч.
Огромна заслуга Александра I и в том, что Париж не подвергся разгрому. Когда царю донесли, что армия намерена учинить в Париже погром, он немедленно направился к прусскому королю. Тот в отличие от Александра к тревожному известию отнесся хладнокровно, заметив, что это удобный случай отомстить за все несчастья, обрушившиеся на Россию и Пруссию по вине французов. Король не ручался за то, что может удержать прусских солдат, а потому предложил заняться наведением порядка, в том числе и в своей собственной армии, царю.
Между тем дело действительно могло закончиться второй Варфоломеевской ночью. Огромная ненависть, накопившаяся к Наполеону и французам за многочисленные бесчинства, учиненные ими в Европе, могла, бесспорно, обернуться вендеттой на улицах Парижа. Тем более что подобные примеры в ходе военной кампании 1814 года уже были. Есть немало свидетельств о грабежах во французских поселениях, в которых особо отличились прусские солдаты и русские казаки. (В регулярной русской армии поддерживалась жесткая дисциплина, а потому она в этом безобразии не участвовала.)
Таким образом, царю предстояла далеко непростая задача — спасти французскую столицу. Для русского императора месть Наполеону заключалась как раз в этом — сделать все от него зависящее, чтобы Париж не постигла участь Москвы.
Александр I эту моральную битву выиграл блестяще. И дело, конечно, не только в том, что, в отличие от Наполеона, устроившего в православных соборах конюшни и приказавшего взорвать Кремль, царь не тронул собор Парижской Богоматери или Лувр. Русский государь покорил парижан своим благородством. Словом и рыцарским жестом Александр I добился от французов всего того, чего Наполеон не смог добиться от русских с помощью пушек.
Если корсиканец не дождался от москвичей даже скромной делегации испуганных горожан, то русский царь въехал во французскую столицу триумфатором на белом коне (неосмотрительно подаренном ему ранее Коленкуром) под восторженные крики парижан, осыпаемый цветами. Как заметил историк Адольф Тьер:
Никому он не хотел так нравиться, как этим французам, которые побеждали его столько раз, которых он победил наконец в свою очередь и одобрения которых он добивался с такой страстностью. Победить великодушием... вот к чему он стремился в эту минуту больше всего. Благородная слабость — если только это была слабость.
Во время триумфального въезда Александра I в Париж случился лишь один эпизод, на минуту омрачивший событие. В толпе рядом с триумфатором какой-то молодой человек вдруг поднял ружье, но его тут же схватили. «Он пьян», — закричали вокруг, и царь милостиво приказал его отпустить. Молодой человек тут же смешался с толпой и исчез. Чего он хотел на самом деле, так никто и не узнал.
Как свидетельствуют очевидцы, во все время своего пребывания в Париже Александр I находился в каком-то просветленном состоянии, много молился. 29 марта (то апреля), в день Светлого Христова Воскресения по православному календарю, в Париже на площади Согласия, как раз там, где казнили Людовика XVI, был воздвигнут алтарь и прошло грандиозное публичное богослужение. На прилегающих к площади Согласия улицах и бульварах столпилось 8о тысяч человек. Сам царь не раз вспоминал именно это событие как лучшие мгновенья своей жизни. Он вспоминал:
...При бесчисленных толпах парижан всех состояний и возрастов живая гекатомба наша вдруг огласилась громким и стройным русским пением... Торжественная была эта минута для моего сердца... Вот, думал я, по неисповедимой воле Провидения из холодной отчизны Севера привел я православное мое русское воинство для того, чтобы в земле иноплеменников, столь недавно еще нагло наступавших в Россию, в их знаменитой столице, на том самом месте, где пала царственная жертва от буйства народного, принести совокупную, очистительную и вместе торжественную молитву Господу... Духовное наше торжество в полноте достигло своей цели.
Впрочем, при всей торжественности момента царь вспоминал это вошедшее в мировую историю богослужение и не без юмора:
...Было забавно видеть, как французские маршалы, как многочисленная фаланга генералов французских теснилась возле русского креста и друг друга толкала, чтобы иметь возможность скорее к нему приложиться.
Александр I сполна рассчитался с Наполеоном за свои слезы под Аустерлицем и сожженную Москву. Моральная победа «скифов» над Европой была полной.
Царь определяет будущее Франции: Наполеон II, Бернадот, Бурбоны или республиканцы?
Чем ближе был конец военной кампании 1814 года, тем чаще у союзников возникал вопрос о том, какой должна стать новая Франция. Позиция самого Александра I — а именно она являлась в тот момент решающей, учитывая авторитет «Агамемнона» и мощь его армии, расположившейся в центре Европы, — оставалась не вполне определенной. Задумываясь о будущем не только Франции, но и в целом Европы и стремясь обеспечить на континенте прочный порядок и стабильность, царь четко представлял себе в своем проекте общеевропейской программы пока лишь только три первых пункта. Во-первых, в новой Франции не может быть места для воинственного корсиканца. Во-вторых, новую власть должны выбрать себе сами французы. И наконец, новая Франция не должна чувствовать себя ущемленной среди прочих европейских держав, чтобы в чьей-нибудь горячей французской голове через какое-то время не возникла мысль о реванше.
Если пункт первый союзники уже давно согласовали, а пункт третий, вызывавший, напротив, немало споров, можно было пока отложить в сторону, то вопрос о том, кто должен сесть на французский престол, приходилось решать как можно быстрее. В Париже действовало временное правительство, но Наполеон все еще не сложил с себя императорских полномочий и находился в Фонтенбло во главе 6о тысяч боеспособных войск. В политической и психологической схватке требовалось немедленно поставить точку.
Собрание в доме Талейрана, где союзники обсуждали вопрос о будущей власти во Франции, открыл Александр I, сразу же сформулировавший свою позицию. Он заявил, что Россия готова признать какое угодно правительство, лишь бы оно понравилось самим французам и гарантировало Европе прочный мир. Царь дал понять, что его устроят и шведский король Бернадот, доказавший свою преданность делу союзников, и трехлетний Наполеон II под регентством Марии Луизы, и республиканцы, если они все еще желанны во Франции, и Бурбоны, если французы готовы снова посадить их на трон. Более того, чтобы соблюсти все формальности, русский император даже предложил для начала обсудить вопрос о возможности сохранения трона за Бонапартом, однако все участники совещания в один голос эту идею отвергли.
Победителем развернувшейся дискуссии следует признать Талейрана, отстоявшего интересы Бурбонов. Он убедил всех не столько в том, что возвращение Бурбонов это хорошо, сколько в том, что остальные варианты хуже. Республиканская идея, как сочли многие, себя надолго скомпрометировала в глазах французов ужасами и хаосом революции. Нелогичным показалось большинству и менять одного солдата на другого, то есть Наполеона на Бернадота, — Францию готовили к длительному миру, а не к войне. Не вызвала (даже у присутствовавших на совещании австрийцев) поддержки и идея регентства. Все понимали, что за Марией Луизой и сыном может на деле стоять все тот же корсиканец. «Все это интриги. Лишь старая династия Бурбонов — принцип», — заявил хитроумный Талейран. Большинство французов, уверял он, жаждет их возвращения на трон.
Последний аргумент Талейрана вызвал у многих участников совещания откровенный скепсис. И в первую очередь у Александра I, он напомнил о том, как мужественно умирали на поле боя за Наполеона молодые рекруты. Царь, как и его умная бабка, вообще не питал никаких иллюзий в отношении Бурбонов. Либеральные и прагматичные взгляды Екатерины II весьма отличались от замшелого консерватизма Бурбонов, не желавших приспосабливаться к изменяющемуся миру.
Прекрасно помнил Александр I и уроки своего учителя-республиканца Лагарпа. О том, что русский император не исключал восстановления в послевоенной Франции республики, свидетельствуют многие факты. Тайный посланник Талейрана к царю барон Витроль в своих воспоминаниях об исторической встрече с Александром с искренним ужасом пишет о том, что государь считал вполне приемлемым исходом войны республиканскую форму правления во Франции. «Вот до чего мы дожили, о боже!» — восклицает этот убежденный роялист.
Так что утверждения Талейрана о том, что роялистов во Франции поддерживает якобы большинство населения, царя, конечно, убедить не могли. Основываясь на здравом смысле, император мог согласиться лишь с тем, что Бурбоны в сложившейся ситуации — это, может быть, действительно наименьшее (либо неизбежное) зло.
Главным же для Александра I при принятии окончательного решения оказалось совсем другое. В речи Талейрана прозвучало ключевое для царя слово — «принцип». Это слово оказалось созвучно тем идеям относительно будущего устройства общеевропейского дома, что как раз формировались в голове Александра. Он был убежден, что стабильность в Европе способны гарантировать только определенные и признанные большинством европейских стран правила игры, то есть как раз «принципы». Какие это конкретно правила игры, царь еще не мог четко сформулировать, но само по себе умелое противопоставление Талейраном ненавистного для императора слова «интрига» и благородного слова «принцип» подействовало на Александра I магически — он дал согласие на возвращение Бурбонов.
Однако царь настоял на том, что необходимо соблюсти все приличия. «Не нам, чужеземцам, — заявил он Талейрану, — подобает провозглашать низложение Наполеона. Еще менее того мы можем призывать Бурбонов на престол Франции». Подумав минуту, Талейран обещал провести оба этих важнейших решения через Сенат, но лишь при условии, если союзники официально объявят, что они никогда не признают властелином Франции Бонапарта. «Только ввиду подобного заявления, — пояснил Талейран с иронией, — сенаторы найдут в себе смелость свободно высказать собственное мнение». Необходимую декларацию тут же составили. Александр искренне полагал, что будущее правительство должны избрать сами французы. На деле же получилось так, что от имени всех французов говорил один Талейран и именно его идеи скрепил своей подписью русский царь.
Царь же определил для Наполеона и место будущего жительства — остров Эльба. Единственный, кто возражал против этого пункта договоренности с Наполеоном, был Меттерних: он мудро предсказал, что в результате этого необдуманного шага Европе придется снова иметь дело с беспокойным корсиканцем. Знаменитые Сто дней полностью подтвердили правоту австрийца.
Пока же Наполеон, находясь в Фонтенбло, отчаянно сопротивляясь року, один за другим сдавал последние политические редуты. Императорская свита таяла на глазах. Вчерашние друзья один за другим, чаще всего даже не прощаясь, потихоньку уезжали в столицу, где в политических салонах уже начали лихорадочно делить будущие должности, чины и ордена. Сам Наполеон хотел идти на Париж, но его не поддержали маршалы и генералы, считавшие сопротивление бесполезным.
Проиграл Наполеон и на дипломатическом поле, пытаясь настоять, чтобы у власти после отречения остался его сын. Первоначальный текст отречения пришлось переписать. Первый вариант, подписанный 4 апреля 1814 года, гласил:
Союзные монархи объявили, что император Наполеон есть единственное препятствие к водворению мира в Европе; император Наполеон, верный своей присяге, объявляет, что готов сойти с трона, расстаться с Францией и даже с жизнью для блага отечества, неразлучного с правами его сына, с правами императрицы-регентши и с сохранением законов империи.
Последние условия союзников устроить, естественно, не могли. Корсиканец был вправе распорядиться своей жизнью, но не мог уже требовать престол для своего сына или сохранения законов наполеоновской империи. Новое и окончательное отречение начиналось так же, как и прежнее, а заканчивалось словами:
...Император, верный своей присяге, объявляет, что отказывается за себя и детей своих от тронов Франции и Италии...
Это означало уже полную капитуляцию. Не удалась Наполеону даже попытка самоубийства, яд подействовал лишь отчасти, вызвав мучительную боль, но не смерть.
По дороге в ссылку Наполеон мог лично убедиться в том, как к нему относятся его бывшие подданные. Если поначалу карету встречали приветственные крики «Да здравствует император!», то затем, ближе к Лиону, он увидел угрюмые лица, а в Авиньоне услышал слова: «Долой тирана! Долой сволочь! Да здравствует король! Да здравствуют союзники, наши освободители!» В карету летели камни, а женщины рвались к бывшему императору с кулаками. Корсиканцу пришлось смириться, надеть английский мундир и шляпу с белой роялистской кокардой. Все стало напоминать уже не почетную ссылку, а настоящее бегство. Солдаты союзников, сопровождавшие карету, из почетного эскорта постепенно превратились в охрану, оберегавшую жизнь некогда всемогущего французского императора от разъяренной толпы.
Все треволнения закончились лишь на Эльбе, где Наполеона встретили не криками протеста, а музыкой. Пока он спускался на берег, два старых контрабаса и три скрипки наигрывали что-то веселое.
I Дипломатическая интрига до и после Ста дней Наполеона
Общепризнано, что никогда ранее Европа не жила такой единой, хотя и беспокойной жизнью, как в первые пятнадцать лет XIX века. Наполеон заставил Европу принять как факт, что у нее общая судьба и общие проблемы, от которых не отгородишься ни водами
Ла-Манша, ни русскими просторами, ни высокими Альпами. Европейские народы, объединяясь в коалиции, то волной накатывали на Москву, то двигались в обратном направлении на Париж. В наполеоновскую эпоху солдатские сапоги истоптали поля практически каждой европейской страны. Под натиском неприятеля пала не одна европейская столица: Вена, Берлин, Москва, Париж, Мадрид...
Лондон остался нетронутым, но также положил на алтарь победы над Наполеоном немало, хотя его жертвоприношение выражалось в первую очередь в фунтах стерлингов. Армия Веллингтона в боях с французами в Испании потеряла чуть более шести тысяч человек, что, конечно, несопоставимо с потерями других союзников. Англичане словно берегли свои силы для Ватерлоо.
Европейские генералы сумели в этот период на штабных картах и в реальных сражениях испробовать самые замысловатые стратегические и тактические новинки. Приблизительно то же самое можно сказать и о европейской правящей элите: одни и те же страны, интригуя и маневрируя на политическом поле, то вступали между собой в союзы, клянясь в вечной дружбе, то ожесточенно воевали, проклиная друг друга. Наработав немалый опыт коллективного военного противостояния, европейцы теперь приступили к гораздо более сложному делу-, нужно было научиться сочетать свои интересы, чтобы жить мирно. Пришло время дипломатов. Учитывая наследство, оставленное Наполеоном Европе, и очевидное недоверие врагов-союзников друг к другу, дипломатам предстояло преодолеть серьезные препятствия, чтобы найти приемлемое (если не для всех, то хотя бы для большинства) решение.
Слово «конгресс» возникло само собой, память вызвала из прошлого известный Вестфальский конгресс XVII века, что поставил точку в Тридцати летней войне. Нечто подобное должно было произойти и теперь. Решили собраться осенью в Вене. Предстояло уладить массу пограничных споров, решить, что делать с Францией, вознаградить победителей, не допустив при этом чрезмерного и опасного усиления ни одной из крупнейших европейских держав. Особую позицию занимала Россия. Соглашаясь с тем, что все перечисленные выше вопросы нужно, конечно, решать, она одновременно считала необходимым, не откладывая дела в долгий ящик, начать закладывать фундамент будущего общеевропейского дома. А для этого в Вене как минимум нужно было договориться о некоторых хотя бы основных параметрах будущего здания.
Конгресс работал с октября 1814 года по июнь 1815-го. Не остановили его работу и наполеоновские Сто дней, хотя они существенно повлияли на настроения и позиции участников. Наполеон и на Венском конгрессе, пусть и заочно, сыграл одну из главных ролей, так что говорить об этой конференции как о едином процессе правомерно лишь с оговорками: ее пролог и эпилог объединяет только общий заголовок пьесы.
Говоря о Венском конгрессе, чаще всего вспоминают Талейрана, сумевшего на самом первом этапе работы форума смешать все планы союзников и заставить их относиться к побежденной Франции как к равноправному участнику переговоров. Но у этой мастерски проведенной Талейраном дипломатической операции была и очевидная негативная сторона. Добиваясь усиления французской позиции, Талейран ставил на раскол вчерашних партнеров. Само слово «союзники» было им опротестовано как изжившее себя после изгнания Бонапарта.
Признавая дипломатический талант Талейрана, не следует, однако, забывать, что действовал он в необычайно комфортной для себя обстановке, поскольку цементировало коалицию не общее представление о будущем европейского континента, а лишь опасность, исходившая из Парижа. Исчезла опасность — испарилось и единство союзников, они снова с жаром начали делить между собой европейские земли, в основном польские, саксонские и немецкие. В этом торге для любой делегации каждый голос в свою поддержку представлял интерес, поэтому голос Талейрана, говорившего от имени Франции, а заодно и ряда мелких европейских государств, был, естественно, востребован. Французскому дипломату оставалось лишь выгоднее, играя на противоречиях между союзниками, этот голос продать.
Авторитет Александра I, еще вчера «вождя бессмертной коалиции, стяжавшего славу умиротворителя вселенной», как его величала европейская пресса, в ходе венских торгов начал постепенно падать. Западная Европа доверяла ему «умиротворять вселенную», но не хотела укрепления России.
О том, какие мысли царили тогда в голове, например, Меттерниха, свидетельствует очевидец тех давних событий, первый секретарь австрийского канцлера Генц:
Меттерних был убежден в своей мудрости, что восстановление Бурбонов гораздо больше послужит частному интересу России и Англии, чем Австрии или общему интересу Европы; что Франция, истощенная до последней степени всем тем, что претерпела она в последние двадцать лет, впадет под слабым скипетром Бурбонов в состояние бессилия и совершенного ничтожества, которое долго не позволит ей поддерживать политическое равновесие. И, следовательно, Россия, гордая своими успехами, своею славою, влиянием в Германии, тесно и постоянно связанная с Англией, не боящаяся более Швеции и мало сдерживаемая, особенно в первые годы, Пруссией, получит свободное и обширное поле для своих честолюбивых предприятий, снова будет грозить Порте, будет держать Австрию в постоянном беспокойстве и достигнет перевеса, опасного для соседей и для всей Европы.
Схожие мысли стали посещать и англичан. В политике, как и у платья, всегда есть лицевая сторона и изнанка. Триумфальный прием, оказанный русскому императору во время его послевоенного визита в Англию, не мешал английским политикам в тиши кабинетов думать о том, как ослабить русские позиции.
Обиженным на российского государя из-за равнодушия, проявленного Россией к судьбе Бурбонов, оказался и Людовик XVIII. Что, естественно, напрямую отразилось на позиции французской делегации на начальном этапе работы Венского конгресса.
Российской дипломатии помогло чудесное возвращение во Францию Наполеона, а главное то, с какой неожиданной для всех быстротой и легкостью он дошел от побережья до Парижа. Поначалу Александру I пришлось, правда, выслушать немало справедливых упреков в том, что он выбрал для корсиканца столь неудачное место для ссылки, однако затем услуги «Агамемнона» были снова востребованы в полной мере. Угроза, как и прежде, сцементировала коалицию.
Россия, Пруссия и Австрия обязались немедленно выставить по 150 тысяч солдат, а Англия — выплатить пять миллионов фунтов субсидий. Одновременно в Нидерланды для организации сопротивления Бонапарту как одного из лучших европейских полководцев направили Веллингтона. Именно Веллингтону корсиканец и проиграл свою последнюю в жизни битву при Ватерлоо, где против французов сражались англичане и пруссаки.
Новое противостояние с Наполеоном значительно улучшило отношения России и Англии. В долговременном политическом плане британцы по-прежнему были склонны подыгрывать австрийцам и пруссакам, но, с другой стороны, Петербург, как показала эпоха наполеоновских войн, оказался куда более надежным союзником, чем Вена и Берлин. Раздражало Англию и то, как австрийцы и пруссаки откровенно транжирили (если не сказать воровали) субсидии, выделенные англичанами.
Лорд Роберт Стюарт Каслри, британский министр иностранных дел, подготовил в связи с этим следующую любопытную записку, направленную им в Лондон:
...Основные интересы Великобритании в настоящее время тождественнее с интересами Австрии и Пруссии, чем России; но в то же самое время я должен заметить, что за этими обоими дворами надобно внимательно смотреть, как они преследуют свои частные цели, чтоб нам не впутаться в такую политику, с которою Великобритания не имеет ничего общего. Ни Австрия, ни Пруссия и ни одна из меньших держав не имеют искреннего желания поскорее окончить настоящее положение дел, потому что оно доставляет им возможность кормить, одевать и платить жалованье своему войску на счет Франции, откладывая при этом себе в карманы английские субсидии. Австрийцы ввели целую армию в Прованс, чтоб кормить ее на счет этой бедной и верной королю страны. Пруссаки кормят на счет Франции 200 тысяч войска. Баварцы, чтоб не потерять удобного случая покормиться на чужой счет, поспешили перевести на телегах свое войско от Мюнхена на берега Луары, когда в их помощи уже не было более никакой нужды, и перевозка, разумеется, поставлена на счет Франции. Теперь во Франции союзных войск не менее 900 тысяч, содержание которых стоит ежедневно стране 112 тысяч фунтов стерлингов.
Безупречно в этом отношении ведет себя русский император: он согласился со мною, что треть контрибуции, которую возьмут союзники с Франции, должна идти на пограничные укрепления: если взять в расчет отдаленный интерес России в этом деле, то это очень бескорыстно со стороны его императорского величества. Он привел в движение свою вторую армию без всяких уговоров с нами насчет субсидий, прежде чем получил малейшее уверение в помощи; он остановил свои войска, велел им возвратиться назад в Россию, как только я представил ему, что в них нет более нужды.
В лучшую сторону изменились отношения русского императора и с Людовиком XVIII. Король понял, что после своей вторичной реставрации реально рассчитывать на помощь он может, помимо англичан, лишь со стороны России. Как в силу характера Александра I, так и потому, что русским (в отличие от соседей Франции — пруссаков и австрийцев) от французов по большому счету ничего не надо. Кроме, разумеется, стабильности и мира.
Хотя формально работа над выверкой и перепиской заключительного акта Венского конгресса завершилась как раз в день битвы при Ватерлоо и после этого началось официальное подписание документа, следует учесть, что к этому моменту обстановка в Европе стала уже во многом иной. Вынужденные силой обстоятельств вновь решать проблему Наполеона, многие европейские страны стали иначе оценивать ситуацию. Сто дней показали, как хрупок европейский мир и как неустойчиво положение в самой Франции.
В то же время Сто дней убедительно доказали, что испытанием на верность может быть не только война, но и мир. Известна история о направленном против России тайном договоре между Англией, Францией и Австрией, который Наполеон, вернувшись с Эльбы, обнаружил в архиве Министерства иностранных дел. Не без надежды расколоть коалицию Наполеон тут же направил этот документ русскому императору. Уже умудренный годами, Александр на очевидную провокацию корсиканца не поддался и нашел в себе силы прагматично закрыть глаза на очевидную нечистоплотность союзников. Как пишет по этому поводу Тарле, «царь отшвырнул прочь уже бесполезного для него Талейрана», но «простил» Меттерниха, потому что Австрия ему была нужна.
Многое из того, чего достиг на первой фазе переговоров в Вене Талейран, рухнуло, не говоря уже о его собственной карьере. Если до этого виновником всех бед, обрушившихся на Европу, признавался лишь сам Наполеон, то теперь (после того как он беспрепятственно вернулся в Париж) многие в Европе стали обвинять во всех бедах уже не только самого корсиканца, но и французский народ в целом. В Пруссии зазвучали настойчивые требования расчленить Францию на мелкие части, чтобы никогда больше не допустить с ее стороны агрессивных действий.
На этот раз политические интересы французов в Европе защитил уже не Талейран, а русский император, охладивший пыл пруссаков. Альтернативой разделению страны стало решение оставить на французской территории на переходный период часть союзных сил. К тому же это отвечало интересам пока еще слабой власти самих Бурбонов. Контролировать ситуацию в Париже от лица союзников поручили Веллингтону, что, естественно, порадовало англичан.
Закрепили свои позиции во Франции и русские. После ухода в отставку Талейрана и Фуше правительство возглавил русский француз герцог Ришелье, бывший правитель Новороссийского края. Тот самый, что когда-то от имени Екатерины II приезжал к роялистам из армии Конде с необычным предложением отправиться в Россию, чтобы заняться там сельским хозяйством.
Талейран язвительно заметил о своем преемнике: «Это француз, который лучше всего знает Крым». Это правда. Но тем справедливее будет признать заслуги Ришелье: практически в незнакомой для него стране, не имея никаких связей, в условиях крайне слабой и непоследовательной власти короля Людовика, преодолевая бесконечные интриги со стороны радикальных роялистов и вчерашних якобинцев, он сумел провести Францию через сложнейший переходный период. Ришелье ушел в отставку лишь тогда, когда страну покинули войска союзников. А это фактически означало признание успехов правительства Ришелье. Союзники уходили, потому что власть во Франции стала достаточно прочной, а ее политика предсказуемой и неопасной для окружающих.
Русско-французский министр у некоторых союзников вызывал, конечно, изрядное беспокойство, но прагматичные англичане отнеслись к этому факту вполне взвешенно. Тот же Каслри докладывал по этому поводу в Лондон:
Связь герцога Ришелье с русским императором... естественно, дает новому правительству сильный русский цвет, и на него уже нападают за это. Но, несмотря на тон покровительства, употребляемый императором, я не нахожу причины жаловаться на поведение его императорского величества. И он спокойно смотрит на нашу работу в Лувре. Зависть к преобладающему влиянию России, по моему мнению, не должна побуждать нас к ослаблению правительства герцога Ришелье. Главная наша цель - поддерживать на престоле Людовика XVIII; система умеренности, по моему мнению, есть самое лучшее к тому средство, и я не думаю, чтобы герцог вдался в крайности. У герцога много здравого смысла, и он мог бы быть отличным министром в честной стране; но публичная жизнь его ограничивается крымским губернаторством. Он мне сказал, что не знает в лицо ни одного из своих товарищей и что не был во Франции с 1790 года: можете представить себе трудности, которые он должен встретить.
Говоря о том периоде, историки, к сожалению, нередко акцентируют свое внимание лишь на разногласиях между бывшими союзниками, легко определяя при этом как правого, так и виноватого. Когда читаешь подобные сугубо «патриотические» труды по истории дипломатии (как российские, так и зарубежные), хорошо видишь, насколько идеологическое противостояние между Востоком и Западом XX века наложило свой отпечаток на освещение событий века XIX. Эпоха «холодной войны» будто сдвинута на сто лет назад. При таком подходе зеркало неизбежно оказывается кривым. На самом деле, несмотря на очевидное соперничество между Россией и другими европейскими державами, здравый смысл в их отношениях в этот период чаще все-таки побеждал интригу.
Царь «...спокойно смотрит на нашу работу в Лувре», констатирует английский министр иностранных дел. В это же время Лондон не только спокойно относится к деятельности Ришелье, но временами и активно его поддерживает, прекрасно понимая, что герцог работает не на эгоистические интересы России, а на стабильность во Франции. Известно, что однажды, когда в разговоре с Веллингтоном герцог Ришелье, рассказав о противодействии своему правительству, откровенно признался, что заговорщики рассчитывают на равнодушие английского полководца, тог темпераментно ответил: «Пусть попробуют: узнают меня!»
Европа с трудом, как после тяжкой болезни, выходила из эпохи наполеоновских войн, вступая в эпоху конгрессов. Венский конгресс стал первым. Его главная цель - ликвидировать политические последствия неугомонной деятельности на континенте темпераментного корсиканца — была достигнута. Заключительный акт подписали сначала Россия, Австрия, Англия, Испания, Португалия, Пруссия, Франция и Швеция, а затем в течение последующих пяти лет еще 33 государства.
Карту Европы после длительных споров в очередной раз перекроили. К Голландии присоединили Бельгию, назвав все это Нидерландским королевством. Швеция получила Норвегию. Пруссия приобрела часть Саксонии и Вестфалии, а также Рейнскую область. Австрия вернула себе все утерянные при Наполеоне земли и присоединила Ломбардию, владения бывшей Венецианской республики и кое-что еще. Италию вновь раздробили и отдали под власть старых династий. Лондон не только освободился от континентальной блокады, введенной Наполеоном, но и обогатился за счет новых колониальных приобретений, присоединив к Британской империи Цейлон, Гвиану, Мыс Доброй Надежды и оставив себе Мальту.
Польшу вновь поделили между Россией, Пруссией и Австрией. Большая часть бывшего Великого герцогства Варшавского перешла к России. В ноябре 1815 года Царству Польскому, главой которого стал русский император, была дарована монаршей милостью конституция. Основной закон провозглашал разделение законодательной и исполнительной власти, вводил двухпалатный парламент — сейм, декларировал неприкосновенность личности, свободу печати, сохранение «национального войска» и признавал официальным языком польский. Царь сохранил также в неприкосновенности дарованное полякам Наполеоном право личного освобождения крестьян. На тот момент это была одна из самых либеральных конституций в Европе. Таким образом, поляки, верно служившие Наполеону, хотя и не добились независимости, получили в результате гораздо больше свобод, чем русские граждане, верно служившие своему царю. Чтобы не вызывать ненужных «вредных мыслей» у русских подданных, текст польской конституции в Петербурге предпочли в печати не публиковать.
Наконец, Швейцария была объявлена вечно нейтральным государством.
Послевоенный торг завершился, но к разработке таких правил игры, при которых Европе гарантировались бы мир и стабильность, Венский конгресс так и не приступил, хотя слов по этому поводу на форуме было сказано немало. Австрийский дипломат Генц справедливо написал:
Громкие фразы о «переустройстве социального порядка», «обновлении политической системы Европы», «прочном мире, основанном на справедливом распределении сил», и т. д. произносились с целью успокоить массы и придать торжественному собранию некоторый характер достоинства и величия; но истинной целью конгресса был дележ наследства побежденного между победителями.
Только один участник конгресса пытался вести разговор о прочном мире всерьез. Это император Александр I. Для него и для России наступало время «внешнеполитического альтруизма».
Царь начинает строить «что-то похожее на вечный мир»
Колумбом в области строительства общеевропейского дома русский царь, естественно, не был. Некое общее для Европы здание пытался возвести даже его главный соперник Наполеон. Правда, делал он это, естественно, на свой лад и своими силовыми методами. Корсиканец мечтал встать во главе объединенной Европы, созданной на конфедеративной основе, где бы вся жизнь, невзирая на национальные особенности и традиции различных регионов и народов, строилась исключительно на основе «наполеоновского кодекса».
Задумывались о едином будущем Европы и раньше. Специалисты упоминают в связи с этим, например, трактат Уильяма Пенна «Опыт о настоящем и будущем мире в Европе путем создания европейского Конгресса, Парламента или Палаты государств», изданный еще в 1693 году. Трактат рекомендовал, в частности, создать некий общий политический механизм, способный либо устранять мирным путем, либо предотвращать конфликты в Европе. Для этого предлагалось регулярно созывать высший европейский политический орган.
Позже, уже в начале XVIII века, приблизительно о том же писал французский аббат Сен-Пьер, предлагавший заключить международный договор для организации европейской конфедерации держав во главе с Постоянным советом. Затем идеи аббата развивал в своей работе «Суждение о вечном мире» (опубликована в 1782 году) такой авторитет, как Руссо. Можно найти и другие схожие примеры.
Но всем этим занимались теоретики. Из упомянутых выше имен к практикам можно отнести разве что известного квакера англичанина Пенна, основателя американского штата Пенсильвания. (В 1681 году в уплату долгов он получил от Карла II частную колонию.) Однако квакер все-таки не имел дела с большой европейской политикой, а лишь улаживал конфликты между переселенцами из Старого Света и американскими индейцами.
Таким образом, у Александра I есть определенный приоритет в решении общеевропейских дел. Он стал первым крупным европейским лидером, руководителем мощной державы, который попытался на практике и на основе справедливого учета интересов других партнеров заложить фундамент прочного общеевропейского дома. Мысль эта не оставляла царя уже давно. Еще в 1805 году, предлагая Англии союз, чтобы противостоять усилению Франции, Александр I планировал разработать некий трактат, «который ляжет в основание взаимных отношений европейских государств». «Здесь дело идет не об осуществлении мечты вечного мира, — объяснял он, — однако будет что-то похожее, если в этом трактате определятся ясные и точные начала народного права». После победы над Наполеоном и Венского конгресса, где удалось решить суетные проблемы передела собственности, пришло наконец, по мнению царя, время заняться самым важным: начать строить в Европе «что-то похожее на вечный мир».
Моральная заслуга русского царя заключалась в том, что Россия в этот момент менее других была заинтересована в создании общеевропейского механизма, гарантирующего континенту стабильность. Именно Россия реально контролировала ситуацию в Европе, обладая
наиболее боеспособной армией. Если бы в основе российской внешней политики действительно лежало стремление к безудержному экспансионизму (как утверждало фальшивое «Завещание» Петра Великого), если бы рассуждения Меттерниха и многих других европейских политиков о русской угрозе действительно хоть чего-то стоили, то в сложившейся идеальной для нее ситуации Россия свою «агрессивную сущность» обязательно проявила бы.
Австриец Генц в связи с этим приводит следующее любопытное рассуждение:
Император Александр, несмотря на ревность и энтузиазм, какие он всегда показывал к Великому союзу, из всех государей может всего легче обойтись без него... Его интерес в сохранении этой системы не похож на интерес Австрии, Пруссии, Англии, интерес необходимости или страха... Русский император... в челе [т. е. во главе] единственной в Европе армии, которою можно располагать. Ничто не устоит перед первым ударом этой армии. Никакие препятствия, останавливающие других государей, для него не существуют, как, например, конституционные формы...
Он чрезвычайно дорожит добрым о себе мнением, быть может, более, чем собственно так называемою славою. Названия умиротворителя, покровителя слабых... имеют для него более прелести, чем название завоевателя. Религиозное чувство, в котором нет никакого притворства, с некоторого времени сильно владеет его душою и подчиняет себе все другие чувства... Он смотрит на себя как на основателя европейской федерации и хотел бы, чтобы на него смотрели как на ее вождя. В продолжение двух лет он не написал... ни одной дипломатической бумаги, где бы эта система не была представлена славою века и спасением мира. Возможно ли, чтоб после того пред общественным мнением, которое он уважает и боится, пред религиею, которую он чтит, он бросился в предприятия несправедливые для разрушения дела, от которого он ждет себе бессмертия! Если многие думают, что все это с его стороны комедия, то я попрошу доказательств.
Генц прав, никаких реальных доказательств какой-то особой агрессивности со стороны России тогда не существовало, что подтвердили и все дальнейшие действия Александра I.
При анализе принципов, на основе которых русский царь пытался выстроить общеевропейский дом, у историков, как правило, возникает изрядная путаница. Это не удивительно, если вспомнить, что в голове, душе и характере Александра I уживались взгляды и идеи обычно несовместимые. Либерализм и крайний консерватизм. Рыцарское благородство, унаследованное от отца, и жесткий рационализм, унаследованный от бабушки. Религиозный мистицизм и салонное кокетство. Непоследовательность в достижении одной цели и выдающееся упорство в достижении другой.
Поэт Пушкин назвал как-то императора «властителем слабым и лукавым». И был отчасти, конечно, прав. Но тот же самый государь не раз проявлял мужество и политическую твердость, как это случилось, например, в 1812 году. А его порядочностью не раз восхищались даже враги. Имелась и еще одна черта, точно подмеченная другим русским поэтом Вяземским. «И презирал он человека, и человечество любил», — написал он об Александре. И это качество также следует учесть.
Вся эта нравственно и политически разнородная мозаика отразилась и на принципах, что формулировал император при разработке своих планов построения общеевропейского дома. На самом деле Александру I были вовсе не чужды идеи министра иностранных дел Англии Каслри, канцлера Меттерниха или Талейрана. Все эти политики много рассуждали о «политическом равновесии сил», а это предусматривало, между прочим, и необходимость жертвовать ради равновесия на европейской шахматной доске некоторыми пешками, то есть интересами малых государств. Однако русский царь иначе расставлял акценты, добавляя в этот прагматичный, но пресный политический рецепт такую острую специю, как мораль. Других «кулинаров» это очень раздражало, но Александр I продолжал настаивать на преимуществах именно русской кухни.
Идея привлечения нравственных принципов в политику, никогда не отличавшуюся большой чистоплотностью, также не является русским изобретением. Об этом писали еще немцы Кант, Фихте, Гердер, но в практической области и здесь русский царь как реально действующий политик оказался первым в Европе.
Поскольку мораль и Библия стали для Александра I к тому моменту единым целым, то вполне естественно, что политика в его толковании приобрела очевидный религиозный оттенок. Любопытно, что в этом начинании русского царя страстно поддержал еще во время работы Венского конгресса один из основоположников утопического социализма Сен-Симон.
В записке, направленной участникам конгресса, он с одобрением отзывался о позиции Александра I, точно так же как и он, уповая на то, что именно христианство, основанное на братстве людей, поможет Европе гармонично и без потрясений решать в будущем свои сложные проблемы и двигаться по пути прогресса.
И царь, и граф-социалист ошиблись. Причем крупно.
Священный союз — самый странный международный трактат XIX века
О Священном союзе, созданном по инициативе Александра I, в России и других европейских странах знают многие. Достаточно хорошо известна и окончательная оценка, выставленная этому союзу историей. Разговоры о его реакционной сущности традиционны. В этом были едины и капиталисты, и социалисты, поскольку союз, верно служа монархическим интересам, сделал, кажется, все возможное, чтобы затормозить в Европе революционный процесс. Вместе с тем сегодня редко встретишь человека (кроме, разумеется, историков), который бы читал этот своеобразный труд. Между тем без этого трудно понять, почему высоконравственные христианские постулаты, положенные в основу этого трактата, оказались бесполезными или даже вредными в европейской политике того времени.
Уже сама преамбула трактата свидетельствует о том, что документ имеет отношение больше к богословию, нежели к международному праву:
Во имя Пресвятой и Нераздельной Троицы, их величества... восчувствовав внутреннее убеждение в том, сколь необходимо предлежащий державам образ взаимных отношений подчинить высоким истинам, внушаемым законом Бога Спасителя, объявляют торжественно, что предмет настоящего акта есть открыть перед лицом вселенной их непоколеби' мую решимость... руководствоваться... заповедями сей святой веры, заповедями любви, правды и мира...
И так далее в том же роде. Все пункты международного документа, который по замыслу русского царя должен был обеспечить стабильность в Европе, выдержаны в той же стилистике и не предусматривают никаких правовых механизмов выполнения обязательств.
Основной первый пункт акта гласил, что договаривающиеся монархи России, Пруссии и Австрии
...соответственно словам священных писаний... пребудут соединены узами действительного и неразрывного братства, и, почитая себя как бы единоземцами, они во всяком случае и во всяком месте станут подавать друг другу пособие, подкрепление и помощь; в отношении же к подданным и войскам своим они, как отцы семейств, будут управлять ими в том же духе братства.
Уже здесь первоначальную идею царя при редактуре принципиально исказил Меттерних. В русской редакции речь шла о «подданных трех договаривающихся сторон», а вовсе не о трех монархах. Австрию не устроило, что подданные признавались в правовом отношении фактически равными своим государям. Александр I уступил нажиму, хотя документ стал таким образом «священным договором» не между европейскими народами, а между европейскими монархами. Библейские рассуждения о нравственности остались прежними, но суть документа коренным образом изменилась.
На естественный вопрос, почему либеральный царь уступил в этом принципиальном вопросе убежденному консерватору Меттерниху, однозначно ответить непросто. Версий может быть много. Возможно, потому, что царю-мистику самыми главными в тексте представлялись слова об ответственности политиков перед Господом. Может быть, поскольку реальной властью на тот момент в большинстве европейских стран обладали все-таки не народы, а монархи, следовательно, в плане практическом важны были подписи государей, а не народных представителей. Но скорее всего, просто потому, что царь, как уже отмечалось, вовсе не являлся последовательным либералом, а по этой причине консервативные и патерналистские взгляды, заложенные в документе (монархи — «отцы семейств»), ему не были чужды.
Все последующие пункты трактата развивали идеи, изложенные в первой статье. Объявлялось, например, что «преобладающим правилом» будет «почитать всем себя как бы членами единого народа христианского». Подобную декларацию, будто списанную Александром у своего отца Павла I, можно считать для Европы определенным шагом вперед. В тексте договора речь идет не о католичестве, лютеранстве или православии, а о христианстве в целом.
Считать Священный союз в полном смысле слова юридическим документом нельзя. Больше всего данный акт напоминает клятву над гробом Фридриха Великого, которую когда-то в порыве нахлынувших на них чувств дали русский царь и прусский король. Насколько «крепкой» оказалась эта клятва, известно.
То же самое касалось и положений данного трактата. Священный союз мог появиться на свет лишь благодаря умонастроениям Александра I. Что же касается реализации этого своеобразного документа, то это было возможно только при одном условии: если бы другие европейские политики (не мистики, как русский царь, а прагматики) нашли способ использовать союз в своих интересах.
Так и случилось. Меттерних поначалу, еще не сообразив, как можно использовать новый союз на практике, раздраженно называл его «простой моральной манифестацией», важной лишь для одного русского царя, но затем быстро скорректировал свою позицию. Хитроумный австрийский лис в своих мемуарах уверяет, что
Священный союз вовсе не был основан для того, чтобы ограничивать права народов и благоприятствовать абсолютизму и тирании в каком бы то ни было виде. Этот союз был единственно выражением мистических стремлений императора Александра и приложением к политике принципов христианства. Мысль о Священном союзе возникла из смеси либеральных идей, религиозных и политических.
В данном случае Меттерних нисколько не лукавит: «основан» союз был действительно не в целях реакции, но вот использован в конечном счете именно так — как инструмент подавления инакомыслящих. Это и объясняет несомненный успех столь необычного международного трактата. В желании сохранить статус-кво европейские монархи дружно объединились вокруг «морального манифестанта», русского императора. Тем более что Европа начинала постепенно бурлить, как вулкан. Лава прорывалась го в одном, то в другом месте. В1818 году происходят студенческие беспорядки в германских университетах. Затем революция в Испании. Чуть позже вспыхивают революции на Апеннинском полуострове. Священный союз, как пожарная команда, сбивает пламя.
В исторической литературе нередко можно найти рассуждения о том, что Меттерних обыграл русского царя, используя в австрийских интересах и во вред России его наивность. Это не так. Император не был в политике простаком. Если Меттерних, а до того Талейран добивались каких-либо уступок у царя, то лишь потому, что в тот момент его взгляды в значительной степени совпадали с их позицией.
К моменту создания Священного союза сам Александр по-прежнему высказывался за мягкие, либеральные реформы в той или иной европейской стране, но революционный пожар при этом был готов тушить самым решительным образом, не находя в подобной позиции никакого противоречия. Обосновывая такую политику, царь говорил:
Чем я был, тем остаюсь теперь и останусь навсегда. Я люблю конституционные учреждения и думаю, что каждый порядочный человек должен их любить; но можно ли вводить их без различия у всех народов? Не все народы в равной степени готовы к их принятию...
Историк Соловьев замечает по этому поводу:
Не Меттерних, но революционные движения, обхватывающие всю Европу, должны были производить сильное впечатление на императора Александра. Эти движения не могли заставить его переменить своего прежнего взгляда, но должны были, как обыкновенно бывает при столкновении известного взгляда с действительностью, повести к известным ограничениям, определениям, как например: либеральные учреждения не должны быть добываемы революционным путем...
Иначе говоря, Александр выступал за эволюционные, хотя и медленные преобразования и против революционных катаклизмов. В памяти царя прочно закрепились воспоминания об ужасах французской революции, закончившейся к тому же ненавистным бонапартизмом. Именно поэтому он последовательно защищает в этот период абсолютно любую легитимную монархию. Эту позицию царь отстаивает даже тогда, когда конкретные действия Священного союза определенно противоречат интересам России и православия. Когда вспыхивает восстание в Греции, царь на радость австрийцам, поддерживавшим Порту, заявляет:
Я покидаю дело Греции потому, что усмотрел в войне греков революционный признак времени. Что бы ни делали для того, чтобы стеснить Священный союз в его деятельности и заподозрить его цели, я от него не отступлюсь. У каждого есть право на самозащиту, и это право должны иметь также и монархи против тайных обществ; я должен защищать религию, мораль и справедливость.
Почему турецкий гнет в Греции «справедлив», «морален», а тем более отвечает интересам «единого народа христианского», о котором обязан был заботиться Священный союз, царь, к сожалению, не объяснил.
Делу объединения Европы союз, естественно, не помог, да и не мог помочь. В него, например, с самого начала не желала вступать Великобритания, что закономерно. Ла-Манш — больше чем география. Нередко в истории он позволял Британии выбирать: вмешиваться ей в общеевропейские дела или остаться в стороне. Как правило, Англия, внимательно наблюдая за ситуацией, вступала в серьезную игру лишь тогда, когда это было ей выгодно либо когда ее интересам что-то угрожало, как в случае с Наполеоном. Брать на себя излишнюю и обременительную в политическом и финансовом плане ответственность англичане не хотели. Это касалось и Священного союза.
Имелась, однако, и другая непреодолимая на тот момент преграда — неравномерность внутриполитического развития европейских стран. Лорду Каслри из Лондона направлялись следующие ориентировки:
Дайте понять русским, что у нас - парламент и публика, перед которыми мы ответственны, и что мы не можем вовлечься в виды политики, которая совершенно не соответствует духу нашего правительства.
Лондон точно указывал на самое главное препятствие для процесса объединения Европы: мало собирать конгрессы и принимать какие-то общие решения. Самодержец российский в лучшем случае ответствен перед собственной совестью, английское правительство ответственно перед парламентом и народом. Объединить несовместимое невозможно.
Столкновения между Англией и ее партнерами становились в связи с этим неизбежными. Обычно невозмутимый лорд Каслри однажды в разговоре с французских посланником, комментируя действия русского, австрийского и прусского монархов, заявил:
Неслыханное дело!.. Это — всемирная монархия, провозглашенная и осуществленная тремя державами, теми самыми, которые некогда сговорились разделить Польшу. Если английский король подпишет протокол, то этим самым подпишет свое отречение. Если государи неограниченные действуют таким образом, то правительства конституционные должны соединиться для противодействия.
Историк Соловьев пишет:
...Англия выставила вопрос чрезвычайной важности, именно — вопрос об отношении конституций различных держав к этому общему управлению делами Европы... Русский император требовал, чтобы все европейские государства вошли в великий союз и улаживали свои отношения на конгрессах; но спрашивалось: государи неограниченные и министры их, не отвечающие за свои решения ни перед кем, будут ли одинаково поставлены на конгрессах с государями конституционными и министрами их, имеющими известные отношения к своему народному представительству? Таким образом... различие в формах политической жизни у разных европейских народов становилось помехою для утверждения общего управления делами Европы.
Путь к общеевропейскому дому вел не через «моральные манифестации», к которым был склонен царь. Чтобы осуществить свою мечту и объединить Европу, Александру I на самом деле нужно было гораздо больше и эффективнее заниматься внутренними российскими делами. Много раздумывая по поводу реформ в России, он на них так и не решился, выступая за эволюционный путь развития, царь стал контрреволюционером, но так и не стал реформатором. Возвращаясь из Европы в Россию, он не мог заставить себя заняться главным делом, уделяя время лишь молитвам и текущим хлопотам. Беспрерывно колесил по стране, нигде не засиживаясь надолго.
Император и умер в 1825 году в далеком от Петербурга, продуваемом неуютными ноябрьскими ветрами, провинциальном Таганроге, не сумев даже толком объяснить, кого оставляет после себя «на хозяйстве». В результате страна умудрилась присягнуть сразу двум Павловичам — Константину и Николаю, а сами братья, будучи в этот момент в разных концах империи и не зная доподлинно, кто из них наследует престол, честно присягнули друг другу.
В течение долгих лет царствования Александра I Россия играла первую скрипку в европейском оркестре, решая судьбы различных стран, народов, монархов, да и всего континента. И все же к моменту смерти царя-мистика Российская империя, лишенная конституции и элементарных политических свобод, по многим параметрам являлась уже не лидером, а аутсайдером.
Если сначала общеевропейский дом не мог под одной крышей объединить всех, поскольку, оторвавшись от остальных, далеко вперед ушла Англия, то затем, после серьезных перемен во многих европейских странах, это стало невозможно, потому что от других начала быстро отставать крепостная Россия.
Страна нуждалась в реформе. Одной Библии здесь было уже мало.
Послесловие к первому тому
За время, прошедшее от Рюриков до кончины Александра I, Русь — Московия — Россия прошла в своих отношениях с Западом огромный путь. От полного взаимного непонимания и даже брезгливого отношения к чужакам, да еще и иноверцам, до признания за Россией права стать вождем антинаполеоновской коалиции. С подобной ролью русского государства безоговорочно согласились все крупнейшие на тот момент европейские державы, пытавшиеся остановить экспансионизм великого корсиканца. Причем даже те, кто к России по-прежнему относился без особой симпатии, скажем Великобритания и Австрия.
Это был трудный путь. Чтобы стать Россией, русским пришлось не только вести тяжелейшие войны за выход из изоляции, географически пробиваясь к Балтике, а политически — к главному центру цивилизации в Европе, но и побеждать самих себя, поскольку в душе русского человека постоянно боролись две силы — желание сохранить свою самобытность и понимание того, что без широкой кооперации с Западом страна обречена на отставание.
В принципе все российские монархи, хотя и в разной степени, с давних времен понимали необходимость сближения с западноевропейским миром. К этому подталкивал здравый смысл. Апофеозом этого стремления взять на Западе все, чего недоставало России, отставшей от остальных в силу своей долгой исторической оторванности, была петровская реформа. Сопротивление консерваторов-староверов — не столько по вере, сколько по менталитету - процесс приобщения к западному миру, разумеется, тормозил. Но в целом Россия все равно двигалась в направлении, заданном ей Петром Великим.
Тем не менее петровский импульс не мог быть вечным, и постепенно империя стала притормаживать в своем развитии. Александр I стал вождем общеевропейской антинаполеоновской коалиции главным образом за счет количественных, а не качественных факторов, определявших суть России. Ее мощь и авторитет во многом определяли размер и людские ресурсы, что было крайне важно в эпоху бесконечных войн.
Что же касается качественных характеристик, то европейцы позитивно выделяли, когда говорили о России, пожалуй, лишь одно — выдающееся мужество русского солдата. Это было, конечно, важно, но совершенно недостаточно, чтобы обеспечить России надежное будущее. Ко времени окончания эпохи Александра Павловича страна нуждалась в коренных реформах. Существовать дальше без конституции и сохраняя режим крепостного права Россия могла, но двигаясь уже только вспять.






