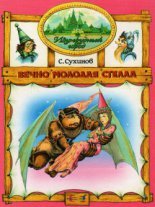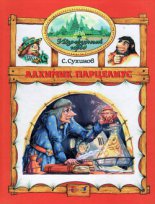Эффект василиска, или Диктатура совести Шалин Анатолий

1. Опять «заказное»
Позиция в придорожных кустах была выбрана вполне удачно. Крытов Димочка, больше известный в определенных кругах под кличкой Шкаф, внимательно оглядел пустынную дорогу и выезд из ворот особняка, бросил быстрый взгляд на мотоцикл, спрятанный в зелени кленов, – расстояние три метра, до ворот усадьбы не больше двадцати.
Через несколько минут появятся…
Шкаф усмехнулся, он не испытывал никаких волнений и сомнений. Заказ будет выполнен, не первый раз. Сумма за работу ожидалась вполне солидная, а уж потратить ее для своего удовольствия он сумеет.
В это мгновение железные створки ворот раздвинулись и на дорогу плавно выехал новенький, сверкающий свежими красками «мерс».
Ничего тачка, с некоторым сожалением отметил Шкаф и, опознав на заднем сиденье ожидаемую фигуру, помедлил ровно две секунды, дождался, когда машина, сделав поворот, выскочит на магистраль и окажется в четырех метрах от него, затем быстро и хладнокровно повел автоматом, дав две длинных очереди по сидевшим в автомобиле. Посыпались стекла, «Мерседес» потерял управление, его развернуло на полосе и понесло к чугунным ажурным решеткам ограды. Пассажир на заднем сиденье завалился на бок, и Шкаф для верности дал по нему еще одну длинную очередь.
И в это мгновенье в ленивых, равнодушных мозгах самого Шкафа его привычная индивидуальная вселенная вдруг взорвалась с дикой, нестерпимой болью, наполнив и самого Шкафа непривычным ужасом и мукой. В одно бесконечное мгновение перед ним промелькнули, проплыли перед глазами все, кого он когда-то избивал, убивал, мучил… И вся его короткая глупая жизнь прокрутилась с бешеной скоростью… И ужас сковал сердце, ледяной волной окатил грудь, что-то вспыхнуло перед глазами, и в тот же миг мозг не выдержал, мир померк навсегда, автомат выпал из рук, ставших в одно мгновение ватными и неживыми…
2. Следователь Трюшин
Трюшин, следователь прокуратуры, меланхолично осмотрелся по сторонам, на мгновение его взгляд задержался на двух убитых, лежащих в лужах крови в прошитом автоматными очередями «Мерседесе», затем он кивнул оперативникам, возившимся возле машины:
– Ну, что там, Семен? Похоже, опять шуму будет много.
– Это точно, Никифор Иванович, вот этот пухленький – генеральный директор фирмы «Кормаз» Степан Вывизов, известная в городе личность – владелец заводов, газет, пароходов, а этот парнишка – его личный шофер и телохранитель, если судить по водительскому удостоверению, его звали Григорием Клокиным. Кстати, оружие он применить не успел.
– Ясно, – вздохнул Трюшин. – Люди гибнут за металл! Что-то там доктор с третьим убитым долго возится, позови его, Васенька. – И в это мгновение до Трюшина наконец дошел смысл сказанного Семеном. – Стоп, Вася, я сам пойду! Это как понимать, Сеня, нападавшего уложил не охранник?!
Семен выпрямился и протянул Трюшину пистолет убитого:
– Он не успел даже снять с предохранителя, боюсь, тот покойничек с «калашниковым», что в тех кустиках, на совести кого-то другого. Я хочу сказать, что этот подвиг водителю приписать не удастся.
Трюшин, который порой и сам был не чужд черному юмору и уж за двадцать лет работы следователем прокуратуры на что только не насмотрелся и к чему только не успел привыкнуть, при этих словах своего помощника аж весь перекосился:
– Ладно, юморист, над смертью лучше не шути, а у этого парня почти наверняка детишки остались сиротами. – И Никифор усталой походкой направился к придорожным кустам, где щелкал вспышкой фотограф и что-то подозрительно долго судмедэксперт осматривал труп наемного убийцы.
Он пересек аллею и, подойдя к судмедэксперту, видимо позабыв о только что сделанных замечаниях помощнику, ехидно полюбопытствовал:
– Пора бы, Саша, и закругляться, что-то ты подозрительно долго с ним возишься, можно подумать, что это твой любимый труп.
– Никифор, ты почти угадал, впрочем, вскрытие покажет.
– Замечательно, это ваше личное, но хватит трепаться. Пока не набежали репортеры, скажи-ка быстро, откуда приблизительно стреляли в этого крокодила.
– О! Вот эта-то проблема тебя не должна волновать. Насколько я могу доверять своим глазам, а осматривал я это тело достаточно тщательно, в этого типа никто не стрелял.
– Что? Александр, ты…
– Трезв как стеклышко, впрочем, даже если бы я был с глубокого похмела, поверь, я свое дело знаю: никаких ранений у этого парня нет. Если хочешь знать, у меня создается впечатление, что этот здоровячок, порешив тех двоих, то ли раскаялся, то ли так сильно огорчился чем-то, что просто взял и умер.
Трюшин крякнул и в полном изнеможении опустился на траву рядом с мертвецом, по виду лет двадцати пяти, мускулистым и хорошо натренированным парнем с довольно невыразительной и, пожалуй, туповатой физиономией. Стройная гипотеза заказного убийства с последующим устранением исполнителя дала первую трещину. Внимательно осмотрев кожаное обмундирование и весь наличный арсенал покойника, Трюшин уже в который раз почувствовал себя старым и поглупевшим.
Пора менять профессию, подумал он уже в который раз за этот последний год.
В мире творилось черт знает что, все летело кувырком, похоже, все вокруг потихоньку начинали сходить с ума, кто от алчности, кто от дурости окружающих, кто от своего, так сказать, персонального идиотизма и алкоголизма.
Из этих троих мертвецов огорчение у Трюшина, пожалуй, вызывал водитель, которого убрали, как говорится, за компанию, этот просто зарабатывал себе на хлеб.
Хотя надо еще посмотреть, что у наших есть на него, возможно, и он не вполне безгрешен. Однако как же убрали наемника, не сам же он скончался от инфаркта? Да, кстати, на кой черт и кому понадобилось его устранять? В самом деле, это же не убийство там какого-нибудь президента Кеннеди или Кирова? К чему это двойное убийство? У нас эти заказные почти никогда не раскрываются, даже если и все заказчики известны.
– Значит, Сашенька, пока ясности нет?
– Боюсь ошибиться в своих заключениях, покопаться надо во внутренностях этого супермена, тогда и…
– Ага, вскрытие покажет. Вот, кстати, и труповозка подъехала. Вы тут все закончили, сказать, чтобы увозили?
Сашенька, которому было уже под шестьдесят и для всех других, кроме Трюшина, был Александром Петровичем Северовым, неторопливо сложил свои инструменты в чемоданчик и довольно бодро поднялся на ноги, кивнув Трюшину:
– Пусть забирают, фотографии Степан все сделал, гильзы твои парни собрали, кусты прочесали, свидетелей, конечно, нет, с теми двоими все более-менее ясно, а этот… – Александр Петрович грустно посмотрел на своего старого друга. – С этим, Никиша, придется повозиться, если только чутье меня не подводит. Ты, я полагаю, отлично знаешь, что просто так, от сердечной недостаточности, такие мальчики не умирают. С другой стороны, явных дырок в нем не заметно.
– А неявные?
– Что ты имеешь в виду? Отравленные ядом кураре иглы племени Тумбу-Юмбу? Это уже ненаучная фантастика, сам знаешь. Да и в нашей с тобой практике такого пока не попадалось.
– Не попадалось, – вздохнул Трюшин. – Времена-то, Саша, меняются, и меня уже нынче и ядом кураре не удивишь. И потом, почему обязательно Тумбу-Юмбу, а если какие-нибудь шпионские штучки?
Северов добродушно усмехнулся:
– А зачем? – И этим наивным вопросом, который только что и сам Трюшин мысленно задавал себе, окончательно испортил настроение своему другу.
– Ты прав, хотел бы я знать ответ на этот вопрос. Опять какое-то дурацкое дело возникает, шуму будет много, а толку… Ладно, пошли, сейчас сюда газетчики нагрянут, а мне их пока лицезреть совсем не хочется.
И они направились к машине.
Уже в автомобиле Трюшин расписал обязанности своей группы на остаток дня:
– Семен, тебе придется оповестить семью шофера. Что-либо там узнать, боюсь, не удастся, но осторожно порасспрашивай о последней неделе. Не было ли разговора о каких-либо угрозах в адрес хозяина, ну, мало ли. Наведи справки о биографии этого Клокина и попутно о его руководителе, наверняка у этого Вывизова было полно сомнительных дел и друзей.
– Ясно, Никифор Иванович, к вечеру доложу.
– К вечеру не стоит, завтра на летучке и доложишь, не думаю, что там будет что-то срочное. А тебе, Василий, предстоит заняться личностью автоматчика, кто, откуда, возможно, придется разослать его изображения и покопаться в столичной картотеке, компьютерный поиск и прочее. Может, повезет, скорее всего, у этого фрукта были судимости. А мне придется познакомиться с родными и близкими Вывизова и побеседовать по душам с нашим руководством. Да, Александр Петрович, когда будет заключение по автоматчику? Сегодня успеешь его выпотрошить?
– Никифор, ты у меня не один, и я в рабочее время не в преферанс играю. Если больше вызовов не будет и ничего экстренного не случится, постараюсь на завтрашнее ваше совещание результаты вскрытия представить, но, возможно, придется поработать дольше.
– Хм, я тебя не подгоняю, но постарайся не слишком затягивать свои изыскания. У меня, старина, предчувствие, что этими тремя трупами данное дело не ограничится, что-то мне сердце гложет.
Оперативники хмыкнули, переглянулись и одновременно пропели:
– Ой, не надо бы, ой, не надо… – Они давно уже заметили за своим начальником склонность к мрачным пророчествам и, как выразился однажды Васенька, к касандризму.
– Я не договорил, – буркнул Никифор. – У меня предчувствие, что все это пахнет еще одним нераскрытым делом, которое будет долго болтаться у нас на шее. Впрочем, вы и сами все отлично понимаете. А теперь поехали…
3. Руководство
Непосредственный начальник Трюшина – прокурор Васютин Владимир Петрович – уже оказался в курсе последних событий. Не успел Никифор появиться в управлении, как его потребовали с докладом.
В кабинете Васютина царил покой и полумрак. Сам Васютин, тепло пожав руку Никифора, быстро прошмыгнул за свой огромный стол, как-то робко вжался в уютное и мягкое кресло и с некоторой дрожью в голосе сказал:
– Рассказывай! Впрочем, общую картину мне уже доложили. Что творят! Что творят! Самого Вывизова ухлопали, надо ж! Шуму-то будет, шуму!
– Гм!.. Шум, конечно, будет, – пожал плечами Никифор. – Как без этого? Трое убитых! Сам Вывизов, его водитель Григорий Клокин и, очевидно, их непосредственный убийца, молодой мужик лет двадцати пяти – тридцати, его личность сейчас устанавливаем. Правда, с ним не все ясно. Северов утверждает, что явных ран на теле убийцы нет, и даже склоняется к мысли, что тот умер сам, так сказать, то ли от испуга, то ли от большого огорчения.
– И давно это у Александра Петровича такие теории стали появляться? Сколько ему до пенсии?
Интерес руководства к пенсионной тематике Никифору был вполне понятен. Ведь и самому Васютину до пенсии было не дольше, чем Северову, а вот за свое кресло и организм прокурору приходилось переживать намного больше, чем судмедэксперту: за последние пять лет над Никифором сменилось уже трое начальников. Одного выгнали за взятки и злоупотребление. Второго застрелили при попытке навести хотя бы минимальный порядок в делопроизводстве, а третий, проработав четыре месяца, немного поразмыслил и, после того как какие-то хулиганы взорвали на его дачном участке сортир (экспертиза установила, что в деле фигурировала противотанковая граната), быстро обзавелся гипертонией, коронарной недостаточностью и поспешил уйти в отставку по общему состоянию здоровья. Васютин же, заступив на должность, смутно надеялся додержаться до пенсии и поэтому старался вести себя тихо и по возможности мирно, никого из крупных мафиози старался не обижать. «Я еще хочу внуков понянчить! Упаси боже! Самим дороже! Полетят клочки по закоулочкам!» – были его излюбленные выражения.
– Дело не в пенсии, – философски заметил Никифор, – это его предварительный вывод. Полагаю, после вскрытия выводы Александра Петровича изменятся.
– Когда он выдаст результаты вскрытия?
– Обещал к завтрашнему утреннему совещанию…
– Так… А по Вывизову у вас что?
– Исследуем мотивы, Владимир Петрович. Сами понимаете, так просто таких людей, как Вывизов, не устраняют. Я собираюсь сегодня же поговорить с его домашними, снять показания с вдовы, допросить прислугу, еще кое-кому позадавать вопросы. Полагаю, выяснить, кто вероятные заказчики, мы сможем дня за три. Иное дело собрать доказательства их причастности… Исполнитель-то мертв! А проследить его связи с возможными заказчиками убийства едва ли удастся. По-моему, все организовано очень профессионально. У жертв не было ни одного шанса уцелеть.
– И у наемника тоже?
– Этого не скажу! – возразил Никифор. – Этот детина производил впечатление тупой животной силы. Устранять его, по моему мнению, не было никакой необходимости.
Васютин поежился и весь как-то даже обмяк в недрах своего могучего кожаного кресла:
– Откуда у вас этот вывод?
– Я уже говорил, – улыбнулся Трюшин. – Автоматчик производит впечатление профессионала. Он получил задание, аванс, задание выполнил и должен был спокойно исчезнуть из города, а возможно, и из страны на какой-то период. И все было бы тихо. Даже вычисли мы заказчиков, без исполнителя нам их не взять. Какой процент раскрываемости у таких дел, сами знаете.
– Да уж… – вздохнул Васютин. – Пожалуй, вы, голубчик, правы, этот третий труп скорее вам поможет в раскрытии преступления.
– Когда узнаем, кто это такой, конечно, появятся кое-какие зацепки, – с сомнением в голосе изрек Никифор, – но особых иллюзий на благополучное расследование я, признаться, не питаю. Теперь надо искать тех, кто устранил этого автоматчика, а свидетелей нет, и, боюсь, появятся они у нас не скоро. Народ стал очень осторожным. У меня вся надежда на допросы родственников и деловых партнеров Вывизова.
– С этим поаккуратнее, Никифор Иванович, поделикатнее с ними, сами понимаете, люди среди них очень влиятельные попадаются и такие нервные… А времена у нас, сами знаете, кошмарные времена. Мы, как саперы, не имеем права на ошибку, каждая оплошность может быть роковой…
Никифор вспомнил о взорванном сортире предыдущего начальника, и ему стало душевно жаль своего нынешнего руководителя.
– Понимаю, – кратко ответил он в тон руководству. – По лезвию бредем, по лезвию…
– Да-да! Рад, что вы меня понимаете, – заволновался Васютин. – У вас, кажется, Никифор Иванович, двое детей?
– Да, двое, но уже взрослые. Старший юридический заканчивает в этом году, младшая – на втором курсе кулинарного университета.
– Дети – наше будущее, – развел руками Васютин и с милой улыбкой выкатился из кресла. – Вы уж, Никифор Иванович, поделикатнее, не мне вас учить. Мы с вами старые волки, нам что главное – свое дело справлять и до пенсии дотянуть, верно?
– Не могу с вами не согласиться, – безмятежно ответствовал Никифор, крепко пожимая прокурорскую руку. – Надеюсь, расследование пройдет спокойно и все виновные понесут заслуженную кару.
– Да! Да! – встрепенулся Васютин. – Очень правильная и, я бы сказал, своевременная мысль. Ступайте, голубчик, и держите меня в курсе, если что, сразу и немедленно, всегда рад буду оказать содействие.
4. Вывизова Изольда Матвеевна
Прямо скажем, без всякого желания Трюшин отправился в особняк покойного Вывизова – беседа с вдовой убитого не сулила ничего приятного и едва ли могла пролить хоть какой-то слабый свет на обстоятельства убийства. Однако посетить родных убитого было необходимо. Уже у ворот особняка Трюшин почувствовал какую-то гнетущую болезненную атмосферу вокруг себя. И зябко поежился.
Трюшин внимательно осмотрел окрестности особнячка: широкие аллеи, небольшой парк с еще очень молодыми деревьями – яблони, березы, несколько пихточек, заросли сирени, розы…
Садовника держат, отметил он мимоходом, ишь как все ухожено.
Поднявшись на крыльцо и доложив о себе в переговорное устройство, Никифор с любопытством посмотрел на крепкие ажурные решетки окон первого этажа: окна были продолговатые, узкие, глубоко вдавленные в стены дома, с тройными стеклами. Высокие металлические двери, перед которыми Трюхину пришлось постоять минут пять, также производили впечатление солидности и крепости. Двери, что называется, бронированные, и Никифор мог, пожалуй, поклясться, что по прочности и толщине металл их немногим уступает танковой броне какого-нибудь «Т-34». И сами стены, если судить по оконным проемам, были не менее метра толщиной и изготовлены не из самого плохого кирпича. Да, замок Вывизовых производил впечатление солидной крепости, однако бывшему хозяину это не помогло.
Когда наконец Трюшину открыли дверь и молодой крепкий парень в спортивном костюме проводил его к вдове Вывизова, Никифор уже успел составить себе мнение и о доме, и о его бывшем владельце.
Назвав себя еще раз, извинившись за причиненное беспокойство, выразив свои соболезнования и уверив еще вполне молодую и достаточно привлекательную супругу покойного, что будет сделано все для поисков преступников и привлечения их к суду, Трюшин попросил Изольду Матвеевну Вывизову (именно так звали вдову убитого) уделить ему немного времени и ответить на ряд вопросов.
– Подумайте, только не торопитесь, в последние несколько дней не случилось ли чего необычного? Не получал ли Степан Сергеевич каких-либо угроз по телефону, возможно, были письма?
– Не знаю, Степан обычно не посвящал меня в свои дела, но если были какие-то угрозы, об этом он должен был мне сообщить. Видимо, ничего такого не было. Впрочем, вам стоит опросить сотрудников фирмы, может, кто-то из них в курсе.
– Это сделаем. Немножко изменю вопрос. Вы не припомните ничего необычного, что произошло в доме с вами, вашими домашними, близкими? Может, дети что-то заметили? Кстати, они в доме? Я знаю, что старшему сыну уже пятнадцать лет, а девочке около двенадцати. В этом возрасте дети обычно очень любопытны и наблюдательны.
– Детей я отправила к бабушке, но, как только они вернутся, вы сможете задать им свои вопросы, хотя не думаю, что они что-то могли заметить. Я в последние дни не очень хорошо себя чувствовала – голова побаливала, общая какая-то угнетенность, даже, наверное, страх. Что вы на меня так смотрите?
– Я слушаю, продолжайте.
– Только не считайте меня чокнутой дурой, но я в эти два-три дня предчувствовала, что должно случиться что-то страшное. Я себе места не находила последнюю неделю, а в чем дело, не понимаю.
– Да, так бывает. Наше подсознание иногда становится очень чувствительным к каким-то внешним проявлениям природы… – пробормотал Никифор. – И все же, Изольда Матвеевна, вы не заметили ничего такого, что создало у вас такое пасмурное настроение, все-таки что-то же должно было быть?
– Нет, вроде бы ничего необычного, все как всегда – дела, заботы по дому. Степан, правда, вечерами последние две недели был немного раздражен, но говорил, что с делами фирмы это не связано, просто, мол, переутомился.
– Переутомился… – Трюшин вздохнул. – А другие как? Я о ваших домашних, вы же не одни обитаете в этом дворце. Мне бы от вас получить список всех обитателей, возможно, кто-нибудь из прислуги что-то мог знать о делах хозяина или угрозах в его адрес.
– Список я вам дам, поговорите с ребятами, но, если бы они знали о каких-то угрозах, мне бы это тоже было известно.
– Спасибо, а скажите, были ли у вашего мужа серьезные трения с какими-нибудь конкурентами, какие-то финансовые обязательства с их стороны или с его? Словом, мог он что-то крупное не поделить с кем-то, кто мог подослать убийцу?
На какое-то мгновение Трюшину показалось, что Изольда Вывизова готова дать ему утвердительный ответ. В ее глазах мелькнула какая-то растерянность, затем она немного прикусила губу и покачала головой:
– Боюсь, не смогу ответить. Конкуренты, конечно, есть, и врагов у Степы хватало, но кто мог подготовить убийство, я не знаю.
Трюшин улыбнулся:
– Я не прошу у вас конкретности, просто список лиц, с которыми были конфликты в последние год-два, не больше. Кто из них виновен, установит следствие.
– Я в самом деле мало знаю. Степан ругался по телефону со многими, я и фамилий многих из них не слышала.
– А что вы слышали?
– Имена, упреки… Обычные деловые разговоры…
«Хороши разговоры, после которых происходит убийство двух человек», – подумал Никифор и сказал:
– Хотя бы имена назовите тех, с кем велись темпераментные беседы по телефону.
Изольда Матвеевна устало опустила глаза:
– Несколько раз муж ругался с каким-то Петькой, что-то требовал от какого-то Сергея, грозил какому-то Роману, были и другие имена, но с этими в последний месяц он общался раза два-три. Других пока не припомню… Знаете, мне что-то совсем плохо становится, давайте отложим наш разговор на денек, пока я не приду в себя. А вы опросите пока всех остальных.
– Что ж, спасибо и на этом, – сказал Трюшин, поднимаясь из кресла. – Не возражаете, если я позвоню вам завтра и мы договоримся о продолжении беседы?
– Да, если я только буду в состоянии вести этот разговор.
– Тогда позвольте попрощаться.
– Вы же хотели поговорить с прислугой?
– Позднее. Всем им придется заглянуть ко мне в управление, а сегодня, думаю, они мне ничего путного все равно не скажут.
Трюшин направился к двери, но уже на пороге обернулся:
– Изольда Матвеевна, не подскажете ли, кто из сотрудников фирмы вашего мужа наиболее глубоко посвящен во все дела хозяина?
– Соколов Александр, он заместитель, потом еще есть такой Бычков Василий, директор по снабжению, другие должны знать меньше.
– Спасибо. А кстати, вы сами хорошо разбираетесь в делах мужа?
– Когда-то я была его секретарем.
– Что ж, до встречи. – Никифор Трюшин, стараясь проявить всю свою обходительность, поклонился и поспешил покинуть дом Вывизовых.
По дороге на фирму «Кормаз» он с грустью подвел итоги прошедшей беседы и убедился, что от Изольды Матвеевны он не услышал и десятой доли того, что она, возможно, знает о смерти мужа.
Мозги пудрить эта вдовушка умеет… Это она-то, бывшая секретарша своего убитого мужа, не в курсе дел фирмы, он не посвящал ее в дела? Ну-ну… Темнит, и врагов Вывизова она знает, но почему-то решила пока не сообщать о них следствию. Да, есть над чем подумать. Они прожили с Вывизовым шестнадцать или семнадцать лет, конечно, у того были за этот период и другие дамы, но, кажется, Изольда всерьез скорбит о муже. Могла ли она сама быть причастна к его гибели? Какая-нибудь ревность, женский идиотизм, мало ли? Может, и сама… Конечно, любой идиот в нашем управлении эту версию проверит первой. Но мне все же думается, что это конкуренты… Ладно, посмотрим, что на фирме. А вот и контора Вывизова. Зарубежная отделка, двери и таблички над входом сияют… Посмотрим.
5. Фирма «Кормаз»
В самой фирме, а именно в комнатах, где находились сотрудники, сияния и лоска было поменьше, чем снаружи. Интерьеры, впрочем, были на уровне требований времени, однако сегодня здесь царили уныние и траур. Юные девицы и самоуверенного вида молодые парни в модных фиолетовых костюмчиках о чем-то шептались по углам, видимо, обсуждали гибель хозяина и возможные последствия для себя этой смерти.
Трюхин предъявил свое удостоверение и бодренько направился к двери с надписью: «Соколов Александр Степанович, заместитель генерального директора».
– Начальство ваше на месте? – спросил он, на секунду замедлив свое движение к дверям кабинета, молодую раскрашенную девицу, поднявшуюся из-за столика рядом с кабинетом, по наметанному взгляду Трюхина, несомненно секретаршу или делопроизводителя.
– А вы по какому делу?
– Я следователь прокуратуры, по делу гибели вашего директора. Доложите обо мне, – Никифор ткнул пальцем в табличку на двери, – вашему руководству.
– Одну секунду, – встрепенулась девица и поспешно исчезла за дверью кабинета.
Через мгновение дверь распахнулась и Никифора пригласили.
После взаимных представлений и вздохов Соколова о родном и любимом хозяине Никифор извлек блокнот и приступил к своим вопросам.
Вопросов было много, и изможденный Соколов только горестно покачивал головушкой и бормотал:
– Это что ж теперь будет?
– Будут похороны, – в тон ему отвечал Никифор. – Будут проверки всех ваших деловых операций за последние два или три года, будут допросы всех сотрудников, сами понимаете, всего этого нам с вами не избежать. Вспомните лучше, не было ли каких инцидентов за последнее время?
– Нет, не помню.
– А угроз в адрес фирмы от кого-либо не было?
– Мне об этом ничего не известно, поверьте, если был бы какой конфликт с конкурентами, я бы от Степана первым узнал.
– Хорошо, а без вашего ведома Вывизов мог вести какие-нибудь крупные операции?
– Конечно, мог. Он же передо мной не обязан был отчитываться.
– А кому из ваших людей что-то могло быть известно о таких операциях или конфликтах?
– Не знаю. Каждый мог что-то услышать случайно и с той же вероятностью мог и не знать о делах шефа.
– К кому из ваших вы бы рекомендовали обратиться в первую очередь?
– Спросите Бычкова, или Светку, секретаршу, или того же главбуха Иванова.
– Спросим. А у вас, Александр Степанович, значит, никаких соображений о том, кому понадобилось убивать вашего руководителя, нет?
– Ума не приложу, – пожал плечами Соколов. – Такое чудовищное преступление…
– Что ж, поверим, так и запишем: не знаете. А конкурирующие фирмы в вашей деловой области, надеюсь, не успели еще забыть? Перечислите-ка мне всех ваших ближайших конкурентов.
– Знаете, их очень много, – пожал плечами Соколов, – фирма у нас многопрофильная, как и большинство частных фирм в наше время. И области бизнеса у нас самые разные. Может, вам проще список составить?
– Список – это замечательно. Обязательно составьте, но, помимо этого, я хочу от вас получить устные соображения о том, кому ваш хозяин мог перебежать дорогу за прошедшие несколько месяцев. Или еще проще: кто из известных вам лиц больше всего может выиграть от этой смерти?
– Я вас понял, но мне надо подумать…
– А сразу не можете вспомнить никого? Что ж, уточню вопрос: вы вот сами выиграли или проиграли с гибелью шефа? В чьи руки теперь попадет фирма, капитал?
Вопрос Соколову не понравился, и он сразу насупился:
– Фирма и капиталы, естественно, попадут к наследникам – семейству Вывизова. Сам я, боюсь, от гибели Степана потеряю очень много, впрочем, и другие сотрудники, скорее всего, потеряют.
– Почему? Поясните!
– На Вывизове очень многое держалось. Связи, умение найти кредиты, идеи… Что там говорить, вы же знаете, от талантливого руководителя зависит если не сто процентов, то девяносто процентов успеха. Кстати, и наследники, я имею в виду жену и детей Вывизова, тоже больше теряют с гибелью Степана.
– Тогда вернемся к вопросу о том, кому же было на руку устранение Вывизова.
– Список фирм-конкурентов мы вам подготовим, но не думаю, что это верный след.
– Почему вы так думаете?
– Степан был очень осторожен в своих начинаниях, на рожон обычно не лез. Дела вел четко, опасность чуял за версту. Если бы были угрозы со стороны конкурентов, он бы сообщил нам сразу и постарался усилить меры безопасности.
– Хм. И на старуху, как известно, бывает проруха. Мог Вывизов столкнуться с кем-то, чью опасность он недооценил?
– Раз он убит, значит, так и было.
– Резонно. Выходит, вы согласны, что у вашего хозяина были все же какие-то опасные дела?
– Мне о них неизвестно, но, очевидно, были.
– Кто теперь станет руководить фирмой?
– Наверное, Изольда Матвеевна.
– Спасибо. Пригласите сюда Бычкова. Вы не против, если я побеседую с ним в вашем кабинете? Я бы воспользовался, конечно, кабинетом Вывизова, но пока там все опечатано, мои ребята еще должны провести кое-какие исследования…
– Пожалуйста.
– А вы пока подготовьте список конкурентов.
– Ладно. – Соколов вздохнул и, горестно покачивая головой, направился к выходу.
Однако в этот день Никифору явно не везло. Ни часовая беседа с Бычковым, ни допрос секретарши и главбуха не дали ничего нового… Похоже, что все сотрудники фирмы «Кормаз» хорошо отрепетировали свою линию поведения в ожидании допросов следователя и ничего не знали, ничего не видели и ничего не слышали. Смерть хозяина оказалась для них громом среди ясного неба, выбила их из колеи, они ума не приложат, кому понадобилось убивать такого замечательного руководителя, как Степан Вывизов, и скорбят изо всех сил.
Покидая фирму уже в седьмом часу вечера, Никифор отчетливо понимал, что в своих изысканиях не продвинулся ни на шаг, чувствовал себя смертельно уставшим и изрядно отупевшим. Утешала, правда, одна ехидная мыслишка, что и его юные помощники за этот день не накопали больше своего шефа, а это хотя и огорчало Трюхина, как руководителя группы, но немножко грело его самолюбие – все же не он один потратил день почти впустую. Впрочем, Трюхин прекрасно понимал, что впереди у него по делу Вывизова еще недели и горы рутинной, часто почти бесполезной работы.
Ладно, подождем заключения экспертов. Посмотрим, что там завтра будет…
6. Результаты вскрытия
На утреннем совещании на прямой вопрос Никифора «Чем нас порадует медицина?» Северов долго откашливался, зачем-то полез в свои записи, хотя нужды в этом особой не ощущалось, и наконец доложил:
– Не стану вас, ребята, утомлять полным чтением акта экспертизы. Скажу лишь, что смерть интересующего вас лица наступила в результате обширного кровоизлияния в мозг.
– И это все? – поинтересовался Никифор. – И никаких иных причин? Тогда отчего такое кровоизлияние в мозг могло произойти? И кстати, как обманчива внешность, по виду никогда бы не подумал, что у того типа были мозги. Сашенька, нельзя ли все же поподробнее?
– Можно, – согласился Северов. – Такое кровоизлияние могло быть вызвано резким перепадом давления в организме.
– А этот резкий перепад чем мог быть вызван? – продолжал допытываться Никифор.
– Скачок давления вызван какой-то внешней причиной, какой – не могу сказать. Это могло быть сильнейшее потрясение, дикий страх, испуг, еще что-то, в одно мгновение сразившее этого парня.
– Хм… Не густо… А что дала проверка на присутствие различных токсичных веществ?
– Не обнаружено. Никаких ядов, следы алкоголя двухдневной давности – и все.
– Выходит, умер от испуга?
– Это одна из версий. Конкретную причину, боюсь, не смогу вам сообщить. Только не смейся, Никифор, но это или какое-то новое, неизвестное оружие, или какая-то чертовщина, мистика.
– Ты же знаешь, Сашенька, что мистику в актах экспертизы наше руководство не поощряет.
– Знаю, но пока ничего другого у меня нет.
– А будет?
– Когда вы мне притащите десяток трупов со следами такой смерти, возможно, сумею обнаружить еще какие-то занимательные факты, а пока все. – И Северов виновато улыбнулся.
– Спасибо и на этом. Сеня, у тебя как дела?
– Побывал у Клокиных, поговорил с его семейными, навел о нем справки – парнишка был чист, отслужил в армии, был на хорошем счету, обычный трудяга. Двое детей остались сиротами. Домашние Клокина ни о каких угрозах в адрес хозяина не слышали, хотя вдова говорит, что Клокин как-то обронил, что последнее время его хозяин чего-то стал осторожничать.
– И это все?
– Все.
– А у тебя, Василий, есть что-нибудь интересное?
– Да как сказать, Никифор Иванович. Я облазил все ближайшие гостиницы и нашел ту, в которой останавливался автоматчик. Он там прописался под фамилией Петров, при обыске тела автоматчика был найден ключ от камеры хранения в аэровокзале и, как вы помните, фальшивый паспорт на имя Петрова Сергея Николаевича, и права на имя этого же Петрова были. Позднее в ячейке камеры хранения мы нашли чемодан с вещичками и паспортом на имя Крытова Дмитрия Павловича. Мои запросы в нашу картотеку и компьютерный поиск, сравнение отпечатков пальцев и физиономии показывают, что наш неизвестный покойник и есть этот Крытов. Кстати, он действительно был судим четыре года назад за кражу, но освободился еще в позапрошлом году по амнистии. И с тех пор в поле зрения полиции не попадал.
– А теперь попал, но поздновато, – вздохнул Никифор. – Что ж, хоть ты, Василий, чем-то порадовал. Продолжай раскапывать связи Крытова. Ищи его дружков, с кем он крутился на зоне, его родичей. Собери по нему все, что можно. Думаю, это было не первое его убийство. Да, тебе, Семен, надо вместе с ревизорами порыться на фирме Вывизова, понаблюдай там, приглядись к помощникам покойного мультимиллионера, что-то они темнят. А кстати, Васенька, тебе такие имена, как Петр, Сергей, Роман, ни о чем не говорят?
– Имена как имена, – пожал плечами Василий. – Разве что в этом сочетании что-то знакомое…
– Вот именно. Первухинская группировка. Если не ошибаюсь, такие имена носит кое-кто из тамошних авторитетов. Кстати, что там за ними?
– Наркотики, рэкет, грабежи – словом, ничего необычного, несколько убийств, за которые мы так и не смогли никого из этих мальчиков ухватить.
– Хм… Могли эти хмыри как-то пересечься с делами Вывизова?
– Почему бы и нет, – хмыкнул Василий. – Парни из отдела по организованной говорят, где большие бабки ходят, там и наши клиенты прогуливаются. А Вывизов последнее время резко поднялся, и, видимо, не только на торговле дозволенными товарами.
– Надо бы поопределеннее, Вася, пока у тебя больше домыслы, а нужны факты. Сам же знаешь, информации у нас много, а вот юридически ее оформить – это целая проблема, да и руководство мечтает дожить до пенсии… Ты вот что, подбери мне по этим Петру, Сергею и Роману кратенькие справочки, фотографии, вдруг, чем черт не шутит, это нужный след, хотя…
Никифор не стал договаривать то, что собравшимся вполне было ясно и так: даже если след стопроцентно верный, ухватить за задницу никого из крупных рыбин, скорее всего, не удастся. Копать глубоко осторожное руководство им просто не позволит, в лучшем случае полетят шестерки, а в худшем поднимется такой вой и угрозы, что и по шее можно будет схлопотать и за абсолютно честную и добротную работу. Трюхин на такое положение вещей смотрел философски, всех понимал – и преступников, и руководство, и своих ребят, которым как-то кормиться надо, а потому без особой надобности на рожон не лез, стараясь соблюдать правила игры и по возможности приносить родному городу хоть какую-то посильную пользу.
В это мгновение затрезвонил телефон. Никифор снял трубку, ожидая услышать голос Васютина: обычно руководство во время этих утренних оперативных совещаний и выясняло все интимные подробности расследуемых дел. Однако на этот раз голос прокурора просто срывался от волнения:
– Никифор Иванович, немедленно все бросайте и со всей группой на Тараканинскую улицу в особняк Лапина.
– Слушаюсь, Владимир Петрович. А что там случилось?
– Только что звонили оттуда. Море крови, горы трупов. Немедленно разберитесь. Извините, что отрываю вас от дела Вывизова, но вы у нас самый опытный, молодым я просто боюсь поручать это. Вы уж, голубчик, не подведите, поосторожнее там…