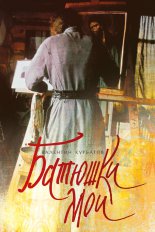Исторические происшествия в Москве 1812 года во время присутствия в сем городе неприятеля Розенштраух Иоганн-Амвросий
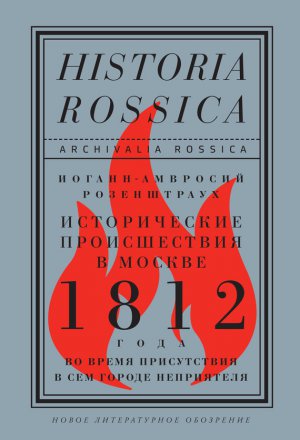
ARCHIVALIA ROSSICA
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
ГЕРМАНСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА В МОСКВЕ
И ИЗДАТЕЛЬСТВА
"НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ"
Deutsches
Historisches
Institut
Moscau
Александр Мартин
Жизнь и странствия И.-А. Розенштрауха
Слова признательности
Исследования, связанные с этим проектом, щедро спонсировались Американским советом по международному обучению (ACTR/ACCELS), Национальным советом по евразийским и восточноевропейским исследованиям (NCEEER) и Институтом европейских исследований имени Нановика при Нотр-Дамском университете. Значительную пользу моей работе принесли обсуждения с коллегами на конференциях в Германском историческом институте в Москве, Джорджтаунском, Мичиганском, Торонтском и Индианском университетах, университетах Северной Каролины, Пенсильвании и Нотр-Дам. Я признателен архивистам, оказавшим мне помощь в Москве, особенно Андрею Дмитриевичу Яновскому и Федору Александровичу Петрову из ОПИ ГИМ, а также их коллегам из Санкт-Петербурга, Вроцлава, Парижа и разных городов Германии и Нидерландов. Мартин Байсвенгер, Джонатан Ноулс, Стивен Морган и мой отец, Дональд Уоррен Мартин, помогали мне искать и транскрибировать документы, а моя супруга Лори Мартин тщательно вычитывала рукопись этой книги. Настоящая публикация осуществлена при поддержке и поощрении Дениса Сдвижкова в рамках серии, издаваемой совместно Германским историческим институтом и Издательским домом НЛО. Последней по счету, но, конечно, не по важности я хотел бы упомянуть искусную и кропотливую переводческую работу Елены Леменёвой и Юрия Корякова. Благодарю всех здесь упомянутых.
Введение
Весной 2002 года в Отделе письменных источников Государственного исторического музея я наткнулся на воспоминания немецкого купца об оккупации Москвы Наполеоном[1]. То с грустью, то с юмором мемуарист описывал озлобленные толпы русских, мародерство наполеоновских солдат и ужасы пожара. Автор не выказывал предпочтения ни той ни другой стороне конфликта: в отличие от множества русских и французских мемуаров о 1812 годе это повествование не о патриотизме или воинском героизме, а о выживании вопреки безумию войны. Анонимная рукопись датируется 1835 годом и, за исключением одной статьи 1896 года[2], по всей видимости, пока не привлекала внимания исследователей. Благодаря удачному стечению обстоятельств в 2004 году мне удалось установить личность автора. После пожара 1812 года москвичи подали более 18 000 прошений о вспомоществовании, по сей день сохранившихся в Центральном историческом архиве Мoсквы. Среди них мне и посчастливилось обнаружить документ, написанный тем же почерком, что и анонимный мемуар. Основные детали повествования тоже совпали. Под прошением стояла фамилия: Розенштраух[3].
Историкам частенько доводится обнаружить дотоле неведомого, но любопытного исторического персонажа, о котором, однако же, потом совершенно невозможно найти хоть какую-нибудь дополнительную информацию. Иоганн-Амвросий Розенштраух (1768–1835) решительно выбивается из этой категории. Дошедшие до нас источники информации о нем рисуют удивительно пеструю и красочную биографию. Родом Розенштраух был из Пруссии. В юности он был фельдшером и актером и немало побродил по Германии. В 1804 году он поступил на службу в санкт-петербургский Немецкий театр. В 1809 году, оставив театр, он переключился на торговлю и в 1811 году переехал в Москву, где стал свидетелем наполеоновского нашествия, а позже разбогател. Розенштраух был видным франкмасоном и водил знакомство с Александром I. Бывший католик, с годами он стал склоняться к протестантской религиозности в ее более эмоциональной, пиетистской форме. В 1820 году Розенштраух покинул Москву и отправился служить лютеранским пастором у немецких колонистов в Новороссии. Там он и провел последние годы жизни – до 1835 года. Магазин Иоганна-Амвросия на Кузнецком мосту достался его сыну Вильгельму (1792–1870) – выдающемуся купцу, общественному деятелю и консулу Пруссии в Москве. Магазин этот был так хорошо известен широкой публике, что не раз упоминался в русской литературе, например в романе Тургенева «Накануне»[4].
Как выясняется, источников, проливающих свет на подробности биографии Розенштрауха, более чем достаточно. Помимо мемуаров о 1812 годе, он оставил воспоминания о своей пастырской работе с умирающими, а также духовные наставления в форме писем. Некоторые из этих посланий были опубликованы, а остальные, вкупе со множеством его масонских документов и корреспонденцией его сына и внуков, сохранились в фондах Научноисследовательского отдела рукописей Российской государственной библиотеки. Люди, сталкивавшиеся с Розенштраухом, тоже записывали свои впечатления о нем; так же поступали и читатели его произведений. Наконец, время от времени имя Розенштрауха фигурировало на страницах газет и журналов, а также в бюрократических, церковных и масонских документах, ныне хранящихся в архивах Москвы, Санкт-Петербурга и различных городов Германии и Западной Европы.
Таким образом, установить ход жизни Розенштрауха можно. Вопрос заключается в том, зачем. Ради чего нам предпринимать усилия по уточнению подробностей его биографии? В первую очередь это нужно, чтобы воссоздать контекст его воспоминаний о 1812 годе. Вырванный из контекста мемуар похож на историю, услышанную с середины. Само по себе повествование вполне осмысленно, и следить за его ходом не составляет особого труда. Однако, поскольку мы не знаем, кто рассказывает эту историю, кому и зачем, мы не понимаем, как чувства и опыт автора влияют на его видение исторических событий.
Судьба Розенштрауха поучительна и сама по себе. Она придает человеческое измерение нашим представлениям о роли немцев в русской истории. Розенштраух и его потомки сталкивались с целым рядом немецких сообществ в России, в том числе со столичными интеллигенцией, купечеством и мелкой буржуазией, с актерской, масонской и пасторской субкультурами, а также с крестьянами и сектантами, переселившимися в Новороссию. Положение немцев в России менялось по мере того, как ассимилировались их семьи и развивалось отношение к ним исконного населения, и, хотя у немецких иммигрантов были все возможности продвинуться по социальной лестнице, им тем не менее приходилось сталкиваться и с националистической враждой, и с социальной незащищенностью. История Розенштрауха и его семьи – наглядный пример этих тенденций.
В более широком плане история Розенштрауха показательна тем, что она демонстрирует мобильность и изменчивость общества имперской России. Мы часто представляем себе XVIII и XIX столетия как время, когда подавляющее большинство населения занимало раз и навсегда отведенное им место в обществе. Мобильность тем не менее была столь же характерным признаком этой эпохи. Люди этого времени постоянно пересекали границы: пространственные, национальные, религиозные, сословные и профессиональные. В особенности Российская империя была основана на мобильности, которая не столько уменьшала разнообразие социальных, национальных и прочих типов идентификации индивидуума в обществе, сколько меняла характер этих типов, заставляла их постоянно перестраиваться. Колонисты заселяли степи, крестьнские отходники устремлялись в города, а иммигранты поступали на государственную службу. Мобильность проявлялась и в социальной и культурной сферах: мелкие чиновники выслуживали дворянство, сыновья священников приобретали светские профессии, иностранцы привыкали жить по-русски, а школы обучали юных россиян жить и думать по-европейски.
Розенштраух – конкретный пример того, как мобильность помогала человеку изменяться самому и менять свое положение. Этот иностранец родился и вырос за границей, а потом иммигрировал в Россию. В России он жил в столицах, затем переселился на Украину. Он был фельдшером и актером, после чего переквалифицировался в купца, а затем в пастора. Из католичества он обратился в протестантизм. Под воздействием буржуазной культуры изменилось даже его представление о собственной маскулинности, некогда основанное на придворных нормах. Он был неассимилированным представителем иностранной диаспоры, однако потомки его совершенно обрусели. История жизни Розенштрауха, таким образом, наглядно демонстрирует возможности – и ограничения – мобильности в имперской России.
Эта биография также показывает, как сын своего времени осмыслял пережитое. Когда человек пересекает ту или иную границу, его спрашивают: «Кто ты?» – да и сам он задается вопросом: «Как я сюда попал?» В ответ люди обычно рассказывают некую историю, и такие истории способны очень многое поведать нам о воображении как рассказчика, так и породившей его культуры. Розенштраух заслуживает внимания именно потому, что частый переход границ непрерывно вынуждал его пересматривать собственное самоопределение.
Как многие другие, Розенштраух придирчиво отбирал, о чем ему рассказывать. В разное время и в зависимости от того, кому предназначался его рассказ, он вспоминал об одних событиях, но ни слова не говорил или даже перевирал другие. Поэтому для воссоздания его биографии недостаточно просто собрать его воспоминания: следует еще внимательно прислушаться к тому, о чем он умолчал и что исказил. Кроме того, из одних только баек Розенштрауха невозможно выстроить связное повествование о его жизненном пути. И впрямь, один из его друзей жаловался, что «он всегда рассказывал только отдельные случаи из своей жизни, но мне неизвестно, как эти разрозненные эпизоды были связаны между собой»[5]. Возможно, изучив, как излагал историю своей жизни Розенштраух, мы поймем, какими возможностями для описания и осмысления своего опыта располагали другие люди той же эпохи.
Для организации событий собственного прошлого в связное повествование люди обычно прибегают к литературным формам, бытующим в их культурной среде. Как франкмасон и пастор Розенштраух привык пользоваться личным опытом как отправной точкой для рассуждений о вопросах морали, чаще всего в краткой литературной форме письма, речи или проповеди. Также, поскольку и пиетисты, и франкмасоны придают большое значение саморефлексии, Розенштраух вел дневник (ныне, по всей видимости, утраченный), куда наверняка заносил каждодневный опыт и размышления о морали. Влияние этих литературных жанров и актерского прошлого автора весьма очевидно в его мемуарах: юмор, интрига и точность визуальных образов вполне театральны, а четкие моральные выводы сформулированы в манере, напоминающей «примеры» (exempla) – моральные притчи, очень популярные среди пиетистов. Таким образом, краткие, яркие, вырванные из контекста историйки, из каждой из которых можно было вывести моральный урок, были литературным жанром, знакомым Розенштрауху и как актеру, и как пиетисту, и как франкмасону.
Впрочем, Розенштраух порвал с этими традициями, отказавшись излагать свою биографию как поступательно развивающийся сюжет. Автобиографии немецких актеров иногда принимали форму «романа воспитания» (Bildungsroman), описывавшего, как автор, юность которого была преисполнена приключений и трудностей, в конце концов обретал свое место в обществе[6]. Многие пиетисты переживали «пробуждение», переменившее всю их жизнь и преобразившее их взаимоотношения с Богом, а масоны мыслили свою жизнь как постепенное восхождение к высшим уровням мистического знания. Розенштраух тоже мог бы рассказывать о своей жизни как о процессе взросления артиста, или как о пиетистском обращении к Богу, или как о масонском восхождении к высотам мудрости и добродетели. Его решение не следовать расхожим образцам, возможно, объясняется страхом: признание в неудачном браке, актерской карьере, переходах из одной конфессии в другую и прочих сомнительных событиях и поступках вполне могло подорвать столь тяжким трудом заработанное уважение общества.
Цель всего последующего состоит прежде всего в том, чтобы снабдить читателя контекстом и таким образом помочь ему понять воспоминания Розенштрауха о 1812 годе. Кроме того, я надеюсь показать, что Розенштраух и его наследники представляют исторический интерес и сами по себе. Помимо всего прочего, превращение разрозненных свидетельств о Розенштраухе в логически последовательную хронику событий было еще и увлекательным интеллектуальным приключением: возможно, читателю будут любопытны перипетии детективной работы историка.
Глава 1
Страдая в безвестности: Германия и Голландия, 1768–1804
Годы между 1768 и 1804, то есть примерно первая половина жизни Розенштрауха, были периодом безвестности – в обоих смыслах этого слова. Для самого Розенштрауха это было время трудностей и унижения, которые он позже пытался предать забвению. По той же причине это очень плохо задокументированный период: восстанавливая его биографию, мы воистину вынуждены пробираться ощупью в потемках. Человек, с которым мы имеем дело в мемуаре о 1812 годе, сформировался именно в эти годы, но проследить его развитие не так-то просто.
Воспоминания Розенштрауха о событиях 1812 года не затрагивают юных лет автора. Точно так же обходят это время молчанием и другие известные нам работы мемуариста. По всей видимости, ему мучительно было вспоминать о бедности, общественном отторжении и несчастливой семейной жизни. Все, что мы знаем о его жизни до 1790-х годов, приходится либо восстанавливать по разрозненным и неполным сообщениям, либо домысливать на основании пробелов и умолчаний в источниках.
Отвечая на вопрос о своем происхождении, он обычно ограничивался указанием места рождения и, в некоторых случаях, туманно намекал на былое стремление стать актером. Мне удалось найти только один документ, где он сам говорит о своем происхождении: это послужной список, который ему как пастору пришлось составить в 1826-м. В ответ на вопрос о своем состоянии и «нации» он написал: «Бюргерского происхождения, уроженец прусской Силезии»; в разделе об образовании его коллеги по призванию предоставляли о себе обширную автобиографическую информацию, он ни слова не сказал о своей жизни до сорока трех лет, когда он стал купцом в Москве[7]. Точно так же поступал он и в частных разговорах. Христиан Неттельбладт, знавший его как масона в Мекленбурге в период между 1801 и 1804 годами, позже вспоминал, что «он никогда не распространялся о своем происхождении, не называл он и свое настоящее имя. Непреодолимая тяга к сцене, возможно, наряду с несчастливыми семейными обстоятельствами, привели его в театр»[8]. Феликс Рeйнгардт, познакомившийся с Розенштраухом в Харькове в конце 1820-х годов, передавал слухи о том, что, «родясь в Германии и получив достаточное общее образование, он почувствовал страстное влечение к театру, вступил на подмостки»[9]. Иоганн Филипп Симон, впервые встретившийся с Розенштраухом в начале 1830-х годов, сообщал примерно то же: «Он был уроженцем Бреслау, некоторое время посещал высшую школу, а потом стал актером и оперным певцом»[10].
Если эти сведения верны, то семья Розенштрауха принадлежала к бюргерскому сословию довольно значительного города. Бреслау (нынешний Вроцлав в Польше), до 1742 года принадлежавший Габсбургской империи, был третьим по величине городом в Пруссии. Это был преуспевающий торговый и промышленный центр, население которого в 1774 году составляло 57 997 гражданских лиц и 7280 военных и членов их семей[11]. Бюргером мог считаться практически любой, кто не был ни дворянином, ни крестьянином[12], но в Бреслау и во многих других городах это звание имело также и другое, более узкое значение: бюргерами были законные горожане, или граждане города[13]. Под эту категорию обычно подпадала благополучная, экономически стабильная часть населения, в частности купцы и ремесленники.
Воспоминания Розенштрауха наводят на мысль, что большую часть своей жизни он провел в поисках наилучшей формы религиозной веры. Подобное устремление вполне могло быть наследием юности, проведенной в Бреслау, где ему довелось столкнуться с самыми разными конфессиями. По оценке одной книги 1794 г., гражданское население города включало 37 600 лютеран, 13 600 католиков, 1000 реформатов и 2270 евреев[14].
Данные о семье и исходном вероисповедании Розенштрауха покрыты тайной. Мне не удалось найти ни одного доказательства тому, что сам он хоть раз говорил или писал об этом. Он упрямо отказывался назвать своих родителей. При регистрации брака в приходскую метрическую книгу обычно заносили имена родителей жениха и отмечали, законного ли он происхождения, однако запись о браке Розенштрауха умалчивает об этих деталях[15]. Возможно, он родился вне брака? Непонятно также, в какой конфессии он был воспитан, хотя это, несомненно, важно, учитывая значимость религии как в его воспоминаниях о 1812 года, так и во всей его биографии. Родился он, очевидно, 1 апреля 1768 года[16], так что крестили его, наверное, 4 апреля или около того: именно в этот день святого Амвросия, в честь которого Розенштраух был назван, поминают по протестантскому церковному календарю, тогда как по католическим святцам память этого святого совершается 7 декабря[17]. Однако при регистрации бракосочетания священник записал Розенштрауха как католика, указав, впрочем, что тот не предоставил никаких тому доказательств. К сожалению, большая часть приходских метрических книг и другой документации, которая могла бы пролить свет на эти вопросы, скорее всего погибла во время тяжелых боев под Бреслау в последние недели Второй мировой войны[18].
Любые поиски архивных документов осложняются тем, что фамилия Розенштраух вполне могла быть псевдонимом. Неттельбладт, собрат Розентшрауха по масонству, именно на это и намекал словами о том, что «он не называл своего настоящего имени»[19]. Актерство было постыдной профессией, и, дабы не навлечь этим занятием позор на свои семьи, актеры брали себе сценические имена. Сегодня избранная нашим героем фамилия – Rosenstrauch («розовый куст») – может показаться еврейской, но это анахронизм: Гольдберг, Розенфельд и другие подобные фамилии получили распространение среди евреев только после 1787 года, когда австрийский император Иосиф II приказал своим подданным иудейского вероисповедания обзавестись фамилиями[20].
Как мы уже видели, Розенштраух говорил Иоганну Филиппу Симону, что «посещал высшую школу», прежде чем стать «актером и оперным певцом». Последнее – явное преувеличение: возможно, ему и доводилось исполнять отдельные роли, требовавшие пения, но относительно престижного статуса оперного певца у него точно не было. Да и полученное им образование тоже представляется весьма ограниченным. Возможно, он готовился к секретарской работе: его воспоминания о 1812 годе написаны приличным почерком и грамотным немецким языком, однако, в отличие от широко образованных людей, Розенштраух не выказывал особого интереса к истории или науке и не владел иностранными языками, в частности весьма бы ему пригодившимся французским – языком не только двора и аристократии, но и наполеоновской армии.
Другой пробел в биографии нашего героя касается его супружества. На страницах мемуаров о 1812 годе фигурируют его дети, но мать этих детей не упоминается ни разу. Молчание Розенштрауха заставляет предполагать, что вдовцом он не был: скорее, его брак распался, что, по меркам современного ему общества, совершенно не приличествовало добропорядочному гражданину и могло опозорить его на всю оставшуюся жизнь. Сама глубина унижения, связанного с разводом, вполне возможно, объясняет, почему мы не можем найти ни одного упоминания о супруге ни в его текстах, ни в сообщениях его знакомых.
Распутать тайну этого брака нам поможет архивный документ, датированный вторником, 25 ноября 1788 года. В этот день, по свидетельству метрической книги одного католического прихода на западе Германии, некто Розенштраух, двадцати лет от роду, взял в жены некую Сузанну Барбару Антонетту Хампе. Похоже, это самый ранний документ, в котором встречается имя Розенштрауха. Какую же информацию мы можем из него почерпнуть?
Первое, что мы узнаем, – это что уже в ранней юности наш герой оставил дом и отправился на поиски неведомого будущего на периферии образованного общества. Бракосочетание состоялось в Брилоне – городке в 600 км к западу от Бреслау, в герцогстве Вестфалия, находившемся тогда под управлением архиепископа Кельнского. Приходская книга описывает жениха как «фельдшера родом из Бреслау, что в Силезии». В Германии, как и по всей Европе до XIX века, лечением внутренних органов занимались медики с университетским образованием, тогда как все процедуры, связанные с врачеванием внешних органов и оперативным вмешательством, такие как перевязка ран, исцеление грыж, вправление сломанных костей, вырывание зубов, кровопускание и тому подобное, – были уделом фельдшеров. Обучение будущие фельдшеры проходили, работая подмастерьями у цирюльников, и даже имели свой собственный цех, хотя к концу XVIII века правительства немецких княжеств и пытались потребовать, чтобы звание фельдшера было доступно только тем, кто получил формальное медицинское образование[21]. Розенштраух был слишком молод, чтобы быть более чем подмастерьем в своей области. Возможно, он уехал из Бреслау с целью наняться на службу к мастеру из другого города, но, учитывая, что ко времени заключения брака у него не было постоянного места жительства[22], так же вероятно и то, что он был бродячим цирюльником и фельдшером и зарабатывал себе на жизнь, брея бороды и выдирая зубы посетителям рынков и ярмарок. В столь же малоприятном социальном положении ему доведется побывать и позже, сначала как актеру в 1790–1809 годах, а потом как пастору без университетского образования в 1821–1835 годах: в каждом из этих случаев он оказывался на нейтральной полосе между двумя уважаемыми социальными группами – ремесленным цехом и буржуазией с университетским образованием, – ни одна из которых не спешила распахнуть объятия навстречу таким перебежчикам, как он.
Брилонская приходская книга свидетельствует о том, что Розенштраух сочетался браком с представительницей уважаемой и достаточно благополучной семьи из Касселя, столицы западногерманского княжества Гессен-Кассель. Брилон был католическим городом, в то время как Кассель, всего в 60 км к востоку от него (если брать расстояние по прямой), был оплотом протестантизма: реформаты составляли большинство населения, лютеране – меньшинство. Мать невесты Розенштрауха, Иоганна Елизавета Хампе (1742–1823), вдова незадолго до того скончавшегося Филипа Отто Хампе (1746–1786), владела типографией, на протяжении полутора столетий бывшей значимым для Касселя учреждением. Этот печатный двор, основанный в 1710 году дедом Филипа Отто, оставался во владении семьи Хампе, пока сын Иоганны Елизаветы не продал его в 1852 году. На протяжении большей части своего существования типография Хампе имела правительственную лицензию на печать местной газеты и официальных законодательных текстов. Члены семьи Хампе обычно женились и выходили замуж за себе подобных выходцев из среднего класса: в числе их невесток и зятьев были сыновья и дочери перчаточника, типографа, кровельщика, смотрителя странноприимного дома, а также смотрителя реформатской церкви при герцогском дворе[23]. Как фельдшер и молодой человек с образованием Розенштраух вполне вписывался в этот круг.
Реконструкция истории брака Розенштрауха подобна попыткам восстановить сюжет сильно поврежденной древней мозаики. Зачем ему было жениться в Брилоне, маленьком городишке, к которому не имели отношения ни он сам, ни его невеста?[24]
Молодые явно торопились. Чтобы подтвердить право местной пары на брак, священнослужители обычно сверялись с данными метрических книг своего прихода и на протяжении трех праздничных или воскресных дней подряд зачитывали в церкви банн – публичное объявление о предстоящей свадьбе. Однако Розенштраух и Сузанна были пришлецами, так что подтвердить их право на брак было сложнее, и тем не менее они желали обвенчаться срочно и безо всяких формальностей. Возможно, Сузанна была беременна и бежала из Касселя вместе с Розенштраухом? Это могло бы служить объяснением, почему, согласно документам о бракосочетании, оба молодых не имели постоянного места жительства. А также почему им было разрешено венчаться сразу без предварительного оглашения в церкви известия о браке, поскольку в случае беременности невесты это требование обычно отменялось[25]. Чтобы обвенчаться незамедлительно, требовалось особое разрешение генерального викария из далекого Кельна. Еще за несколько месяцев до даты бракосочетания официальным представителем генерального викария во всей Вестфалии был пастор города Брилона[26], не слишком удаленного от Мелриха, где Розенштраух проживал за несколько недель до венчания[27]. Кто знает, быть может, молодые решили пожениться в Брилоне как раз потому, что местный священник воспользовался своим влиянием и помог им добыть особое разрешение? Мы ничего не знаем об их подготовке к свадьбе, но на финишной прямой они действовали быстро: согласно Брилонскому приходскому регистру, кассельский пастор Сузанны подписал свидетельство о ее крещении 7 ноября 1788 года, мать невесты предоставила письменное согласие на брак дочери 8 ноября, 17 ноября генеральный викарий выдал специальное разрешение, и уже 25 ноября венчание состоялось. Промедли они еще несколько дней, наступил бы Адвент, и свадьбу пришлось бы отложить до после Нового года.
Приходская метрическая книга проливает, пусть и тусклый, свет на запутанный вопрос о конфессиональной принадлежности Розенштрауха. С точки зрения религии его брак был смешанным, но конкретное вероисповедание супругов из документов не очевидно. И канцелярия генерального викария, и брилонский священник поверили на слово, что Розенштраух был католиком, холостяком и имел право жениться. Как это требовалось по закону[28], Брилонский приходской регистр обычно указывал родителей каждого жениха, но рядом с именем Розенштрауха эта информация не проставлена. Не предоставил он и dimissoriale – также требуемое законом отпускное письмо из домашнего прихода, разрешающее прихожанину жениться в другой церкви[29]; брилонский священник отметил, что жених приехал «из прусских земель, где не принято выдавать отпускных писем». Это странное объяснение, поскольку по Прусскому праву брачующиеся не в своем приходе были в самом деле обязаны предоставить письменное свидетельство об оглашении извещения о браке в их собственном приходе[30]. За неимением каких-либо документальных доказательств Розенштраух был вынужден присягнуть, что холост. Что до Cузанны, канцелярия генерального викария определила ее вероисповедание как лютеранское, но при бракосочетании она предъявила свидетельство о крещении из реформатской церкви в Касселе. Более точно установить религиозную принадлежность Розенштрауха и его невесты сложно ввиду того, что кассельские архивы погибли во время воздушного налета в 1943 году.
Бракосочетание Розенштрауха в 1788 году краткосрочной вспышкой освещает тот период жизни нашего героя, о котором у нас нет никаких иных источников информации. Можно предполагать, что со своей невестой он познакомился в Касселе, но как они встретились или куда они направились после свадьбы, неизвестно. На деле мы вообще ничего о них не знаем вплоть до 1790–1791 годов, когда журнальная заметка сообщила, что Розенштраух был актером, членом театральной труппы[31]. Как многие актерские пары, муж и жена нанимались играть в одной компании, поэтому списки трупп, в которых служил Розенштраух, иногда включают и актрису по имени «мадам Розенштраух».[32] С этого момента остаток биографии Розенштрауха можно восстановить довольно точно: пробелы в информации минимальны.
Войдя в состав театральных трупп, известных настолько, чтобы оставить следы в исторической документации, Розенштраух и его супруга начинают появляться на радаре историка довольно часто. Театральные журналы и архивы отдельных театральных компаний составляют основной – а впрочем, и единственный – источник информации об этом периоде жизни Розенштрауха. Подобно масонам и пиетистам, двум другим кругам, впоследствии сыгравшим центральную роль в жизни Розенштрауха, театральные труппы в совокупности участвовали в создании географически протяженного сообщества, объединяемого письменными текстами. Театральные журналы создавали некоторую видимость единства за счет публикации новостей, предоставляемых разными компаниями, в частности о поставленных ими пьесах, составе трупп и амплуа каждого актера. Печатая сведения о местонахождении компаний и информацию об отдельных актерах, журналы способствовали частой ротации персонала, типичной для театральных трупп. Подобные публикации также помогали компаниям предупреждать друг друга об актерах, которым нельзя было доверять; списки служащих временами упоминали актеров, «сбежавших» от своих трупп, предположительно из-за конфликтов по поводу договоров или неоплаченных долгов[33].
В Германии XVIII века театр существовал в основном благодаря странствующим театральным компаниям, ставившим как легкие развлекательные спектакли, так и пьесы великих немецких драматургов того времени. Такие компании были известны по имени своего антрепренера, одновременно бывшего ведущим актером труппы. Именно он нанимал и увольнял актеров и добывал разрешение на гастроли в том или ином городе. Например, во времена юности Розенштрауха основным поставщиком театра в Бреслау была труппа Везера. Антрепренер Иоганн Христиан Везер получил королевскую привилегию на всю Силезию в 1771 году, а после его смерти она перешла к его вдове, сохранявшей ее до конца своей жизни в 1797 году. Труппа Везера постоянно квартировала в Бреслау, но летом выезжала и в другие прусские города; редким исключением были продолжительные – шестнадцатимесячные – гастроли труппы в 1786–1787 годах, когда бреславским любителям сценического искусства пришлось, по сообщениям современников, довольствоваться «труппами канатоходцев и эквилибристов»[34].
Вполне вероятно, что любовь Розенштрауха к театру возникла под воздействием постановок труппы Везера, но нет никаких доказательств тому, что он когда-либо входил в ее состав. На деле до 1790 года он, похоже, не фигурировал вообще ни в одном печатном списке членов какой бы то ни было труппы. Возможно, он выступал в компаниях не столь значительных, чтобы о них писали театральные журналы; вполне вероятно, что он чередовал работу фельдшером с периодическими выступлениями на сцене.
С артистической и экономической точек зрения подобные мелкие труппы были довольно примитивны. Актер Даниель Гурай, выступавший с Везером в Бреслау, вспоминал, что видел такие труппы в Богемии в начале 1780-х годов:
Поблизости от нас находились группы по пять, самое большее шесть человек, которые занимались своим ремеслом в каждом рыночном местечке. Я был однажды свидетелем таких импровизированных представлений, где основная роль была у Касперля. Они поставили в трактире бумажные кулисы, – вот вам и театр. Главный реквизит, который они всегда имели с собой, был барабан. Касперль ходил с ним при всех своих регалиях по местечку и приглашал его жителей, которые потом за трубкой табаку да кружкой пива смотрели на проказника[35].
Гурай презирал подобные труппы, но как раз в это время и сам так обнищал, что пытался продать последний оставшийся у него носовой платок, чтобы на вырученные деньги купить еды.[36]
Некоторое представление о том, как могла начаться театральная карьера Розенштрауха, можно получить из автобиографии другого актера из труппы Везера, Иоганна Христиана Брандеса (1735–1799). Родился Брандес в обедневшей бюргерской семье в Штеттине (нынешнем польском Щецине), городе на реке Одер ниже по течению от Бреслау. Еще мальчиком он поступил в подмастерья к купцу, но в шестнадцать или семнадцать лет сбежал из-за конфликта с мастером. Полтора года после этого он провел, блуждая по Восточной Пруссии и Польше, выполняя мелкие работы и попрошайничая на улицах; частенько бездомный, босой, голодный и больной, он целиком и полностью зависел от милости незнакомцев и подумывал о самоубийстве. Ненадолго вернувшись в Штеттин, он направился в Берлин и СевероЗападную Германию. Не найдя работы помощником продавца за неимением рекомендательных писем, Брандес помышлял об эмиграции в заморские страны, работал домашней прислугой, что казалось ему унизительным, и в отчаянии подумывал о поступлении в солдаты или матросы. Примерно в двадцатилетнем возрасте он присоединился к театральной труппе в Любеке. В последующие годы он неоднократно переходил из одной труппы в другую; пытаясь удержаться на плаву в промежутках между ангажементами, он работал секретарем и слугой и даже вступил в шайку карточных шулеров. Только в двадцать пять лет или около того он начал находить постоянную работу и обрел надежный доход в качестве странствующего актера. Судя по его автобиографии, Брандес через всю жизнь пронес горькие воспоминания о нищете и незащищенности. Он ненавидел бездушие богатеев и порочность бедняков, но при этом испытывал глубокую благодарность ко множеству добрых незнакомцев и не переставал удивляться пестроте и разнообразию прожитой им жизни[37].
Первое печатное известие о Розенштраухе извещало, что он и его супруга выступали в 1790–1791 годах в недалеко отстоявших от Брилона вестфальских городах Оснабрюк, Мюнстер и Бад-Ненндорф с труппой антрепренера по фамилии Мюллер (очевидно, Карл Фридрих Мюллер). Розенштраух играл роли «стариков, крестьян, трактирщиков и солдат», а его жена – «играет и поет за трактирщиц, карикатурных персонажей, старых кокеток»[38].
Розенштраух пришел на сцену в переходный для немецкого театра момент истории. Просвещение прославляло театр как место морального и эстетического воспитания граждан. Так, Фридрих Шиллер провозглашал в 1784 году, что
…cцена – это общий канал, в который стекается свет мудрости думающей лучшей части нации, и который распространяется отсюда отраженными лучами по всему государству. Правильные понятия, ясные принципы, чистые чувства текут отсюда по всем артериям нации; исчезает туман варварства, мрачных суеверий, ночь уступает победе света[39].
Общество тем не менее продолжало смотреть на актеров как на бродячих шутов, поставщиков сомнительных с моральной точки зрения развлечений. Брандес вспоминал, что в 1760-х годах он считал работу домашней прислугой ниже своего достоинства; однако его тетушка, набожная женщина, нежно его любившая, «считала комедиантов отпрысками сатаны» и настаивала, чтобы он вернулся в услужение. Когда же он отказался последовать ее совету, она порвала с ним отношения[40].
Широко бытовало мнение, что типичный актер был портным или цирюльником, слишком ленивым для того, чтобы зарабатывать деньги честным трудом, а все актрисы – распутницами. Эти стереотипы являлись не более чем выдумками, плодом дворянского и буржуазного снобизма, но общественное отторжение актеров было вполне реально. Большинство из них были либо потомственными актерами, либо деклассированными представителями образованного слоя населения. Изучение биографических данных 2000 человек, ставших служителями сцены в Германии в период между 1775 и 1850 годами, дает представление о том, каково было их происхождение. Мужчины обычно начинали выступать в возрасте между восемнадцатью и двадцатью двумя годами, женщины – лет в пятнадцать или шестнадцать. Формального актерского образования не существовало: дети актеров учились у родителей, а новички – у более опытных коллег. Около 90 % актерских браков заключались с коллегами по профессии, и их отпрыски обычно шли по родительской стезе. Из числа тех, кто родился до 1800 года, 56,91 % были детьми актеров же; вполне возможно, эта оценка занижена, поскольку выборка из 2000 человек не включает мелкие труппы, часто бывшие семейным предприятием. Еще 25,41 % были отпрысками гражданских служащих или выпускников университетов – двух социальных групп, проникнувшихся идеологией Просвещения и социально амбициозных, но частенько безработных. Гораздо меньшее число артистов вышло из семей носителей консервативных представлений о респектабельности: только у 16,57 % родители были ремесленниками, купцами или дворянами, и многие актеры из этой категории сбежали из дому и взяли себе сценический псевдоним. Наконец, лишь 1,1 % актеров были родом из крестьян, что отражает крестьянскую неграмотность и оторванность от элитной культуры[41].
Французские и итальянские театральные и оперные компании иногда получали постоянное место при немецких княжеских дворах, но немецким труппам в поисках ангажементов приходилось скитаться из города в город. Во главе каждой из этих трупп стоял антрепренер; труппа состояла из членов семьи антрепренера и других актеров, способных исполнять определенные типы ролей. Такие труппы выступали в основном в небольших городах, где люди без местного роду и племени почтением не пользовались и где поэтому к странствующим актерам относились с тем же презрением и недоверием, что и к бродягам. Неприкаянность делала артистов экономически уязвимыми и беззащитными перед деспотизмом антрепренера. По той же причине страдала артистическая репутация бродячих театров, поскольку труппы редко получали возможность наладить уважительные взаимоотношения с публикой. Зрители считали себя вправе прерывать представление: входить и выходить в середине действия, есть, пить и громко разговаривать, а в случае, если спектакль не оправдал их ожиданий, грубо и шумно издеваться над артистами. Актеры отвечали публике взаимным неуважением: не слишком усердно учили свои роли или выходили на сцену пьяными[42].
По словам театрального историка и бывшего актера Эдуарда Девриента (1801–1877), в конце XVIII века немецкое общество чуждалось актеров «как чумных» и терпело их, только когда они развлекали публику забавными историями, магическими трюками и тому подобным. Девриент считал, что артисты попросту довели до логического конца развращение нравов и пороки – пьянство, азартные игры, сластолюбие, – присущие обществу в целом. Актеры также пользовались скандальной славой за то, что не гнушались бросать жен и нарушать договорные отношения. Если верить Девриенту, «каждый актер должен был вначале считать себя необразованным тунеядцем, каждая актриса – легкой добычей, пока они не ставили себя по-другому. Для заметно растущего понемногу числа убежденных деятелей искусства, искренних и верных людей в театре их положение в обществе по-прежнему было предметом мучений»[43].
Социальное отчуждение актеров было продуктом обостренного чувства чести, регулировавшего взаимоотношения сословий в Германии раннего Нового времени. Лицам, избравшим бесчестную – в глазах общества – профессию, могли отказать в принятии в цех, в христианском погребении и в других формах включения в социум. Под эту категорию подпадали люди, не имевшие определенного места жительства (такие, как актеры передвижных театров) или связанные с физической распущенностью (проститутки, банщики) или с грязью или гниением (мусорщики, дубильщики, палачи, сборщики падали)[44]. Каждая социальная группа, включая актеров, дистанцировалась от групп и лиц, считавшихся «менее честными». Так, Брандес вспоминал, как его труппа обнаружила, что человек, перевозивший их в другой город, был помощником палача. Тут же поднялся «крик женщин, которые считали такую перевозку бесчестьем для себя и других», поддержанный «ругательствами и проклятьями» мужской половины труппы[45].
Когда Брандес записывал этот случай в 1790-х годах, память о нем была еще свежа, но тон рассказчика наводит на мысль, что сам он считал подобное отношение пережитком прошлого. На деле социальное расслоение Германии постепенно сглаживалось. Абсолютистские правительства пытались гомогенизировать подданное население; придворное общество служило образцом «цивилизованного» образа жизни, которому подражали другие социальные группы; и буржуазия начала строить свое самоопределение на основании универсалистских представлений о разуме, добродетели и гражданстве, а не сословного состояния[46]. Благодаря этим нововведениям социальное отторжение актеров стало менее заметно. В 1753 году драматургу Адаму Готфриду Улиху было отказано в соборовании на том основании, что когда-то он был актером. Однако в 1790 году, сообщая о смерти одного кенигсбергского артиста, театральный альманах с надеждой добавил, «что предрассудки исчезают постепенно и в этих местах, что доказывает погребение этого человека, которого несли в могилу собратья и сопровождало много почтенных мужей»[47].
Что, помимо юношеской наивности, могло побудить Розенштрауха избрать столь малообещающую профессию? Возможно, как предполагал его собрат по масонству Христиан Неттельбладт, покинуть дом его заставил раздор в семье[48]. Другим фактором было немецкое Просвещение, презиравшее бюргерство за узость мышления и провинциальность, а офранцузившуюся аристократию за поверхностность и чрезмерную заботу о своем внешнем виде. По словам социолога Норберта Элиаса, деятели Просвещения ценили «внутреннюю жизнь, глубину чувств, погруженность в книги, формирование собственной личности», а в юношестве они поощряли «естественную и свободную любовь, мечты в тишине, преданность порывам собственного сердца, не сдерживаемым ‘холодным рассудком’»[49]. Вполне возможно, что Розенштраух разделял эти чувства. В двадцать с небольшим он оставил семью и присоединился к передвижному театру; рано женился; и, как мы увидим дальше, завел дневник и стал франкмасоном. Другими словами, он противостоял условностям и стремился освоить, выразить и улучшить свое внутреннее «я». Может статься, перформативная сторона театра тоже привлекала его – позже, будучи масоном и проповедником, он любил дидактическую риторику, инсценированные обряды и одобрение публики. Наконец, судя по тому, что случилось позже, он явно не боялся рисковать и искать удачи в неведомых далях: вступление в театральную труппу вполне отвечало его жажде приключений.
Следующий фрагмент доступной нам информации датируется апрелем 1792 года, когда театральный журнал сообщил, что незадолго до того Розенштраух и еще один член компании Мюллера покинули мюнстерский театр и присоединились к труппе Рейнберга – Шёппленберга, выступавшей в Дюссельдорфе на Рейне и в мае собиравшейся на гастроли в голландский Маастрихт или Венло[50]. Эти планы пошли прахом, поскольку труппа распалась: в июне – июле 1792 года актеры остались в Дюссельдорфе без антрепренера[51]. Розенштраух тем не менее все равно отправился в Голландскую республику. Что он там делал, неясно, но мы располагаем достаточной информацией, чтобы попытаться сделать более или менее обоснованные предположения.
Пребывание в Голландской республике было самым ранним событием, о котором Розенштраух упоминает в своих воспоминаниях о 1812 годе. Довольно туманно он пишет, что «я был в Голландии, очень уважаю эту нацию и нашел там многих благородных благодетелей» (с. 269). Должно быть, этот опыт многому его научил. Возможно, именно в Голландской республике он впервые испытал покровительство аристократов и жизнь за границей, и вполне вероятно, что именно в Голландии он вступил в ряды масонов. Кроме того, как он вспоминал, размышляя о наполеоновском вторжении в Москву, с армиями Французской революции он впервые столкнулся в Голландии (с. 270). Этот период в жизни Розенштрауха заслуживает более пристального рассмотрения, хотя, так же как в случае с годами его юности, мы гораздо больше знаем об общем историческом контексте того времени, чем собственно о его биографии.
В каком-то смысле пребывание Розенштрауха в Голландской республике стало прелюдией его последующей эмиграции в Россию. Между родиной Розенштрауха и Голландией, с одной стороны, и Россией – с другой, существовала некая контактная зона, в которой культуры и социальные системы соседних стран соприкасались и взаимодействовали друг с другом. На востоке остзейские губернии Российской империи образовывали – с языковой, исторической и социополитической точек зрения – переходную зону между Германией и Россией. Рейнские земли, Бельгия, Люксембург и Нидерланды служили подобной же контактной зоной на западе. В политике этот регион всегда ориентировался на Германию: за исключением Голландской республики, отделившейся от Империи в 1648 году, весь регион входил в состав Священной Римской империи германской нации и управлялся в основном либо Габсбургами, либо князьями-епископами католической церкви. С другой стороны, культурный и экономический центр тяжести приходился на Нидерланды, и большая часть региона разговаривала на языке, близком к голландскому.
Немцы мигрировали как в Россию, так и в Голландскую республику. Поскольку в Священной Римской империи было избыточное количество нетрудоустроенных дворян, немецкие офицеры поступали на службу в голландскую и русскую армии. Немцы также торговали с обеими странами, и наличие немецкой диаспоры в больших портовых городах обеих стран предоставляло немецким театральным труппам возможности для гастролей, поэтому в Амстердаме и Санкт-Петербурге существовали более или менее постоянные немецкие театры. В России не хватало квалифицированных работников и торговцев, зато был избыток целинных земель, поэтому Россия «импортировала» выпускников немецких университетов, купцов и крестьян-колонистов. Напротив, более чем благополучная Голландия испытывала нехватку в людях и потому ввозила солдатов и разнорабочих. Целые подразделения голландских военных сил набирались в Германии[52], и голландцы (подобно британцам) «арендовали» армейские полки у испытывавших финансовые трудности немецких монархов[53]. Голландцы также нанимали сезонную рабочую силу для работы в сельском хозяйстве, промышленности и судоходстве; в этой ежегодной миграции принимало участие такое количество обедневших немцев, что в немецком языке для описания этого явления появился специальный термин, Hollandgnger («ходоки в Голландию»)[54].
Межпограничные контакты были особенно тесными в Гессене и Вестфалии – районах, где Розенштраух жил в период между 1788 и 1792 годами. Одним из наиболее активных поставщиков солдат был ландграф Гессен-Кассельский. Эта же область была одним из основных источников рабочей силы: в некоторых районах княжества-епископии Оснабрюк, к северу от Мюнстера, в Голландскую республику ежегодно уезжало на заработки до трети мужского крестьянского населения[55]. Государства, находившиеся в этом регионе, были мелкими, бедными, в высшей степени иерархичными и управлялись постаринке. Асимметричные взаимоотношения с гораздо более богатой и свободной Голландской республикой подтачивали монархические и сословные системы немецких княжеств. Для правителей сдача солдат в аренду была соблазнительным источником дохода, которая, однако, подставляла их под обвинения в том, что наживу и любовь к роскоши они ценят выше жизней своих подданных: так, например, отзывался о торговле солдатами Шиллер в пьесе «Коварство и любовь». Тем временем немцы, ходившие на заработки в Голландию, несли домой демократические настроения, пугавшие вышестоявшее начальство. Один прусский чиновник докладывал в середине XVIII века, что по возвращении из Голландской республики
…люди живут, как голландцы. Они усваивают себе вольготный образ жизни, не заботясь вовсе или недостаточно о порядке и авторитете. Военнообязанные юноши избегают призыва в прусскую армию, удаляясь надолго – а часто, и навсегда – за границу. Эти люди стремятся по своей природе к свободе и к жизни коммивояжеров. Как солдаты они ничего не стоят[56].
Как и в Германии, большинство голландских городов было не в состоянии содержать постоянный театр и полагалось на гастролирующие компании. Немецкие актеры часто выступали в Нидерландах, но некоторые из них испытывали по этому поводу весьма смешанные чувства. Им было о чем поворчать: голландский театр пребывал в основном под влиянием французского, а не немецкого театра; голландская протестантская церковь встречала в штыки вообще любые театральные выступления; и до 1795 года театральные компании вынуждены были отдавать заметную часть своих доходов муниципалитетам городов, в которых они гастролировали, на вспомоществование бедным[57]. Помимо этого немцы порицали голландцев как нацию за то же, за что вообще любые зажиточные либеральные общества Северо-Западной Европы обычно подвергались критике со стороны более бедных соседних народов: чрезмерную жажду к наживе и отсутствие истинного эстетического чувства. Так, один немецкий артист писал в 1789 году, что немецким актерам тяжело приходилось в Нидерландах, потому что они не пользовались большим уважением у публики:
Но, как бы ни была прекрасна здешняя страна, как ни великолепны города и построенные в некоторых местах сцены, как ни много здесь денег, но столько же и лицемерия. Верховодит тут духовенство, а с большей частью жителей не о чем говорить. Все тут купцы, и цену человека они определяют, как правило, по тысячам или миллионам, которыми он владеет[58].
Другой немецкий комментатор выразился еще откровеннее. Выступая в Маастрихте, иронизирует он, актеры принялись «метаться во все стороны», «орать во все горло», короче говоря, проявлять «самое бесстыдное сумасшествие». А что же публика? «Зрителями в театре были голландцы. Это слово достаточно их характеризует»[59].
Отношения между голландцами и германскими государствами достигли критической точки примерно тогда, когда Розенштраух прибыл в Гессен и Вестфалию. Голландская республика и соседствующие с ней Австрийские Нидерланды (Бельгия) были в то время новейшим очагом затяжного конфликта между монархистами и республиканцами, сотрясавшего Европу и ее колонии со времени Американской революции и до середины XIX века. Голландской республикой управляли Генеральные штаты и потомственный статхаудер, чьей главной функцией было руководство обороной страны. В 1780-х годах возник конфликт между оранжистами – сторонниками статхаудера Виллема V, принца Оранжского, и патриотами, желавшими ограничить почти монархическую власть статхаудера. Патриоты вдохновлялись опытом Американской революции и Франции, тогда как статхаудер и его двор ориентировались в культуре и в политике на Германию[60]. Когда в 1787 году патриоты ненадолго арестовали супругу статхаудера – сестру прусского короля, прусские войска вторглись в Голландскую республику и восстановили власть статхаудера. Множество патриотов бежало во Францию, и войска разных германских княжеств были дислоцированы в голландских городах с целью поддержать статхаудера.
Начало Французской революции в 1789 году заставило защитников монархической власти занять оборонительные позиции. В течение нескольких месяцев после начала Революции в 1789 году бельгийские революционеры свергли своих правителей и провозгласили республики. Зимой 1790/91 года Габсбурги подавили это восстание, но 20 апреля 1792 года, примерно в то время, когда Розенштраух покинул Мюнстер, Франция объявила Габсбургам войну. Летом и осенью того же года австрийская и прусская армии пошли было в наступление, но к концу 1792 года французы сломили их напор и заняли Бельгию. 17 февраля 1793 года французская армия под командованием генерала Дюмурье направилась на юго-запад Голландской республики, надеясь захватить главные голландские укрепления (Берген-на-Зоме, Бреду и Хертогенбос), пересечь дельту Рейна, Мааса и Шельды и начать наступление на Амстердам. К началу марта 1793 года несколько укреплений пали, но объединенные силы противника заблокировали переправы через реку и атаковали Дюмурье с востока, вынудив его отступить обратно в Бельгию[61].
Жизнь Розенштрауха в 1792–1793 годах была каким-то образом связана с этими событиями. Обстоятельства, приведшие его в Голландскую республику, неизвестны. В нашем распоряжении всего несколько архивных документов. Два из них указывают на то, что наш герой вступил в масонскую ложу в городе Кампен, в провинции Овериссель в Центрально-Восточных Нидерландах, но детали этого события неясны. По данным карточного каталога голландского масонского архива – оригинал документа, похоже, утрачен, – 10 июня 1792 года он вступил в Кампене в ложу под названием «Глубокое молчание» (Le Profond Silence)[62]. С другой стороны, немецкий масонский документ из архива в Берлине цитирует слова Розенштрауха о том, что некогда – дата не уточняется – он вступил в Кампене подмастерьем в Иоанновскую ложу под названием Ложа cв. Иоанна Иерусалимского[63]. (Иоанновские ложи были ложами, присуждавшими только три звания: «подмастерье» было промежуточной ступенью, выше «ученика» и ниже «мастера масона».) Голландские приходские метрические книги показывают, что тремя месяцами позже, 22 сентября 1792 года, в Зальтбоммеле, недалеко от Хертогенбоса, был крещен сын Розенштрауха[64]. Наконец, в своих воспоминаниях о 1812 годе он писал: «Я видел французскую армию в Голландии при Дюмурье» (с. 270). Вероятно, это относится к февралю – марту 1793 года, когда Хертогенбос пребывал в руках cоюзников в то время, когда все остальные окрестные укрепления уже находились в руках французов. На основании этой ограниченной информации можно попытаться восстановить опыт, пережитый Розенштраухом в Голландской республике.
Зальтбоммельская запись о крещении содержит одну деталь, проливающую свет на пребывание Розенштрауха в Голландской республике: в качестве крестного отца младенца назван «граф ван Хайден-Хомпеш». Похоже, единственным живым носителем этого имени в 1792 году был граф Анн Виллем Карел ван Хайден-Хомпеш (1755–1807). Розенштраух, очевидно, высоко почитал графа, поскольку назвал сына Карлом Вильгельмом, вероятно, в честь графа, а рожденные позже дочери Розенштрауха были наречены Елизаветой Каролиной и Вильгельминой. Среди голландских «благородных благодетелей» Розенштрауха был, видимо, и Хайден-Хомпеш.
Что связывало Розенштрауха с графом, непонятно. Работал ли он на него в каком бы то ни было качестве, или граф принимал его как гостя? Этого мы не знаем. Впрочем, поскольку Хайден-Хомпеш был аристократом и, соответственно, оставил за собой бумажный след, мы можем выяснить, какими путями Розенштраух мог попасть в окружение графа.
Один из путей был таковым в буквальном, пространственно-географическом смысле. Весной 1792 года, как мы помним, Розенштраух проживал в Мюнстере в Вестфалии. Оттуда к месту жительства графа вел один из основных путей сообщения и миграции населения. Путешественник, выехавший из Мюнстера в северо-западном направлении, уже через 50 км (на расстоянии птичьего полета) попадет в немецкое княжество Бентхайм, в котором Хайден-Хoмпеш занимал должность судебного асессора[65]. Еще в 20 км в том же направлении располагается фамильная усадьба графа в голландском городе Оотмарсум[66]. Проехав еще 50 км все в том же северо-западном направлении, попадешь в Цволле и Кампен – район, где граф обычно проживал. Чтобы добраться до Кампена, Цволле, Оотмарсума или Бентхейма, путешественнику из Мюнстера пришлось бы сменить почтовую карету лишь раз[67]. По тому же маршруту пролегал и основной путь миграции. Избегая болот, немецкие гастарбайтеры выбирали один из нескольких основных маршрутов в Голландию, главный из которых проходил мимо Оотмарсума и вел к Цволле и Кампену. Там мигранты садились на паром и пересекали Зюдерзее в поисках работы в городах на голландском побережье[68]. Миграция вдоль этого пути не ограничивалась лишь рабочими: голландские студенты ехали в Гёттингенский университет, а студенты из рейнских земель и Вестфалии посещали университет в Хардервейке возле Кампена и Цволле[69].
Графа Хайден-Хомпеша связывали с Гессеном и родственные отношения. Его родичами по жене были две выдающиеся гессенские династии: фон Вайтольсхаузен по прозвищу Шраутенбах и Ридезель цу Айзенбах[70].
Как Розенштраух воспринял Французскую революцию при своем первом столкновениии с ней в 1792–1793 годах, мы не знаем, но Хайден-Хомпеш и немецкая родня графа однозначно оказывали на него антиреспубликанское и антифранцузское влияние. Сам Хайден-Хомпеш был убежденным оранжистом. Муж его сестры Иоганн Конрад Ридезель был полковником брауншвейгского контингента, с 1788 года дислоцированного на территории Голландской республики сначала для защиты статхаудера, а затем для обороны от французов. Брат Иоганна Конрада, генерал Фридрих Адольф Ридезель боролся с республиканством на двух континентах: ранее он стоял во главе брауншвейгских войск, сражавшихся на британской стороне в Американской войне за независимость, теперь же был доверенным помощником герцога Брауншвейгского, командира союзной прусско-австрийской армии, воевавшей с французами в 1792–1794 годах[71].
Родня графа могла оказать содействие вхождению Розенштрауха в масонские круги. В 1776 году тесть графа Хайден-Хомпеша по имени Людвиг Бальтазар фон Вайтольсхаузен по прозвищу Шраутенбах вступил в кампенскую масонскую ложу Св. Иоанна Иерусалимского[72] – ту самую, в которую, по его собственным словам, позже вступил и Розенштраух. Нет никаких доказательств тому, что Розенштраух был масоном и ранее. Похоже, он не входил ни в одну из кассельских лож[73], а состоял ли он в масонской организации в Мюнстере, мы не знаем[74]. По возвращении в Германию он, судя по всему, не принадлежал ни к одной ложе до самого 1801 года, хотя, вероятно, только потому, что не предоставлялось возможности: когда около 1794 года он вернулся в Кассель, масонство там было под запретом, потому что правительство связывало его с Французской революцией[75].
Связь Розенштрауха с графом Хайден-Хомпешем проливает некоторый свет и на религиозное развитие нашего героя. Позднее он вспоминал конец 1780-х годов как время своего духовного пробуждения: в мемуарах о 1812 годе (c. 224) он пишет: «Уже за 25 лет перед тем я столько почерпнул из необыкновенного пути страданий моей жизни, что все происходившее со мной в жизни считал не случаем, а мудрым промыслом милосердия Божьего». Как мы знаем, в 1788 году он женился в католической церкви на женщине, ранее принадлежавшей либо к лютеранской, либо к реформатской ветви протестантизма. В том же самом году, согласно мемуарам о 1812 годе, Розенштраух начал вести дневник (c. 246). Это было весьма типичной пиетистской практикой: дневниковые записи помогали пиетисту следить за собственным духовным развитием. Пиетистские общины были весьма распространены в Гессене и близлежащем Вюртемберге, а одна из них, под названием Моравская братия, или Гернгутеры, была тесно связана с семьей супруги графа Хайден-Хомпеша[76]. Когда в 1792 году родился сын Розенштрауха, его крестили в католичество, но крестным отцом мальчика стал реформат граф Хайден-Хомпеш. Позже в Касселе в 1794 году дочь Розенштрауха Каролину крестили в реформатской церкви[77]. Всего этого явно недостаточно для сколь-нибудь полного анализа религиозных воззрений Розенштрауха, но вполне хватает, чтобы предположить, что духовные поиски нашего героя выходили за пределы узкоконфессиональной ортодоксии.
Биография Розенштрауха между 1788 и 1792 годами – головоломка, в которой недостает множества деталей, но общий контур тем не менее вполне прослеживается. За этот срок он стал актером, масоном, мужем и отцом. Он пребывал в постоянном духовном поиске и склонялся к экуменизму и пиетизму. Он умел ладить со знатью, пожил за границей и на собственной шкуре испытал воздействие Французской революции. Именно в этот период он стал тем Розенштраухом, с которым мы встретимся позже на страницах его сочинений.
Вспоминая о вхождении наполеоновских войск в Москву, Розенштраух пишет в своих мемуарах, что узнал «дробь французских барабанов, звук которых был знаком <…> мне по Рейну» (c. 231)[78]. Отступая от Москвы, французы попытались разрушить Кремль; комментируя сотрясавшие столицу оглушительные взрывы, Розенштраух вспоминает, что «…что-то подобное, хотя и значительно меньших масштабов, я уже слышал в Майнце, когда в 1795 г. тамошняя военная лаборатория взлетела на воздух» (с. 272). Как в и своих записях о Голландии, Розенштраух упоминает здесь о своем пребывании в эпицентре драматических исторических событий, но не дает никакого контекста, в который эти его воспоминания можно было бы поместить. Что же он делал на Рейне в 1795 году?
Подобно Нидерландам, Рейнская область, где расположен Майнц, была политическим, военным и идеологическим яблоком раздора между революционной Францией, местными республиканцами и консервативными германскими монархами. Французские войска заняли Майнц – столицу одноименного княжества-епископства – 21 октября 1792 года, когда Розенштраух все еще пребывал в Голландской республике. В марте 1793 года при поддержке французской армии местный клуб якобинцев провозгласил в Майнце и окрестностях Рейнско-Немецкую республику. Новая республика продержалась недолго. С середины апреля 1793 года австрийские, прусские и другие германские войска окружили ее кольцом блокады, и 23 июля Майнц сдался. Менее чем через 16 месяцев вернулись французы и безуспешно осаждали Майнц с 8 ноября 1794 года по 29 октября 1795-го[79]. Одним из памятных происшествий, случившихся за время осады, был подрыв французского арсенала в конце июня 1795 года[80]; похоже, Розенштраух слышал отголоски именно этого взрыва.
В отличие от голландского вояжа причины, приведшие Розенштрауха в Майнц, хорошо известны. Начиная самое позднее с августа 1794 года он служил в театральной труппе, основанной в 1793 году Теодором Хасслохом – актером, ранее подвизавшимся в амстердамском Немецком театре[81]. С конца 1794 года и по начало 1797-го труппа проводила осень и зиму в Касселе, а весенне-летний сезон, включая время французской осады, в Майнце[82]. Можно только догадываться о впечатлении, произведенном на Розенштрауха осадой и ее более широким политическим и идеологическим контекстом. Так же как в Нидерландах и затем в Москве, Розенштраух был сторонним очевидцем конфликта, связанным только с консервативной, антифранцузской партией.
Похоже, что за годы службы в труппе Хасслоха Розенштраух достиг некоторого успеха и стабильности. Его имя с достаточной регулярностью появлялось в театральных журналах, тем самым подтверждая рост его профессиональной репутации. Еще большего престижа и финансового благополучия труппа Хасслоха добилась после 1797 года, когда она стала придворным театром ландграфа Кассельского[83]. Несмотря на то что часть года Розенштраух проводил на гастролях, Кассель был ему домом на протяжении как минимум шести лет (1794–1800). Возможно, тамошнее общество хорошо его принимало благодаря теще и зятьям – уважаемым местным гражданам; также возможно и то, что ему помогали связи с родней графа Хайден-Хомпеша, Ридезелями и Шраутенбахами, занимавшими высокое положение в гессенско-кассельском обществе.
Легким финансовое положение Розенштрауха было вряд ли. Контракты труппы с 1796 по 1800 год предусматривали еженедельную оплату актерского труда в размере от 2 до 15,5 райхсталера; получка Розенштрауха стабильно пребывала на нижней границе нормы. По контракту от марта 1796 года шестнадцать актеров и актрис зарабатывали в среднем по 10 райхсталеров; Розенштраух, игравший роли второго плана, получал только 6 райхсталеров[84]. В черновике договора от марта 1798 года – единственного, включавшего жену Розенштрауха, – Хасслох предлагал им обоим 10 райхсталеров в общей сложности; три другие семейные пары, входившие в труппу наряду с актерами-одиночками, должны были получать по 8, 14 и 25 райхсталеров[85]. Черновик договора от 1799 года давал Розенштрауху более важные роли, такие как «благородного старика», но все равно за плату всего лишь в 10 райхсталеров, тогда как другие актеры-одиночки получали в среднем по 14[86]. Таким образом, по сравнению с сотоварищами по труппе Розенштраух получал немного, хотя и больше того, что зарабатывал подсобный театральный персонал: по договору от 1800 года хористы, билетеры, гардеробщики и прочие получали от 1 до 5 райхсталеров в неделю[87]. Таким образом, годовая зарплата Розенштрауха в этот период колебалась от 312 до 520 райхсталеров. Для сравнения: зарплата чиновника, заведовавшего администрацией мелкого городка в Гессен-Касселе и по местным провинциальным меркам считавшегося зажиточным человеком, составляла от 600 до 1200 райхсталеров в год[88]. Тем не менее мы слишком многого не знаем о реальном финансовом положении Розенштрауха, както: сколько недель в году он на самом деле отрабатывал, были ли у него другие источники дохода, а также помогала ли ему семья его жены.
Время стабильности длилось недолго. В 1800 году Хасслох переехал из Касселя в Гамбург[89], и его компания испытывала все большие сложности с оплатой актерского труда[90]. Отчаявшись, некоторые члены труппы стали искать себе другую работу. В сентябре 1800 года один из них, Карл Людвиг Крикеберг, выиграл концессию на управление придворным театром герцога Мекленбург-Шверинского и нанял к себе в труппу Розенштрауха, которому надлежало играть роли «второго старика и интригана»[91]. Начиная с января 1801 года компания Крикеберга зимовала в герцогской столице Шверине, летом работала на престижном балтийском курорте Бад-Доберане, а остаток года проводила в близлежащих Ростоке и Гюстрове, а также в Штральзунде в соседней Шведской Померании[92].
Вступление в труппу Крикеберга обещало Розенштрауху карьерный рост, но похоже, что кризис в личной жизни также способствовал отъезду нашего героя из Касселя. Скромный доход не позволял ему достойно содержать растущее семейство, и между Розенштраухом и его супругой начались разногласия. У них было как минимум четверо детей: первенец, о котором ничего не известно[93], второй сын, Карл Вильгельм, родившийся в Голландии в 1792 году, и две дочери – Елизавета Каролина, рожденная в 1794 году, и Вильгельмина, рожденная примерно в 1796 году. В марте 1798 года в договоре с Хасслохом Розенштраух и его супруга все еще фигурировали в качестве семейной пары, но после этого семья распалась. В ноябре 1800 года, как раз когда Розенштраух собирался присоединиться к труппе Крикеберга в Шверине на Балтийском побережье, имя его супруги появилось на театральной афише другой труппы, дававшей представления почти в 400 км от Шверина в Эссене на Рейне[94]. К тому времени, как с Розенштраухом познакомился Неттельбладт, то есть к 1801–1804 годам, Иоганн-Амвросий и его жена были, по словам Неттельбладта, разведены. Мы ничего не знаем об обстоятельствах развода, но, поскольку Розенштраух взял детей с собой, очевидно, что дело было не в том, что он бросил семью[95].
Читатели воспоминаний Розенштрауха о 1812 годе, возможно, удивятся тому, что, несмотря на все трудности актерской жизни, он тем не менее не разделял идеалов французских революционеров. По словам историка Роберта Дарнтона, во Франции именно образованные люди, разочаровавшиеся в мечтах об актерской славе, были отчасти виноваты в радикализме Революции. Французская культура при Старом режиме была уделом небольшой группки театров, академий и прочего, что обеспечивало немногим избранным покровительство знати и приличный доход, в то же время перекрывая всем прочим доступ к привилегированной элите и обрекая их на нищету и деградацию:
Поэтому они проклинали закрытый мир культуры. Они выживали, выполняя в обществе грязную работу: шпионя для полиции и продавая порнографию; и наполняли свои сочинения обвинениями против общества, их унизившего и испортившего. <…> Эти люди стали революционерами именнно в глубинах интеллектуального подполья, и там же родилась якобинская решимость стереть с лица земли интеллектуальную аристократию[96].
Розенштраух тоже испытывал горькие чувства по отношению к состоятельной части общества, однако он не скатился в пропасть самого себя ненавидящего «интеллектуального подполья». В графе Хайден-Хомпеше он нашел себе знатного покровителя, а как актер придворных театров в Касселе и Шверине он принадлежал к привилегированным монархическим институтам. Он был открыт религии, а франкмасонство обеспечило ему доступ в уважаемые круги общества. Бедность и маргинальность были уделом всех актеров; рано или поздно они отвратили Розенштрауха от театра как профессии, но не от Старого режима как такового.
Глава 2
Новая жизнь в России:
Санкт-Петербург и Москва, 1804–1812
В начале 1804 года Жозеф Мирэ, антрепренер санкт-петербургского Немецкого театра, отправился в Германию за новыми актерами и музыкантами для своей труппы. Среди тех, с кем он вел переговоры, были члены компании Крикеберга, в том числе Розенштраух. Очевидно, условия, предложенные Мирэ, были лучше крикеберговских, поскольку Розенштраух и его коллега по труппе Реке приняли приглашение в Россию. К ним присоединился еще один актер, Кристлиб Георг Хайнрих Арресто, в течение нескольких месяцев в 1801 году также входивший в труппу Крикеберга, а затем уехавший в Гамбург. В сентябре или октябре 1804 года Розенштраух прибыл в Санкт-Петербург[97].
Столица России не была для немецких актеров экзотическим местом. Они регулярно выезжали туда на гастроли, а с сентября 1800 года по апрель 1801-го директором Немецкого театра был один из ведущих немецких драматургов, Август фон Коцебу[98]. Поэтому поездка в Санкт-Петербург, конечно, требовала от Розенштрауха некоей толики авантюризма, но никак не равнялась необратимому решению навсегда оставить родину.
Так же, как и Голландская республика, Санкт-Петербург был тесно связан с Германией. Взаимный обмен между двумя странами был выгоден им обеим. В России социальная система империи строилась на том принципе, что каждое сословие и этническая группа выполняла в обществе свое, отличное от других назначение. Роль немцев в этой системе отражала их образование, профессиональные и коммерческие навыки и способность помочь России наладить связи с западной торговлей, культурой и правительствами. В Санкт-Петербурге выходцы из Германии и из остзейских губерний распределялись на три социальных слоя. Самый нижний слой состоял из ремесленников и торговцев, многие из которых прочно осели в России и постепенно обрусели. Верхний слой составляли немцы аристократического происхождения или царских кровей – элита, состоявшая на придворной и государственной службе. Между ними находились купцы, врачи, учителя, ученые и прочие категории буржуазии, в том числе актеры; во многих случаях представители этой прослойки приезжали в Россию лишь на время, а затем возвращались обратно на родину.
Переезд в Россию открывал немцам возможности, на родине просто не существовавшие. В России не хватало образованных кадров, и эту потребность успешно удовлетворяли немцы. Кроме того, поскольку российские элиты стремились сделать свою страну похожей на Европу, европейцам оказывалось почтение и предоставлялись привилегии: немецких крестьян-колонистов освобождали от рекрутской повинности и подушной подати, иностранные магазины считались престижными, а выходцам из-за границы не составляло труда получить место учителя или гувернантки в знатных домах. Наконец, сам масштаб страны наделял иностранцев в России анонимностью, достаточной для того, чтобы начать новую жизнь и создать себе новую персону. Розенштраух проехал почти всю Германию и Голландию из конца в конец, но наибольшее расстояние, какое ему довелось покрыть на родине, от Бреслау до Зальтбоммеля, было всего 850 км. В России же он переехал из Санкт-Петербурга в Одессу, отстоящую на целых 1500 км.
Санкт-Петербург, должно быть, производил на вновь прибывших ошеломляющее впечатление. По сравнению со знакомыми Розенштрауху городами население российской столицы было более многонациональным, двор и знать были богаче, а культурный и социальный разрыв между аристократией и народом более заметен. Этот город с населением в 285 500 человек (согласно полицейской статистике) был крупнее любого населенного пункта Германии. По количеству живущих в нем немцев Санкт-Петербург также превосходил все города, в которых Розенштрауху когда-либо довелось пожить, за исключением Бреслау: в российской столице проживало 23 612 немцев (очевидно, не считая немцев из Прибалтики), тогда как все население Касселя составляло 17 625 человек, а Шверина 11 727[99].
В XVIII веке немецкие труппы бывали в Санкт-Петербурге наездами, но только Мирэ основал в 1799 году постоянный театр. Располагался он на Дворцовой площади напротив Зимнего дворца[100]. Согласно Наталье Губкиной, ведущему эксперту по данному вопросу, Мирэ был «отъявленным авантюристом», нанимавшим ведущих актеров, ставившим роскошные спектакли, а когда деньги кончались, искавшим финансовой поддержки при дворе. Из-за долгов, бесхозяйственности и собственной страсти к наживе Мирэ не в состоянии был платить своим актерам сколь-нибудь регулярно, поэтому персонал труппы непрерывно сменялся[101]. К 1803 году на Мирэ висел долг уже в 80 000 рублей. Надеясь завоевать расположение юного Александра I, Мирэ обнародовал щедрый план по обеспечению своих актеров пенсиями. Царь согласился покрыть долги антрепренера, и Мирэ отправился в поездку по Европе, в ходе которой он и нанял Розенштрауха. (Вполне вероятно, что пенсионный план – так никогда и не воплощенный в жизнь – был одним из факторов, повлиявших на согласие Розенштрауха и прочих на переезд в Россию[102].) Во избежание банкротства театр Мирэ неоднократно переходил в ведомство Дирекции императорских театров: временно в 1800–1801 и 1805 годах и постоянно с 1806 года[103].
Розенштраух не был главной звездой театра, но актером он был хорошим и получал положительные отзывы. Издатель и театральный критик Фридрих Енох Шрёдер (1764–1824) – один из заправил ограниченного мирка санкт-петербургской немецкоязычной журналистики – благосклонно отзывался о работе Розенштрауха[104]. Еще одна положительная рецензия вышла в 1810 году в Веймаре, в одном из ведущих немецких журналов. Рецензентом был Карл Музеус (1772–1831), живший в Санкт-Петербурге с 1805 года[105]. 9 октября 1809 года, писал он, Розенштраух дал бенефисный спектакль, то есть представление, доходы от которого целиком или частично поступали непосредственно в его пользу. Бенефисы, особенно во время прибыльного зимнего сезона, с 1 сентября по Великий пост, были привилегией ведущих актеров труппы[106]. Если верить Музеусу, «помещение было полно <…> Пьеса пришлась по вкусу. – После представления господина Розенштрауха вызывали на сцену». Журналист добавлял, однако, «доходят слухи, что господин Розенштраух покидает театр. Его потеря будет чувствительной для публики, поэтому дирекции будет не столь легко удовлетворить его пожелание, она постарается сделать все, чтобы этого достойного публики человека и хорошего актера сохранить для себя и для нее»[107].
Розенштраух действительно оставил театр в 1809 году. Он и раньше переходил из труппы в труппу и вполне мог сделать то же еще раз, стоило лишь вернуться в Германию. Вместо этого он окончательно оставил актерскую профессию, принял российское подданство и занялся торговлей – судя по всему, импортом европейских предметов роскоши. Этим он зарабатывал себе на жизнь на протяжении всего последующего десятилетия.
Выданный Розенштрауху документ о принятии в подданство датирован тем же числом и находится в том же архивном деле, что и аналогичный документ на имя Кристофа Андреаса (Андрея Григорьевича) Ремплера, выходца из Саксонии, в 1790 году перебравшегося в Санкт-Петербург и открывшего там успешную торговлю ювелирными изделиями. Возможно, Ремплер как член той же масонской ложи, что и Розенштраух, помог нашему герою развернуть галантерейное дело. Как бы там ни было, семьи Розенштраух и Ремплер процветали и поддерживали общение. По сообщениям источников, в 1824 году сын Розенштрауха Вильгельм поставлял к императорскому двору большие количества ювелирных украшений[108]; годом ранее, в 1823 году, Ремплер получил звание оценщика Кабинета Его Величества (фактически придворного ювелира) – должность, сохранявшуюся за его потомками вплоть до революции. Наследником Ремплера был его зять, уроженец Швеции Карл Эдуард Болин; в 1852 году брат Карла Эдуарда Хендрик (по-русски Андрей) открыл филиал семейного дела в Москве и женился на внучке Розенштрауха Наталье, таким образом объединив два богатейших иностранных купеческих рода в Москве[109].
Мечты ли о подобном благополучии сподвигли Розенштрауха в 1809 году попытать судьбу и затеять торговлю предметами роскоши? Кто знает. Понятно, впрочем, что театр постепенно утрачивал для него свою былую привлекательность.
Одной из причин этому была, по всей вероятности, нужда. В 1800 году актеры труппы Мирэ получали от 400 до 1500 рублей в год[110]. В течение следующего десятилетия оклады возросли, и Дирекция императорских театров пыталась заманить ушедшего было Розенштрауха обратно обещанием жалованья в 2000 рублей. Хотя эта ставка и была типичной суммой, какую предлагала актерам Дирекция императорских театров[111], она тем не менее была довольно высока по общерусским меркам. Для сравнения: вице-адмирал (чин третьего класса в Табели о рангах) получал 2160 рублей, контрадмирал (четвертый класс) 1800 рублей, а лейтенант (десятый класс) 300 рублей[112]. Однако военные и чиновники часто получали доплаты косвенно, за счет государственного жилья, питания и прочего, тогда как Розенштраух, вероятно, был вынужден существовать исключительно на официальную зарплату.
Расходы, которые приходилось покрывать из его жалованья, должны были быть велики. Как мы увидим, он жил на Невском проспекте – в одном из самых фешенебельных районов города. Можно предположить, что за неимением жены, которая бы вела его хозяйство, он вынужден был держать прислугу. Ему также приходилось заботиться о четверых детях: старшем сыне, чьи имя и возраст нам неизвестны, Вильгельме, которому в 1804 году исполнилось 12, Елизавете, 10 лет от роду, и Вильгельмине (Мине) – восьми. В отличие от многих актерских отпрысковя эти дети на сцену с отцом не выходили[113] и, таким образом, не помогали увеличить скромный семейный доход. Неттельбладт, мекленбургский собрат Розенштрауха по масонству, пишет, что, когда тот переехал в Россию, «его дети, <…> в воспитание которых он много вкладывал, сначала остались в Ростоке, но позже последовали за ним»[114]. Очевидно, дети получили хорошее образование и в России; по крайней мере Вильгельм, судя по его сохранившимся письмам, свободно владел немецким, русским и французским языками, а в 1810 году провел семестр в Дерптском университете за изучением фармацевтики[115].
Жить на 2000 рублей, предлагаемые Дирекцией императорских театров, было тяжко. Об этом говорят и санкт-петербургские немцы, пытающиеся объяснить читателям в Германии, во сколько обходится буржуазный стиль жизни в российской столице. Андрей Карлович Шторх писал в 1794 году, что «в целом средний слой в Санкт-Петербурге живет с большими издержками, комфортом и пышностью, чем в большинстве крупных городов Европы»[116]. Шторх прикидывал, что семья из пяти человек (подобная семье Розенштрауха) может жить скромно, но комфортабельно, владеть каретой и держать пятерых слуг на сумму 2950 рублей в год[117]. Но под давлением инфляции цены постепенно росли, и уже в 1805 году, по подсчетам Генриха фон Рeймерса, уровень жизни, описанный Шторхом, обошелся бы более чем вдвое дороже предусмотренного Шторхом бюджета, то есть приблизительно в 6000 рублей[118]. К 1810 году – времени, когда Розенштрауху предлагали зарплату в 2000 рублей, – инфляция еще больше возросла. Представление о трудностях, с которыми приходилось сталкиваться немецким актерам, дает Наталья Губкина:
Несмотря на достаточно высокое жалованье (по сравнению с окладами чиновников), актерские семьи <…> вели более чем скромный образ жизни. Значительные средства уходили на театральный гардероб, на обустройство жилья на новом месте (в чужой стране), на обучение детей русскому языку и т. д. <…> Практически все актеры входили в хронические, затяжные долги к своим кредиторам, в долги за наем квартиры <…>. Местом, которое часто посещали актеры немецкой труппы, был ломбард. Тут закладывалось все, что могло принести доход <…> причем без всякой надежды на последующий выкуп[119].
Бедность ставила актеров в унизительную зависимость от Дирекции императорских театров. Поскольку им частенько приходилось просить у Дирекции вспомоществования, они не могли себе позволить возражать, когда им произвольно навязывали смену амплуа или участие в неоплачиваемых выступлениях или когда Дирекция каким бы то ни было иным образом злоупотребляла своей властью над артистами[120].
По прошествии лет Розенштраух скрывал свое актерское прошлое, но память о бедности, похоже, не оставляла его. Поскольку он избегал затрагивать эту тему в собственных сочинениях, приходится полагаться на воспоминания очевидцев, передававших свои разговоры с ним. Самый детальный отчет оставил Иоганн Филипп Симон, который познакомился с Розенштраухом во время визита в Харьков осенью 1831 года и еще несколько лет общался с ним после переезда в Харьков в 1832 году[121]. Симон знал, что Розенштраух родился в Бреслау и был актером в Германии и в Санкт-Петербурге, но больше никаких подробностей он не передает; поскольку в общей сложности Симон посвящает знакомству с Розенштраухом целых 19 страниц, скудость биографической информации, надо полагать, объясняется тем, что сам Розенштраух сообщил ему лишь эти голые факты. Однако Симон подробно цитирует рассказ Розенштрауха о пережитых им трудностях. Поскольку в этой истории упоминаются дети актера, но не его супруга, рассказ, по всей вероятности, относится ко времени его службы в театре либо в Мекленбурге, либо в Санкт-Петербурге. По словам Симона, Розенштраух поведал ему следующее:
Однажды я оказался в очень затруднительном положении, не имея в самом буквальном смысле слова ни куска хлеба для себя и своей семьи. Все более-менее ценное, имевшееся у меня, было продано или заложено. Все так называемые друзья отвернулись от меня, они рассыпались направо и налево по улице, едва завидев меня издалека. Столь же бесспорно, как то, что Бог существует, единственной причиной этого было мое бедственное положение, ибо я все еще оставался порядочным человеком. Но я был беден, и этого преступления было довольно, чтобы избегать меня. Ни пекарь, ни мясник, ни лавочник не отпускали мне ни крошки товару. У моих бедных детей почти потемнели ногти от голода. По соседству со мной жил богатый пекарь, большой развратник, которого счастье осыпало и ежедневно продолжало осыпать из рога изобилия. Все, за что он ни брался, удавалось ему, хотя он презирал религию со всеми ее добродетелями. Карманы его жилета всегда были набиты дукатами, на людях он любил похлопать по ним и говорил, что это и есть истинная религия.
Не в силах долее сносить страдания своих детей, Розенштраух послал одного из них купить хлеба в долг, но пекарь высокомерно отказал в кредите. Тем же вечером пекарь устраивал у себя вечеринку:
Уважаемые люди не брезговали приходить на бал к этому невоспитанному грубияну-пекарю, который не мог ни читать, ни писать, ни держать себя как приличный гражданин, потому что там можно было хорошо поесть и выпить, да и его обе дочки на выданье были недурны. <…> Недолгое время спустя до нас донесся звон бокалов, громкая болтовня и шум, которые в этих кругах принято называть весельем. Я же сидел с моими бедными детьми и сетовал на нужду. Католикам незачем изображать чистилище с пламенем и прочим, я со своими детьми был в таком чистилище…
В отчаянии от подобной несправедливости Розенштраух взмолился Богу, и случилось чудо. На пороге появилась дочь пекаря. В руках у нее был окорок, от которого она хотела поскорее избавиться, потому что случайно испортила его, посыпав сахаром вместо перца. Услышав слова Розенштрауха о том, что окорок слишком жирен для того, чтобы есть его сам по себе, она принесла ему и булочек. «Мы благодарили Бога за эти дары, и не разбирали, поперчен ли окорок или посахарен, ни того, что заставляет богатых подавать бедным – мы тут же собрались трапезничать». На вопрос Симона о том, что случилось с пекарем, Розенштраух печально ответил, что тот разорился и повесился, тем самым навечно обрекая свою душу на ужасные мучения[122].
Установить, насколько точно Симон воспроизвел слова Розенштрауха, не представляется возможным, но стиль этого повествования вполне согласуется с рассказами самого Розенштрауха, особенно в его мемуарах о 1812 годе. Актерский и проповеднический опыт автора очевиден в театральности и моралистичности его повествовательной техники. Он уделяет внимание зрительным и звуковым образам, воспроизводит беседы и монологи, талантливо перемежает в своих текстах интригу с юмором и медитативными размышлениями. Для его сочинений характерны живые описания авторских страхов и драматическая сюжетная линия, ведущая к морально удовлетворительной развязке. Мировоззрение автора зиждется на твердой вере в божественное вмешательство в людские судьбы и в то, что у развращенных заботами о тленном богачей меньше шансов умереть по-христиански и спастись в загробной жизни. Если Симон передал рассказ Розенштрауха дословно, то нельзя не впечатлиться остротой авторского чувства обиды и несправедливости, негодования на бездушие богачей, снобского презрения к вульгарности пекаря, общей враждебности к разгульному гедонизму и настояниями автора на том, что, невзирая на нищету, он был человеком, достойным почтения.
Судя по этим воспоминаниям, помимо бедности на уход из театра Розенштрауха сподвиг и другой фактор – недовольство своим низким социальным статусом. Немецкая диаспора относилась к актерам так же предвзято, как и немецкое общество в Германии; простые россияне не интересовались иноязычным театром, а российские элиты взирали на Немецкий театр с долей презрения. Мемуарист Филипп Филиппович Вигель пишет, что, «несмотря на общее недоброжелательство к Наполеоновой Франции, лучшая публика продолжала французский театр предпочитать всем прочим»[123]. Напротив, «три четверти петербургской публики из одних афишек только знали, что дают на немецком театре», и «никто не спешил ознакомиться с гениальными творениями Лессинга, Шиллера и Гете»[124].
Это неприятие Немецкого театра в какой-то степени коренилось в различиях художественного вкуса. Россияне, как писал аристократ Вигель, у французов научились почитать три аристотелева единства (действа, места и времени), которых Немецкий театр не соблюдал. Русские также выказывали шовинистическую вражду к немцам, усугубленную сословным снобизмом: «Французы, наши наставники, приучили нас видеть в немцах одно смешное, а мы насчет сих последних охотно разделяли мнение их, по врожденной, так сказать, инстинктивной к ним ненависти». Наполеоновские войны ослабили эту враждебность, но не искоренили ее до конца[125]. Одним из последствий подобного отношения было то, что знать, включая «немцев лучшего тона», обходила Немецкий театр стороной. Со снисходительной иронией Вигель отмечал, что это давало немецкой буржуазии редкую возможность занять как в буквальном, так и в переносном смысле в Немецком театре места, обычно отводившиеся аристократии: «Пасторы, аптекари, профессоры и медики занимают в нем кресла; семейства их – ложи всех ярусов; булочники, портные, сапожники – партер; подмастерья их, вероятно, раек»[126].
Представление о том, что Немецкий театр был скомпрометирован комической, специфически немецкой буржуазной вульгарностью, разделяли и россияне незнатного происхождения. Говоря о событиях полувековой давности, русский артист Петр Каратыгин (1805–1879), чьи воспоминания несомненно подверглись влиянию общепринятых в его окружении предрассудков, отзывался о Немецком театре 1820-х годов таким образом:
Помню я, что зрительная зала этого театра была очень некрасива: закоптелая позолота, грязные драпри у лож, тусклая люстра, на сцене ветхие декорации и кулисы, в коридорах повсюду деревянные лестницы, в уборных была постоянная копоть от неисправных ламп, наполненных чуть ли не постным маслом. <…> Помню я, как в этих спектаклях, за неимением статистов и хористов, нанимали просто булочников и колбасников, которым платили обычную плату за вечер; и благородные рыцари, гранды или римские патриции, по окончании спектакля, сняв знаки своих достоинств, отправлялись месить тесто, или начинять блютвурсты. <…> Немецкая публика, в то патриархальное время, была очень простодушна: мне несколько раз случалось видеть в ложах, даже 1го яруса, пожилых зрительниц в простых чепчиках, одетых подомашнему, с чулком, или филейным вязаньем в руках[127].
Образованный немецкий средний класс, к которому так стремился принадлежать Розенштраух, интериоризировал некоторые из этих обвинений. Представители этой прослойки тоже скрепя сердце восхищались французской элегантностью и стыдились невоспитанности своих сограждан. Однако в качестве альтернативного иеала они избирали не внешнюю утонченность нравов – немецкое Просвещение связывало ее с Францией и аристократией и считало поверхностной с моральной точки зрения, – а внутреннее духовное самоусовершенствование.
Как подобные взгляды отражались на отношении образованных немцев к санкт-петербургскому немецкоязычному театру, хорошо видно на примере театрального критика Фридриха Еноха Шрёдера. Выходец из буржуазной семьи в Мекленбурге, он прошел курс обучения в немецком университете и стал библиотекарем императора Павла I в Гатчине. После смерти Павла, когда большая часть гатчинской библиотеки была перевезена в Мраморный дворец во владение вел. кн. Константина Павловича, Шрёдер переехал вместе с ней. Он был одновременно страстным патриотом Германии и лояльным сторонником «просвещенного» российского режима и его войны с Наполеоном. Классовая принадлежность Шрёдера, образование, связи со двором и политические убеждения делали его типичным представителем немецкой интеллигенции в столице России[128].
Подобно просветителям в родной Германии, Шрёдер желал бы, чтобы Немецкий театр в Санкт-Петербурге больше делал для повышения морально-нравственного уровня публики. В какой-то мере виновата в том, что этого не происходило, была сама публика: «Культура, образование и вкус жителей местности», писал он, измеряются реакцией местного населения на пьесы, бывшие «плодом великой и благородной фантазии, в которых есть тенденция к высшему нравственному совершенству». Поэтому его так разочаровывал тот факт, что зрители сбегались на легкое развлечение, но не выказывали интереса к серьезной драматургии, такой как Шиллер[129]. Шрёдер возлагал вину и на актеров, потому что не все они были «одушевлены равным энтузиазмом по отношению к искусству» и преданы «его прекрасной и высокой цели, совершенству и нравственности»[130]. Когда по ходу пьесы им не требовалось ничего произносить, они мешали игре своих коллег «болтая друг с другом, хохоча или даже общаясь со зрителями в боковых ложах». Им следовало равняться на своих французских собратьев по профессии, на совесть заучивавших свои роли (и поэтому не требовавших суфлера) и оказывавших друг другу поддержку на сцене[131]. Шрёдера раздражало и присутствие «такого количества провинциализмов – с неправильным произношением – и особенно частыми грамматическими ошибками» в речи «в остальном вполне сносных представителей нашей сцены», что заставляло журналиста подозревать этих актеров в отсутствии приличного образования[132]. Одним из артистов, чьей речью он возмущался, был Розенштраух, очевидно говоривший с явственным силезским акцентом[133]. (Шрёдер также дает нам, возможно, единственное сохранившееся описание внешности Розенштрауха: «…крепкая, уже не молодая, но пышная фигура»[134].)
Желание Розенштрауха сменить профессию было, похоже, вызвано и иными причинами, чем бедность и недовольство своим положением в обществе. Его моральные и творческие потребности, явно не удовлетворенные театром, нашли выход в религии. Об этом свидетельствует Степан Петрович Жихарев – один из немногих россиян, страстно любивших Немецкий театр. Жихарев частенько беседовал с членами труппы. Через день после показа шиллеровских «Разбойников» в январе 1807 года – более чем за два года до того, как Розенштраух ушел из театра, – он оставил в своем дневнике следующую запись: «Франца Мора играл Розенштраух недурно. Он, говорят, очень добрый, религиозный человек и будто бы готовится в пасторы, но, в ожидании хорошего пастората, играет на театре»[135].
Возможно, обращению Розенштрауха к религии способствовало его личное горе. Он очень редко упоминал об этом, наверное, потому, что эта тема была для него слишком болезненна. Как мы уже видели, женился он в ноябре 1788 года, а его сын Вильгельм родился в сентябре 1792 года. Был у него и старший сын, предположительно родившийся между 1788 и 1791 годами: таким образом, семнадцать лет ему должно было исполниться между 1805 и 1808 годами. В 1834 году, утешая своего крымского друга пастора Килиуса после смерти его семнадцатилетнего сына, Розенштраух вспоминает сокрушительные потери, ознаменовавшие его собственное обращение к истинному христианству – вере, научившей его не бояться смерти:
Мой старший сын был очень похож на Вашего почившего Вольдемара: тот же возраст, примерное усердие. Он был убит в собственной комнате в Санкт-Петербурге, за несколько часов до того попрощавшись со мной цветущим и полным здоровья, а моя любимая дочь (Елизавета. – A.M.) умерла (в Москве в 1823 г. – A.M.), отослав мне, дедушке, приглашение окрестить ее новорожденного сына. Первая смерть настигла меня, когда я был фарисеем, христианином на словах, а не в сердце, и привела меня на грань отчаяния. Смерть моей дочери не исторгла из меня ни одной слезы[136].
Это письмо кажется единственным дошедшим до нас упоминанием старшего сына Розенштрауха.
Все более важным для Розенштрауха становилось участие в масонстве, конец которому положил Александр I в 1822 году, когда, испугавшись революционных заговоров, он закрыл все масонские ложи в России. В общем и целом масонские ложи радушно встречали «братьев» из других городов или стран; таким образом, членство в ложе помогало подобным Розенштрауху людям, чья профессия подразумевала географическую мобильность, встроиться в новое общество. Розенштраух и ранее состоял в масонских ложах – в Нидерландах и Мекленбурге, но настоящего расцвета его масонская карьера достигла только в России. Так же как и в германских государствах, в России масонские ложи появились в XVIII веке, попали под запрет после Французской революции, когда правительства опасались заговоров, – и вновь открылись около 1800 года, незадолго до прибытия Розенштрауха в Россию.
Членство в масонской ложе, вероятно, импонировало Розенштрауху по целому ряду причин. По крайней мере в теории масоны представляли собой нравственную элиту общества, обращались друг с другом на равных, невзирая на ранг и статус, и управляли своим сообществом на принципах демократии. Таким образом, масонство успокаивало беспокойство Розенштрауха о неадекватности его положения в обществе, предоставляло ему возможность завести знакомства за пределами ограниченного театрального «гетто» и позволяло ему выступить в роли общественного лидера. Вероятно, масонский призыв к личностному самоусовершенствованию и внеконфессиональной духовности отвечал и морально-религиозным устремлениям нашего героя. Наконец, вполне может быть, что ритуальность и перформативность франкмасонства удовлетворяли соответствующие потребности Розенштрауха не хуже, чем театр, а позже работа пастором.
Как и в случае с другими сторонами жизни Розенштрауха, восстановить ход его масонской карьеры нелегко. Он никогда открыто не писал и не говорил об этом в своих автобиографических сочинениях, поэтому нам остается полагаться на архивные документы, в некоторых случаях довольно трудно поддающиеся интерпретации. Последним указанием на масонскую деятельность Розенштрауха в Мекленбурге кажется диплом, выданный ему 30 августа 1804 года, перед самым его отъездом в Россию. Двумя годами позже Розенштраух предъявил этот диплом в Санкт-Петербурге. Французская надпись на обратной стороне документа гласит: «Рассмотрено в непорочной и совершенной ложе Сфинкса в Санкт-Петербурге 15 августа 1806 года, секр<етарь> Бенуа Фред<ерик> де Девель»[137]. Согласно энциклопедии русского масонства А.И. Серкова, Девель ранее принадлежал к гессенско-кассельской ложе[138], поэтому можно предполагать, что Розенштраух был с ним знаком лично или хотя бы через общих знакомых. О какой «ложе Сфинкса» идет речь в надписи, непонятно: энциклопедия Серкова упоминает две ложи с таким названием, при этом Девель, похоже, не числится членом ни одной из них[139]. Однако Девель точно был членом, а в какой-то момент и председателем (мастером стула) еще одной ложи – Пеликана[140]. Известно, что Розенштраух был действительным членом этой ложи; мало того, именно она стала отправной точкой его российской масонской карьеры.
Ложа Пеликана существовала еще при Екатерине II и, когда в 1805 году Александр I разрешил возобновить ее деятельность, была в его честь переименована в ложу Александра благотворительности к коронованному Пеликану. Из-за непрерывно растущего числа членов и их социально-этнического разнообразия эта ложа в конце концов разделилась натрое. Одна из отпочковавшихся организаций, под названием ложа Елизаветы к Добродетели, была образована в 1809 году и названа в честь императрицы. Предполагалось, что собрания будут проводиться на французском языке, но в конечном итоге ложа перешла на русский: ее членами были преимущественно россияне, в том числе представители аристократической элиты. Другая ложа, Петра к Правде, была основана в мае 1810 года и состояла в основном из представителей среднего класса немецкого происхождения и лютеранского вероисповедания, хотя среди чиновников этой ложи попадались также итальянцы, французы и россияне. В третью ложу, сохранившую название Александра благотворительности к коронованному Пеликану, входило больше немецких иммигрантов и больше предпринимателей, чем в Ложу Петра к Правде[141]. Сообразно с различиями в социальном и этническом составе трех лож разнились и основные направления их деятельности. По словам А.И. Серкова, «в ложе Александра предпочтение отдавалось филантропии, в ложе Петра к Правде тщательно изучались исторические события и смысл масонских символов, в ложе Елизаветы к Добродетели все было направлено на размышления об идее божественной сущности»[142].
Главным чиновником ложи был мастер стула. Он был самым видным представителем ложи, поскольку именно он проводил ритуальные церемонии и собрания и произносил речи перед собравшимися. Не менее важную роль мастер стула играл и за кулисами, например, он председательствовал на собраниях чиновников ложи, где обсуждались кандидатуры новых членов и пожалования существующим членам более высоких степеней. Мастер стула также отвечал за связи с великой ложей, к которой относился его филиал. В некоторых ложах мастер стула избирался пожизненно, но чаще всего – и именно этой практики придерживалась и ложа Александра благотворительности к коронованному Пеликану – мастер стула избирался из числа членов ложи сроком на один год, причем отсчет начинался и заканчивался Иоанновым днем (24 июня)[143]. В 1810–1811 годах мастером стула был Розенштраух[144]. Когда в мае 1811 года Розенштраух ушел в отставку и на неопределенный период вообще покинул ложу, возможно, в преддверии своего скорого переезда в Москву, его собратья по ложе написали ему письмо, в котором высказывали свое восхищение его работой и недоумение по поводу его внезапного ухода[145].
Вхождение в ложу Александра благотворительности к коронованному Пеликану помогло Розенштрауху интегрироваться в среде, которая, хоть и ограничивалась преимущественно немецкой диаспорой, тем не менее занимала более высокое место на социальной лестнице, чем театр. Список членов этой ложи в энциклопедии Серкова позволяет определить социальное положение ста человек (в том числе Розенштрауха), бывших членами ложи одновременно с ним, то есть по конец 1811 года. Очень немногие из них принадлежали ко двору или государственной элите (предпочитавшей общаться по-французски). Тем не менее все эти люди относились к образованному и благополучному среднему классу. Примерно треть состояла на государственной службе: из них 10 были армейскими или флотскими офицерами и 26 чиновниками[146]. Другая треть занималась коммерцией: 28 человек были купцами, пятеро имели другие профессии (гравёр, капитан судна и т. п.). Оставшаяся треть членов подвизалась в области медицины, религии или культуры: 14 человек были врачами, лекарями и аптекарями, трое пасторами, восемь музыкантами, трое художниками и еще трое учеными или учителями[147].
Членство в масонской ложе повысило социальный статус Розенштрауха и дало ему возможность обзавестись ценными знакомствами. Одним из его собратьев по ложе был Павел Павлович ПомианПезаровиус – позже один из начальников Розенштрауха по лютеранской церковной администрации. Другой член ложи, купец по имени Георг Кинен, возможно, был тем самым человеком, который впоследствии женился на дочери Розенштрауха. Возможно, и другие собратья по маснству предоставляли Розенштрауху возможность вырваться за рамки узкой театральной субкультуры. Как мы уже видели ранее, театральный критик журналист Фридрих Енох Шрёдер нелицеприятно отзывался в печати об ошибках в произношении и кажущихся пробелах в образовании у Розенштрауха и его коллег по театру. Однако Шрёдер был также и франкмасоном, и в 1816 году, когда он как один из чиновников ложи Петра к Правде подписывал свидетельство о пожаловании нашему герою почетного членства, он говорил о нем с гораздо большим пиететом: «…честному немецкому мужу, готовому услужить другу человечества, благородному каменщику, другу всякой добродетели, врагу всякого порока, Ему, чьей работой и примером десять лет назад снова процвело истинное масонство в Санкт-Петербурге»[148].
Географический центр «Петербурга Розенштрауха» находился в одной из самых богатых и аристократических частей города, между Дворцовой площадью и Литейным проспектом. В 1808–1809 годах Розенштраух снял квартиру на юго-восточном углу Невского проспекта и Екатерининского канала[149]. Мы не знаем, прихожанином какой именно церкви он был, но две из трех санкт-петербургских немецких лютеранских церквей располагались именно в этом районе: храм Св. Петра на Невском проспекте напротив Казанского собора и церковь Св. Анны на нынешней Кирочной улице близ Литейного проспекта. Идя по Невскому проспекту вверх, Розенштраух доходил до Немецкого театра на Дворцовой площади. Идя в обратном направлении, вниз по Невскому и по мосту через Фонтанку, он попадал на место проведения собраний ложи Александра благотворительности к коронованному Пеликану, ныне наб. Фонтанки, 26[150]. (По другим данным, ложа собиралась в Новом переулке, ныне пер. Антоненко, между Исаакиевской площадью и Казанской улицей[151].)
Здание, где Розенштраух снимал квартиру, было типичным как для архитектуры этого района столицы – это было трехэтажное здание в стиле раннего классицизма[152], так и для того типа социальной мобильности, который отличал населяющих этот район людей. Розенштраух был бедным, но амбициозным иммигрантом из Европы. Другую квартиру в том же доме занимал Андрей Никифорович Воронихин, родившийся крепостным, но позже ставший одним из самых знаменитых российских архитекторов; как раз в этот период Воронихин руководил сооружением Казанского собора, ровнехонько через мост от того места, где он и Розенштраух снимали жилье. Владелец квартирного дома, Сила Глазунов, был неграмотным купцом, выбившимся в миллионеры. Объединяло всех троих масонство: сын Глазунова Константин был членом ложи Елизаветы к Добродетели, а Воронихин, масон со стажем, получил приглашение присоединиться к той же ложе в 1812 году[153].
Окружение Розенштрауха в Санкт-Петербурге в основном состояло из театральной среды и немецкой диаспоры, однако в какой-то мере он принимал участие и в жизни российских элит. По крайней мере имеются любопытные свидетельства того, что он входил в круг мистиков и франкмасонов, сложившийся вокруг императора Александра I в период до и после 1812 года.
Розенштраух был каким-то образом связан с влиятельным франкмасоном Александром Федоровичем Лабзиным – мистиком, сильно интересовавшимся немецким пиетизмом. В 1810 году Лабзин стал почетным членом ложи Александра благотворительности к коронованному Пеликану[154], а в 1819 году Розенштраух в свою очередь был избран почетным членом лабзинской ложи Умирающего сфинкса[155]. В 1817 году Розенштраух фигурирует в числе подписчиков выпускаемого Лабзиным мистического журнала «Сионский вестник». В 1823 году, когда кн. Александр Николаевич Голицын увещевал Лабзина тем, что тот не направляет свое перо «на славу Господа нашего Иисуса Христа», Лабзин писал, что «оно на то и употреблено, чему я имею собственноручные свидетельства, даже и не от русских. Спросите, например, переселенного в Харьков пастора Розенштрауха: кто посеял в него семя христианства?»[156].
Розенштраух свел знакомство и с императором Александром I, а также с обер-прокурором Св. синода кн. А.Н. Голицыным. Очевидно, Александр I лично посетил несколько собраний ложи Александра благотворительности к коронованному Пеликану[157], а в 1821 году он писал кн. Голицыну, что «сделал карандашные пометки и загнул страницы в тех местах одного из писем Розенштрауха, которые заслуживают Вашего внимания. Я согласен с тем, что он говорит». К сожалению, письмо Розенштрауха отсутствует в архивном фонде, где хранится письмо самого Александра, но по контексту явственно видно, что Розенштраух не раз писал царю, скорее всего на духовные темы, и что Александр делился этими письмами с Голицыным[158].
В 1809 году Розенштраух окончательно ушел из театра и стал купцом, а в 1811 году переехал в Москву.
Для иностранца переезд в Москву был совсем не тем, чем он был для рядового россиянина. Россияне обычно жили в провинциях, и в их глазах и Москва, и Санкт-Петербург были столицами и потому имели равный статус. Что до представителей Запада, то они обычно въезжали в Россию через Санкт-Петербург – главный порт и самый космополитичный город страны. Немногие из них добирались до Москвы, и уж совсем мало кто бывал в российских провинциях. «Поскребите русского, и вы найдете татарина» (Grattez le Russe et vous trouverez le Tartare) – это высказывание в полной мере отражает представления многих иностранцев о том, что ожидает их за пределами Санкт-Петербурга.
Полезной отправной точкой для понимания решения Розенштрауха о смене рода деятельности на предпринимательство и о переезде в Москву является концепция историка Юрия Слезкина о «меркурианцах». Общества раннего Нового времени, утверждает Слезкин, состояли в основном из землепашцев и управлялись военной аристократией и священством. Социальные функции, отличные от сельского хозяйства, военного дела или религии, такие как ремесленничество, торговля, образование и увеселение, часто становились уделом «кочевых посредников», таких как евреи или цыгане в Центральной и Восточной Европе, греки и армяне в Оттоманской империи или китайцы в Юго-Восточной Азии. Слезкин называет эти группы «меркурианцами», в честь Меркурия – бога-покровителя бродяг и хитрецов. Меркурианцы вели более «передовой» образ жизни, чем окружающее их большинство, в том смысле, что они были географически мобильны и ключом к продвижению в обществе считали деньги и образование, а не сельское хозяйство или ведение войны. Чтобы выполнять свои социальные функции и таким образом зарабатывать себе на жизнь, меркурианцы должны были владеть культурой большинства, но при этом противостоять ассимиляции с ней. Они выучивали язык окружающего населения, но сохраняли свой собственный. Они верили в свое религиозное или культурное превосходство, избегали смешанных браков и поддерживали тесные семейно-предпринимательские, религиозные и прочие связи с себе подобными, часто на больших географических дистанциях. Большинство населения испытывало по отношению к меркурианцам двойственные чувства. С одной стороны, оно восхищалось их навыками и облагало налогами их доходы, с другой – неприязненно относилось к их обособленности, не доверяло им как иванам без роду без племени и презирало за то, что они не занимаются единственно почтенными в глазах большинства делами, а именно не пашут и не воюют[159].
Большую часть своей жизни Розенштраух был меркурианцем. В Германии XVIII века актеры, с их тесно сплоченными компаниями, бродячим образом жизни и скандальной репутацией, воспринимались обществом с той же смесью восхищения и презрения, что и цыгане: персонаж романа Гёте «Ученические годы Вильгельма Мейстера» называет бродячих актеров «цыганами»[160], а в XIX веке слово «богема» – производное от «Богемии», ошибочно считавшейся родиной цыган, стало коллективным обозначением писателей, художников и актеров, презиравших условности буржуазного общества.
Когда Розенштраух перебрался в Россию, да и потом, когда он ушел из театра, он не перестал быть меркурианцем. «Самыми главными меркурианцами Российской империи были немцы, – пишет Слезкин. – Опираясь на этническую и религиозную автономию, высокий уровень грамотности, сильные общинные институты, чувство культурного превосходства, международные родственные связи и множество специально культивируемых технических и лингвистических навыков, немцы были лицом (настоящим, из плоти и крови) бесконечной российской модернизации»[161]. Не все российские немцы были меркурианцами, продолжает Слезкин, но только те, кто занимал особую нишу в этнически русском окружении:
Меркурианцами не были ни жившие у себя дома остзейские бароны, ни немецкие купцы немецкого города Риги, ни многочисленные немецкие крестьяне, импортированные во внутренние районы России. Очевидно, однако, что «немцы», знакомые большинству российских горожан, были типичными меркурианскими посредниками и поставщиками услуг: ремесленниками, предпринимателями и профессионалами[162].
Розенштраух принадлежал к тому типу немцев, который Слезкин считает «типичными меркурианцами». Он вполне мог вернуться в преимущественно немецкую среду, переехав в Ригу или другой балтийский город, но там ему не удалось бы избавиться от несмываемого пятна на репутации – актерского прошлого. Занявшись вместо этого торговлей импортными предметами роскоши, он встроился в российскую социальную систему, однако же нашел себе нишу, обычно отводившуюся в ней немцам и другим иностранцам.
У меня нет данных о коммерческих начинаниях Розенштрауха в Санкт-Петербурге, но в Москве он продавал, помимо прочего, эстрагонный уксус (с. 251), чернила (с. 252), ленты[163], шоколад, духи, карандаши, и штопоры[164], а его магазин описывали как «косметический»[165]. По окончании наполеоновской оккупации, когда москвичи подавали в правительство прошения о денежном вспомоществовании, Розенштраух сообщал, что в 1812 году он потерял товаров на сумму 50 000 рублей[166]. Нет никакой возможности узнать, точна эта оценка или завышена, но сам факт ее включения в прошение свидетельствует о том, что Розенштраух верил, что власти сочтут ее достоверной. Эта огромная сумма соответствовала годовому оброку нескольких тысяч крепостных, или капиталу, необходимому для вступления в первую купеческую гильдию, или 25 годовым зарплатам, подобным той, какую двумя годами ранее, в 1810 году, предлагала Розенштрауху Дирекция императорских театров.
Чтобы встать на ноги, Розенштраух, похоже, воспользовался своими театральными, масонскими и семейными связями. Можно представить, что первоначальным капиталом и первыми деловыми связями он обзавелся в Санкт-Петербурге при помощи немецких купцов, многие из которых посещали театр и состояли в масонских организациях. Успеха в коммерческой деятельности он добился уже в Москве, где хватало знатных российских клиентов и меньше было конкуренции со стороны других западных торговцев. Магазин и жилье он снял в Москве у «богача Демидова из Петербурга» (с. 236). Знакомством с Демидовыми он вполне мог быть обязан немецкой общине: немецкий театр, существовавший в Москве в 1803–1806 годах, выступал в усадьбе Демидовых в Гороховском переулке, 4, – в сердце Немецкой слободы и недалеко от двух московских немецких лютеранских церквей[167].
Продаваемые Розенштраухом товары еженедельно посылал ему из Санкт-Петербурга его сын Вильгельм, которого Иоганн-Амвросий явно прочил себе в партнеры и наследники (с. 257). Как мы уже видели ранее, Вильгельм, родившийся в 1792 году, получил образование, подобающее потенциальному члену немецкого торгового класса в России. Он учился на фармацевта – распространенную и почитаемую среди российских немцев профессию. Вильгельм свободно владел немецким, французским и русским – языками и коммерции, и приличного общества. Учеба в Дерптском университете, надо полагать, не только расширила его интеллектуальный кругозор, но и наделила его личными связями, которые затем помогли ему встроиться в образованное российское немецкое общество. Отец Вильгельма не пускал его и других своих детей на сцену[168], и Вильгельм, равно как и одна из его сестер, нашли себе приличные брачные партии. Розенштрауху сильно мешали в жизни актерское прошлое, слабое знание иностранных языков, отсутствие формального образования и вообще необходимость помалкивать о своем происхождении и послужном списке, то есть именно о том, на основании чего люди узнавали и проникались доверием друг к другу. Он явно не хотел подвергать своих детей тем же испытаниям, а потому не жалел ни сил, ни денег, чтобы помочь их социальному возвышению в рамках российской немецкой диаспоры.
Магазин Розенштрауха располагался на Кузнецком мосту, на углу с Рождественкой (с. 225). За единственным исключением Невского проспекта, именно элегантные иностранные магазины на Кузнецком мосту были эпицентром утонченного европейского «меркурианизма», обслуживавшего весь российский высший класс. Для русской знати демонстративно «европеизированный» (а потому неродной для большинства их сограждан) стиль жизни был способом показать свой высокий социальный статус. Этому образу жизни приходилось специально учиться, подобно тому как актеру приходится вживаться в ту или иную роль. В результате, по мнению Юрия Михайловича Лотмана, среди русской знати «бытовая жизнь приобретала черты театра», а те сферы жизни, которые в западных странах «воспринимаются как ‘естественные’ и незначимые», преисполнялись «ритуализацией и семиотизацией»[169]. В этой театрализованной культуре иностранные купцы на Кузнецком мосту выполняли две функции одновременно: они поставляли материальные атрибуты «европейского» образа жизни, а кроме того, как «истинные» европейцы, предоставляли русской знати возможность публично продемонстрировать свое владение «европейскими» правилами поведения.
Розенштраух, несомненно, был хорошо подготовлен к этой роли. Он достаточно пожил в столицах германских княжеств и в Санкт-Петербурге, чтобы разбираться во вкусах и манерах аристократов, а его масонская карьера убедительно доказывает, что он умел добиваться людского расположения и был уверен в себе. В своей жизни он познал все, от горькой бедности до роскоши царских дворов, и этот опыт наделял его, по словам одного из друзей, способностью на равных общаться с людьми из самых разных кругов[170]. Это его умение хорошо прослеживается в его мемуарах о 1812 годе, где он рассказывает, как, несмотря на слабое владение русским или французским, он успешно наладил потенциально взрывоопасные отношения как с русскими крепостными, так и с французскими аристократами. Театральный опыт тоже мог ему пригодиться. Как актер он, вероятно, хорошо чувствовал настроение публики, что не могло не сказаться на том, как он играл роль честного предпринимателя или, скажем, продавца, предугадывающего все желания клиента. Возможно, театральный опыт помогал ему и в построении психологического портрета покупателя. По словам Лотмана, в эту эпоху театр как в России, так и в Европе оказывал огромное влияние на поведение и образ мысли образованных людей. Например, театры часто показывали комедию и трагедию бок о бок, в один и тот же вечер, так что артистам следовало уметь быстро переключаться с одной роли на другую; да и зрители тоже приобретали привычку быстро переключаться с одного речевого или поведенческого регистра на другой. Трагедии трактовали действия и поступки индивидов как события всемирно-исторического масштаба; точно так же члены поколения, пережившего Наполеоновские войны, воображали собственный жизненный путь[171]. Таким образом, причастность к театру наверняка наделяла Розенштрауха способностью лучше понимать образ мысли и воображение своих современников.
Положение купца с Кузнецкого моста было чревато определенным риском. Юрий Слезкин утверждает, что как представители социальной, культурной и географической мобильности, то есть модернизации, казавшейся угрозой традиционным иерархиям и ценностям, меркурианцы XIX и XX веков часто навлекали на себя вражду со стороны большинства населения. Во многих странах объектом неприязненного отношения были евреи, во внутренних же великорусских губерниях, где евреям селиться было запрещено, козлами отпущения часто становились немцы[172]. Наравне с ними страдали и выходцы из Франции: в период Наполеоновских войн их подозревали в сотрудничестве с противником и обвиняли в том, что по их наущению русская знать отвергает культуру собственного народа.
Чаще всего гнев русских «патриотов» изливался на магазины на Кузнецком мосту, многие из которых принадлежали французам. По словам Сергея Николаевича Глинки, Кузнецкий мост («…под сим общим наименованием, – писал он, – разумею я все модные лавки, все магазины, все жилища модных портных»[173]) распространял «роскошь и моду», развращавшие русский дух. Они вредили государству и социальному порядку, отвращая знать от исполнения долга перед обществом и позволяя слугам щеголять в господском обличье. Они вредили семье, поощряя женское бесстыдство. Глинка считал, что «язва моды и роскоши, заразив все состояния, погасила любовь к Отечеству, разорвала все общественные и родственные связи»[174]. Граф Федор Васильевич Ростопчин, будущий московский главнокомандующий, высказал схожее мнение, критикуя франкофильствующее знатное юношество: «Как им стоять за Веру, за Царя и за Отечество, когда они закону Божьему не учены и когда Русских считают за медведей? <…> Отечество их на Кузнецком мосту, а Царство небесное Париж. Родителей не уважают, стариков презирают, и быв ничто, хотят быть все»[175]. Что обо всем этом думали простые люди эпохи Розенштрауха, документы не сообщают, но определенные намеки содержатся в очерке 1853 года – сочинении Ивана Тимофеевича Кокорева (1825–1853). Живший в бедности сын крепостного, Кокорев был не понаслышке знаком с миром московского дна. В одном из его рассказов добродетельная, но наивная юная белошвейка с «одной из самых укромных улиц Москвы» хочет купить на Кузнецком мосту косыночку, но высокомерное презрение продавца и «блестящих покупательниц» доводит ее до горьких слез[176]. В этом очерке Кузнецкий мост воплощает собой унижение простого русского народа русской знатью и ее западными союзниками.
Розенштраух переехал из Санкт-Петербурга в Москву в ноябре 1811 года (с. 256), как раз перед началом горячего зимнего сезона, когда провинциальное дворянство массово наезжало в Москву общаться и делать покупки. Десятью месяцами позже в Москву вступили войска Наполеона.
Глава 3
Война 1812 года
Розенштраух озаглавил свои мемуары «Исторические происшествия в Москве 1812 года». Хоть он и в самом деле стал очевидцем значимых исторических событий, его воспоминания не выказывают ни малейшего интереса к Истории с большой буквы «И». В них почти ничего не говорится о Французской революции или наполеоновской империи, несмотря даже на то, что нашествие 1812 года было третьей французской войной на его счету (после войн 1793–1795 годов в Голландии и на Рейне). Мемуарист обходит молчанием и вопрос о российском абсолютизме и крепостничестве, – что отличает его почти от всех писавших о России представителей Запада. Почти вся взрослая жизнь нашего автора прошла в период войн с революционной Францией и Наполеоном, но политический и идеологический контекст этих войн никоим образом не сказался на его сочинениях.
Это не может не удивлять современного читателя. Начиная с Французской революции войны воспринимались как конфликты между целыми нациями. В культуре России и Германии эта парадигма стала результатом того, что впоследствии было названо Отечественной войной 1812 года и Освободительной войной 1813 года. Многим современникам эти войны казались борьбой за национальное освобождение либо (как в случае Александра I) крестовым походом против сатанинского зла революции. Почему же Розенштраух не разделял этих воззрений?
Розенштраух не был националистом в том смысле, какой это слово стало приобретать в начале XIX века, то есть человеком, желающим, чтобы государство было идентично нации. В его мышлении гордое чувство принадлежности к немецкому народу сочеталось с верноподданическим отношением к монарху. Подобный образ мысли был типичен для большей части образованного общества в Германии XVIII века, и немецкие иммигранты в России сохраняли его на протяжении всего XIX столетия. Это заметно по воспоминаниям Розенштрауха о 1812 годе: он испытывает национальную солидарность с выходцами из Германии вне зависимости от того, на чьей стороне они воюют, но, говоря об «Отечестве» (Vaterland), которому он политически лоялен (с. 223, 256, 262), наш герой всегда подразумевает многонациональное государство императора всероссийского.
Причина, по которой идеалы национализма не были ему близки, крылась, вероятно, в его социальном положении. Он мало соприкасался с националистическими кругами, такими как немецкие студенческие корпорации или русское офицерство. По большому счету, как меркурианцу национализм военного времени представлялся ему исключительно угрозой, поскольку национализм, помимо прочего, стремился сгладить социальное напряжение внутри нации за счет общей ксенофобии и военной героики. Иностранные торговцы процветали благодаря тому, что способствовали российским элитам вести гедонистический – заграничный – образ жизни. Именно поэтому Розенштраух оказывался в опасной изоляции. Московское простонародье видело в нем богатого иностранца, прислуживающего их господам, что, конечно, заставляло выказывать ему уважение, но одновременно делало его объектом классовой и шовинистической ненависти. Напротив, в глазах своих французских постояльцев во время оккупации Москвы Великой армией, Розенштраух был политически ненадежным представителем гражданского населения, которому они тем не менее были благодарны за убежище во враждебной и не поддающейся пониманию стране. Меркурианская сущность Розенштрауха накладывала отпечаток на его взаимодействие с обеими сторонами: обе почитали его одновременно своим и чужим, и он выживал исключительно благодаря собственной находчивости, накоплениям и умению быть полезным тому, кто в данный момент находился у власти.
В отличие от некоторых других людей, разделявших его масонские и пиетистские убеждения, Розенштраух также не считал войну крестовым походом против врагов Божьих. Проведя детство и юность в Пруссии Фридриха Великого, он, вероятно, хорошо усвоил, что война – это дело королей, а не простого народа. В своих масонских речах (см. ниже) Розенштраух утверждал, что историей движет не политика, но духовное развитие просвещенных людей, а его размышления о религии были сосредоточены на взаимоотношениях между Богом и отдельным человеком, а не целым государством или нацией.
Следует помнить и о том, что Розенштраух взялся записывать свои воспоминания только в 1835 году. К тому времени ему было уже шестьдесят семь лет и он был пастором в Харькове. С годами его религиозность усугубилась и еще больше изолировала его от окружающей действительности. Он мало читал, редко говорил о прошлом и не проявлял интереса ни к истории, ни к политике. Когда в Харьков прибывали высокопоставленные гости, сообщает друг Розенштрауха Иоганн Филипп Симон, другие видные местные деятели спешили засвидетельствовать им свое почтение, но «лютеранский пастор оставался в своем кабинете, сидя в кресле и вертя на столе, затянутом тонкой навощенной тафтой, табакерку на манер волчка. Так он любил проводить время. Никогда вне церкви я не видал его с книгой в руках»[177]. Воспоминания Розенштрауха о пережитом были точны и подробны, однако он запамятовал название сражения при Бородино (с. 228), которое он наверняка знал бы, если бы чаще беседовал о войне 1812 года.
На воспоминания нашего героя наложили свой отпечаток как прошествие времени, так и изменения в его собственном положении. Ближе к началу мемуаров он пишет (с. 223):
Не знаю, опубликовано ли кем-нибудь описание событий этого необычайного и богатого последствиями времени? Мне не попалось ни одной такой книги <…> Я был тогда лицом частным и судил обо всем происходившем прежде всего относительно себя самого, и лишь потом уже в отношении отечества и своих ближних. Поскольку же я затем приучился тесно связывать все происходящие во времени события с вечностью, то и назад, на все происшедшее тогда, я смотрю в этом, единственно правильном, свете, чтобы сообщить нижеследующим заметкам интерес и для христиан.
Зачем и для кого он записал свои воспоминания, неясно. Общая сюжетная линия довольно слаба: мы мало узнаем о жизни героя до или после войны, да и анализ воздействия военного опыта на автора оставляет желать лучшего. Скорее, в центре внимания рассказчика – отдельные эпизоды, цель которых – проиллюстрировать его моральные выводы и показать, как Провидение вмешивалось в его жизнь. Розенштраух был занимательным рассказчиком с проповеднической склонностью к морализаторству и актерским вкусом к драме – таковы формообразующие элементы его мемуаров.
Судя по весьма скудной доступной нам информации, события, о которых эти мемуары повествуют, фактологически верны. Когда я впервые столкнулся с этими воспоминаниями в Отделе письменных источников Государственного исторического музея, я не знал, кто мог их написать, поскольку автор не упоминает в тексте своей фамилии. Он сообщает, впрочем, что русские называли его Иван Иванычем и что он был торговцем предметами роскоши, недавно прибывшим из Санкт-Петербурга и спрятавшим свои товары на складах купцов Беккера и Ларме, и в аптеке Воспитательного дома впоследствии подвергшихся разграблению. В тексте также упоминается купец Шиллинг[178]. По счастливой случайности в Центральном историческом архиве Москвы я обнаружил документ, содержащий ту же фрагментарную информацию, благодаря чему стало возможным идентифицировать автора мемуаров:
[Писарским почерком] В Комиссию, по Высочайшему повелению учрежденную для рассмотрения прошений обывателей Московской Столицы и Губернии потерпевших разорение от неприятеля.
Санктпетербургского 3. гильдии купца и Московского 2. Гильдии Гостя Ивана Иванова сына Розенштраух
Прошение.
Во время нашествия на Москву неприятеля, лишился я имущества своего, состоящего из Косметического товара, который был положен для охранения в Варварской Аптеке, у Купцов: Шилинга и Беккера, у Фабриканта Ларме, Аргузена и Гиппиуса, всего по цене по сущей справедливости и долгу присяги на Пятьдесят Тысяч Рублей. Имения никакого и нигде не имею. А как не имею средств к продолжению торговли моей Косметическими товарами, то я всепокорнейше и прошу оказать мне вспомоществование.
[Почерком Розенштрауха] К сему прошениu (sic) С. Петербургской 3. Гильдии купец, и московской 2. Гильдии Гость Иван Иванов сын Розенштраух рuку (sic) приложил.
[Писарским почерком] Июля 28 дня 1813 год.
Розенштрауху явно не слишком часто приходилось писать по-русски: в двух словах, прошени and рку, он по ошибке заменил кириллические буквы «у» и «ю» их латинским эквивалентом, «u»[179].
В какой-то степени повествование Розенштрауха о войне напоминает аналогичные отчеты россиян средней руки, оставшихся в Москве после вступления в нее французов[180]. Этих авторов глубоко потряс крах цивилизованной жизни. Наполеоновские солдаты и русские крестьяне грабили Москву, пожары довершали разрушение. Развалины разили разложением и затхлостью; неестественная тишина, чувство незащищенности и ночная тьма накрыли город. Люди с благодарностью вспоминали отдельных французских офицеров, пытавшихся навести порядок, но в основном наполеоновское войско запомнилось им как разбойничья орда. Эти мотивы всплывают и в мемуарах Розенштрауха. При этом русскоязычный дискурс о Москве 1812 года явно не оказал на него никакого влияния: как мы видели, он даже не знал, было ли хоть что-либо написано на тему оккупации. Нет, определяющим фактором в данном случае было его социальное положение. С российскими коллегами по перу Розенштрауха связывала общая принадлежность к городскому среднему слою, однако его личное переживание войны было дополнительно окрашено представлениями о национальности, религии, классе и гендерном поведении, типичными для представителя иностранного купечества.
Тема классовой борьбы часто всплывает как у Розенштрауха, так и в воспоминаниях русских авторов. Русские мемуаристы выражают обиду на элиты и крестьян. Представителей высших классов они обвиняли в бесчестности и трусости, потому что ростопчинская пропаганда убеждала народ, что неприятель никогда не дойдет до Москвы, а когда французы все же до нее добрались, богачи скупили последних лошадей и сбежали, оставив бедняков на произвол судьбы. Обида на крестьян была не менее горькой как потому, что они толпами набегали грабить оставленный город, так и из-за враждебного отношения, с которым московских беженцев подчас встречали в сельской местности.
Описывая неразумность, жадность и враждебность крестьян, Розенштраух вторит русскоязычным москвичам средней руки. Однако положение меркурианца, тесно связанного с российскими элитами, также оказывало влияние на его видение социальной системы. Грубо говоря, Розенштраух разделял россиян на две категории. Под одну из них подпадала европеизированная знать и чиновники, о которых он пишет с почтением. Говоря же об остальном населении, он воспроизводит общие места, расхожие среди российской знати и представителей западных стран: что простые россияне были наивны и полны предрассудков; что они были задиристы, если могли себе это позволить, но что проявление силы легко подавляло их. Хоть он и превратился из купца в клирика, Розенштраух не испытывал особой привязанности к своим русским коллегам по профессии и призванию: в его мемуарах священники проявляют ту же безрассудность, что и простонародье, а русские купцы и вовсе ни разу не упоминаются. Поименно он называет в основном образованных иностранцев: людей, связанных с театром (Чермак, Хальтенхоф, Зук), купцов (Шиллинг, Ларме, Кнауф, Беккер, Арман), чиновников (Гранжан, Гельман). Простых же русских Розенштраух и вовсе почти всегда описывает исключительно как безымянных представителей социальных групп: «крестьянка», «казак», «священнослужитель» и так далее.
Розенштрауху простонародье представлялось глубоко неразумным. Его замечания и суждения по этому поводу отнюдь не оригинальны: напротив, они представляют собой итог многовекового процесса, в ходе которого образованные европейцы обрели то, что сегодня считается характеристиками психологии современного человека. По мнению социолога Норберта Элиаса, средневековые рыцари отличались грубостью нравов и необузданностью: их психология была в чем-то схожа с психологией ребенка. Потомкам же этих рыцарей, вся жизнь которых проходила при дворе того или иного правителя, пришлось научиться сдерживать порывы и просчитывать долгосрочные последствия своих поступков – иными словами, обрести психологию современного взрослого человека. Начатый при дворе «процесс цивилизации» распространился на буржуазию и общество в целом[181]. Если Элиас считает основным двигателем «процесса цивилизации» придворную культуру, то историк Томас Хаскелл приписывает ведущую роль в этом процессе подъему капитализма: по мере роста и усложнения торговой деятельности купцам приходилось учиться видеть более сложные причинно-следственные связи между событиями, даже если те отстоят друг от друга во времени и пространстве.
Розенштраух, влияние на которого оказали как придворная культура, так и капитализм, считал, что простолюдию не хватает способности контролировать свое поведение и смотреть в будущее. Если верить мемуарам нашего героя, ему удавалось избежать опасных столкновений как с солдатами Наполеона, так и с русскими крестьянами благодаря тому, что в каждом случае он точно знал, как они себя поведут, а после 1812 года он разбогател и добился успеха не в последнюю очередь потому, что не поддался соблазну обогатиться грабежом (см., например, с. 268). Напротив, русское простонародье не в состоянии было держать себя в руках и не видело дальше собственного носа; именно поэтому им нужна была отеческая защита и одновременно жесткая рука, которая держала бы их в узде (например, с. 273–274). Розенштраух, как вытекает из его воспоминаний, мыслил и вел себя как взрослый, а крестьяне как дети.
Отзыв Розенштрауха о низших сословиях свидетельствует о том, что он думал как человек XVIII, а не XIX века. До Французской революции европейские и российские элиты считали низшие сословия похожими на безрассудных детей, но не злонамеренными по сути своей. Однако травма Французской революции заставила западноевропейскую буржуазию бояться простого народа, который все чаще виделся им как сборище бесчеловечных дикарей. Представление об этом отношении к народу дает популярный роман «Парижские тайны» (1842–1843), в котором французский романист Эжен Сю обещает описать обитателей трущоб французской столицы: «Страшные, наводящие ужас типажи кишмя кишели в этих нечистых клоаках, как пресмыкающиеся на болоте»[182]. Возможно, как раз потому, что Розенштраух мало соприкасался с современной ему европейской жизнью, в его воспоминаниях, хоть и написанных всего за несколько лет до выхода в свет «Парижских тайн», подобных кошмаров нет. Московский люд выступает в них как безрассудная чернь, а не как потерявшая всякое подобие человечности толпа.
Столкнувшись с русским безрассудством, Розенштраух, по его словам, вел себя храбро и рационально, подобно отцу впавших в истерику детей. Например, после отступления французов из Москвы и первого взрыва в Кремле слуги дома Розенштрауха ворвались в кладовые, где хранилось имущество Демидовых. Оказавшего им сопротивление Розенштрауха они связали и изготовились убить. В этот момент центр столицы сотряс второй взрыв. Грабители подрастерялись, и тогда Розенштраух предложил им разделаться с ним побыстрее, не дожидаясь следующего взрыва, который уж наверняка снесет город с лица земли и предаст их мучительной смерти: «Тогда вы навеки попадете в преисподнюю как разбойники и убийцы, а я на небо, потому что я как честный человек противился грабежу имения Вашего господина» (с. 273). Это увещевание лишило крестьян решимости довести свой злой умысел до конца, а некоторые из них и вовсе преклонили перед ним колени.
Этот рассказ, как и другие подобные истории в мемуарах Розенштрауха, включает живой диалог и динамику, придающие ему театральность. Был ли Розенштраух и впрямь так убедителен? Он честно признает, что с русским у него было неважно: «Я и до сих пор удивляюсь, как смог сказать все эти слова по-русски так хорошо, что смысл мужикам был совершенно понятен» (с. 273). Иоганн Филипп Симон, знававший Розенштрауха в начале 1830-х годов, подтверждает: «К сожалению, вопреки своему более чем тридцатилетнему пребыванию в России он все еще был несведущ в русском языке, и тот, кто не знал по-немецки, должен был отказаться от удовольствия сердечного и поучительного общения с ним»[183]. С другой стороны, успех нашего героя на сцене, в торговле и у масонов заставляет предполагать, что он обладал немалым даром убеждения. Вера в этот дар была частью его самопрезентации, что очевидно из его рассказа об усилиях, приложенных им с целью примирить с Христом умирающих (немецкоязычных) грешников. Этот рассказ он опубликовал в 1833 году, за два года до того, как были написаны мемуары о 1812 годе[184].
Еще одним пунктом, в отношении которого Розенштраух сходится с российскими мемуаристами, было восприятие наполеоновской армии. Образованные люди в предвоенной Москве уравнивали присутствие солдат с порядком и считали французов ветреным, но утонченным народом. Грязные, изголодавшиеся солдаты, занявшие Москву, никак эти ожидания не оправдывали, но французские офицеры иногда все же проявляли галантность и добросердечие, коими славилась их родина. Разумеется, при наличии общего языка заручиться защитой офицеров было проще. Розенштраух французским владел слабо, но многие из наполеоновских офицеров были немцами, и трое из четверых французов, которых он приютил, кормил и развлекал в своем доме, говорили на хорошем немецком. При обычных обстоятельствах московские меркурианцы стремились заручиться расположением российской элиты, обеспечивая ей доступ к европейскому образу жизни. В 1812 году Розенштраух поступил ровно наоборот: он завоевал доверие французской элиты, обеспечив ей иллюзию дома в чуждой Москве.
В русских мемуарах довольно регулярно всплывает тема французского антиклерикализма: завоеватели приспосабливали храмы под конюшни, бойни и тому подобное. Розенштраух намекает на это лишь раз, описывая, как пришел на помощь протопопу, «которого бывшие у нас солдаты всячески оскорбляли» (с. 234). Почему он не развивает эту тему далее, остается загадкой. Как торговец предметами роскоши и бывший актер он придавал значение внешнему виду и запахам, что заметно по его описаниям разгрома в московских магазинах и трупной вони. Его собственная церковь избежала осквернения только потому, что пастор убедил маршала Нея даровать ей особую защиту. В период написания мемуаров Розенштраух, сам ставший пастором, вкладывал личные средства в строительство церкви для своей паствы[185]. Возможно, православие было ему чуждо, но в его сочинениях нет антагонизма по отношению к православной церкви. С другой стороны, вполне вероятно, что изоляция в рамках иностранной общины не располагала к тому, чтобы слишком пристально следить за судьбой православных святынь.
Помимо представлений о национальности, классовой принадлежности и религии, мемуары Розенштрауха можно читать и с гендерной точки зрения. По его мнению, роль женщины заключалась в семье и материнстве. Соответственно, он порицал женщин, стремившихся к связям с французскими офицерами и употреблявших их покровительство себе на пользу. Например, однажды французский офицер попытался реквизировать товары из магазина нашего героя в пользу наполеоновской канцелярии. На защиту к Розенштрауху пришла его соседка, заявившая, что она любовница французского генерала и не потерпит очернения славного имени Наполеона офицером его армии, пытающимся заполучить ценный товар бесплатно (с. 253). Розенштраух был признателен за ее вмешательство и рассказывает об этой истории с юмором, но при этом тоном явственного морального осуждения.
Однако в общем и целом женщины не слишком его интересовали. В основном он размышлял о поступках мужчин. Немецкое Просвещение и масонство учили, что работа, дисциплина и независимость были неотъемлемыми элементами жизни буржуа мужского пола и что мужчина мог добиться истинной свободы только по достижении духовной зрелости. Исходя из этого, Розенштраух порицал неспособность мужчин любого социального состояния освободиться от страстей и предубеждений, таких как алчность, классовая ненависть, мирские удовольствия и иллюзии рационализма или воинских почестей.
Взгляды Розенштрауха на гендерные роли не были совершенно однозначны. Его теоретические настояния на добродетельности буржуазной семьи резко контрастировали с реальностью его собственного неудачного брака с актрисой. Да и избранная им профессия тоже не позволяла ему быть образцом добродетельной мужественности. И как актер, и как продавец так называемых косметических товаров он торговал обманчивой видимостью; в обоих случаях его коллегами по профессии были дамы сомнительной репутации, а успех в обоих занятиях подразумевал культивирование утонченного эпикурейства среди женщин, стоявших выше его на социальной лестнице. Это было не только немужественно, но и к 1812 году просто-напросто опасно. Ростопчинская пропаганда связывала модные магазины на Кузнецком мосту с французским духом, и Розенштраух подмечал жестокость казаков по отношению к француженкам (с. 254). Продажа косметических товаров делала Розенштрауха проводником изнеженной аристократической офранцуженности, из-за чего он подвергался нападкам со стороны враждебно настроенных россиян. Впрочем, тот же фактор помогал ему снискать расположение французов.
Наш герой пренебрежительно отнесся к готовности соседки стать любовницей генерала, однако же на деле он находился совершенно в том же положении, что и она. Опасаясь за себя и свой магазин, Розенштраух тоже нашел группу французских офицеров, которым предложил проживание и питание, а заодно и усердную службу и льстивые разговоры. В ответ они дарили ему снисходительное добродушие и защиту. Мы не знаем, что о Розенштраухе думали французы, – истории, которые они рассказывали после войны, в основном касались их приключений на поле битвы и ужасов отступления от Москвы[186], – но на Розенштрауха встреча с ними произвела неизгладимое впечатление.
Не будучи уверенным в правильном написании их имен, Розенштраух назвал своих постояльцев «адьютанты маршала Бертье, полковники Флао, Ноайль, Бонгар, Кутейль» (с. 239). Все, кроме Бонгара, прилично говорили по-немецки, и вскоре между ними и их хозяином завязались добрые отношения: французы развлекали Розенштрауха сплетнями из наполеоновской штаб-квартиры, а он потчевал их винами и яствами из собственного магазина. Как мы знаем по другим источникам, все четверо постояльцев являли собой классический образец знати Старого режима, успешно приспособившейся к изменившимся условиям наполеоновской империи и ее наследников.
Лишь один из них, виконт Жозеф-Бартелеми де Бонгар де Рокиньи (Joseph-Barthlmy de Bongard (или Bongars) de Roquigny) (1762–1833), принадлежал к тому же поколению, что и Розенштраух. При Людовике XVI он был королевским конюшим и, отслужив в кавалерии у Наполеона, пожаловавшего ему баронский титул, вновь стал королевским конюшим после коронации Карла X в 1825 году[187].
Остальные были детьми революции, достигшими зрелости при Наполеоне. Барон Шарль де Флао де ла Бийардери (Charles de Flahaut (или Flahault) de la Billarderie) (1785–1870) был незаконнорожденным сыном Талейрана и внебрачной дочери Людовика XV[188]. Муж его матери, отставной генерал Флао, взошел на гильотину в эпоху Террора; мать бежала с юным Шарлем в Англию. Овдовев, мать Шарля де Флао Аделаида-Эмилия (урожд. Фиёль, впоследствии маркиза де Суза-Ботельо) зарабатывала себе на жизнь написанием романов, ставших столь популярными по всей Европе, что ими зачитывался даже Пьер в «Войне и мире» Л.Н. Толстого[189]. По возвращении во Францию Шарль вступил в наполеоновскую армию и приобрел репутацию доблестного офицера, ревностного бонапартиста и дамского угодника. Одной из его любовниц была Гортензия де Богарне, дочь первой супруги Наполеона Жозефины. Гортензия вышла замуж за брата Наполеона, Людовика, которого Наполеон сделал королем Нидерландов, и впоследствии дала жизнь будущему Наполеону III. Припоминая очарование Флао, но также и его неспособность хранить ей верность, она позже писала, что он обладал «выдающейся наружностью, живостью духа, был приятен и даже блестящ, чувствителен, хотя и непостоянен, вдохновлен скорее желанием понравиться, нежели потребностью быть любимым»[190]. На портрете работы Жерара, придворного художника Наполеона, Флао предстает в офицерской форме примерно в 1813 году: мы видим тонкие аристократические черты лица, уверенный взгляд, жесткий стоячий воротник, великолепные эполеты – это истинный аполлон двадцати восьми лет от роду[191]. Впоследствии Флао женился на дочери британского адмирала и при Июльской монархии и Второй империи занимал на службе у французского правительства престижные посольские посты.
Оставшиеся два товарища Флао имели сходное происхождение. Немалая часть семьи барона Альфреда де Нояля (Alfred de Noailles) (1786–1812) погибла на гильотине, но сам он ревностно сражался за Наполеона до самой своей гибели на Березине[192]. Что до барона Шарля Эмманюэля Ле Кутё де Кантелё (Charles Emmanuel Le Couteulx de Canteleu) (1789–1844), который в тексте Розенштрауха назван Кутейлем, то он происходил из пожалованной дворянством семьи купцов, морских перевозчиков и банкиров с обширными связями за океаном. Его отец служил в Генеральных штатах, находился в заключении при Терроре, поддержал наполеоновский переворот Восемнадцатого брюмера и помог основать Банк Франции. После падения Наполеона отец барона был избран членом новой палаты пэров, тогда как сам барон стал флигель-адъютантом дофина[193].
Розенштраух симпатизировал и уважал «этих четырех храбрых воинов» (с.251) за их стоическую самодисциплину, космополитическую толерантность и добродушную учтивость. Они весело болтали с ним по-немецки, а со служившим у Флао камердинером, голландцем по происхождению, Розенштраух сошелся особо – на почве воспоминаний о Голландии и общей антипатии к Наполеону, которую Флао терпел из благодарности за помощь, некогда оказанную камердинером семье Флао в период Террора. Ле Кутё рисковал собой, защищая Розенштрауха от мародерствующих солдат, настаивал на оплате вина, взятого им с собой при отступлении от Москвы, и превозносил мужество русских крестьян, напавших на его подразделение и едва не убивших его самого (с. 263).
И все же их разделяла пропасть. Офицеры были юными (за исключением Бонгара) аристократами, представителями ведущей мировой нации и величайшей на тот момент военной силы, и это наделяло их чувством привилегированности, идеализмом, военной бравадой и noblesse oblige. Розенштраух ничем таким похвастаться не мог. Разочарованный в жизни бывший актер средних лет, наконец-то достигший благосостояния, которое война поставила под угрозу, он был невосприимчив к романтике войны и революции. Напротив, разрушительность войны и неуважение к частной собственности приводили его в ужас. Он гордо писал, что ни разу не присвоил краденого, а наоборот, ревностно охранял имущество своего квартирохозяина Демидова; в отличие от него французские офицеры охотно брали себе награбленное и даже предлагали поделиться с ним (с. 249, 268).
Не разделял Розенштраух и офицерского этоса физической храбрости. Розенштраух предлагает три модели поведения перед лицом опасности. С одной стороны были трусы: в хаосе, предшествовавшем прибытию французов, немецкий фабрикант по имени Кнауф эгоистично отказался предоставить Розенштрауху убежище в своем надежно укрепленном доме, и Розенштраух испытал мрачное удовлетворение, когда Кнауфа ограбили и выгнали из дома его собственные работники[194]. На другом конце спектра находились самоубийственно рискованные поступки, на которые французских офицеров толкало чувство чести, а низшие сословия – жадность и разрушительные инстинкты. Розенштраух, по его собственному мнению, по смелости и благоразумию занимал золотую середину между этими двумя крайностями: он оказал сопротивление крепостным, пытавшимся разграбить имущество Демидова, и солдатам, собиравшимся казнить невинных крестьян (с. 237), но избегал неоправданного риска и даже отказывался без крайней необходимости выходить из дома. По этой причине Розенштраух так ни разу и не увидел Наполеона, хотя тот каждый день проезжал мимо его дома (с. 245).
Ни симпатии к планам Наполеона, ни восхищения перед ним самим Розенштраух не испытывал. Как бывшего актера (в чем он, конечно, не признается) его шокировала пошлость императорских вкусов:
Для его развлечения в Кремле дилетанты ставили французские комедии, которые играли немногие оставшиеся модистки и гувернанты, – никто из них никогда не был артистом. И, как говорят, Наполеон, который видел все самое великолепное и блестящее, что могла предложить сцена, находил или делал вид, что находит вкус в этих жалких представлениях, и якобы смотрел их очен внимательно часами, как будто бы он действительно наслаждался. (с. 262)
За исключением Бонгара, Розенштраух был единственным из этой компании, кто к началу экспансии революционной Франции был уже взрослым человеком. Это позволило ему в кои-то веки отступить от привычного амплуа заискивающего перед гостями хозяина и выступить в роли более зрелого обладателя мудрости и опыта; это также побудило его в первый и последний раз письменно упомянуть о своей жизни до переезда в Россию. Как он позже вспоминал, он поделился с юными постояльцами своим взглядом на их нынешнее положение: в 1793 году «я видел французскую армию в Голландии при Дюмурье детьми, как они шли тогда – одни пожилые старцы, много наглых бабенок, сражавшихся в общем строю, и безбородые юноши». Французской анархии – вкупе с воинственными женщинами, символом революционной угрозы общественному порядку, – в конце концов пришел конец, но только благодаря тому, что на смену ей пришла театральная, воинствующая мужественность, не лишенная гомоэротической привлекательности, но самоубийственная. Он писал, что видел французов «на Рейне в 1795 г. юношами. В Москве же мужами – ибо едва ли возможно увидеть красивейшую армию, чем 80 000 человек гвардейцев, которые вошли в Москву, из которых каждый старый гвардеец мог бы служить моделью для Юпитера или Геркулеса, а каждый молодой гвардеец – для Ганимеда. Теперь (заключал он со значением – А.М.) мне остается лишь ожидать еще увидеть этих мужей старцами» (с. 270).
По мере написания мемуаров Розенштрауху стало казаться, что война решительно изменила как его материальное положение, так и его духовное видение мира:
Насколько простирается человеческое соображение, я могу с уверенностью утверждать, что в Петербурге, не случись явного чуда, я не пришел бы ни к достатку при нашем ограниченном местными рамками торговом обороте, ни к совершенно изменившимся духовным воззрениям под воздействием страданий и опасностей в Москве, ни к заделу в церковных и школьных делах благодаря моему деятельному участию в заботах церковного совета. Все это вкупе должно было случиться прежде, чем с некоторой надеждой на успех я смог принять решение сделаться пастором, и тем более осуществить его (с. 224).