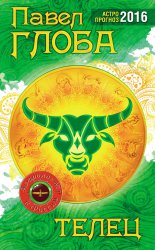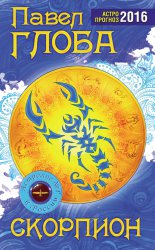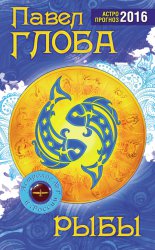Гипограмматика. Книга о Мандельштаме Сошкин Евгений

ПРЕДИСЛОВИЕ
Структура этой книги – модульная: все ее главы практически автономны. Но порядок расположения глав не произволен: он соответствует хронологии их написания или, точнее, завершения (позднейшая правка не учитывается, поскольку, при всей своей принципиальности, она не затронула главных выводов). Придерживаясь этого порядка, читатель может проследить, как разрозненные филологические опыты выстраиваются в единый цикл, а тот, в свой черед, вырастает в монографию. Во введении, написанном позднее, систематизируются теоретические и методологические наработки мандельштамоведения за полвека. Полученная модель используется в постскриптуме ко всей книге в рамках обобщающего анализа частных результатов каждой из восьми глав.
Для своей области знания – поэтологии Мандельштама – эта книга подчеркнуто традиционалистична. Это касается и стремления к предельно дотошному учету литературы вопроса (увы, наверняка подрываемого непростительными «зевками»), и приверженности давно вышедшему из моды терминологическому аппарату, контрастирующему с неологическим названием книги, и, главное, общей стратегии чтения мандельштамовских текстов, заданной первопроходцами. Нахождение подтекстов – «процесс постепенный», как не раз подчеркивал Кирилл Федорович Тарановский, видимо, подразумевая также, что этот процесс – дело коллективное и даже эстафетное, живущее попечением исследовательской школы, традиции. Если время от времени меня подводят интуиция, вкус или здравый смысл, то это нужно отнести целиком на мой счет; между тем иные мои догадки, которым читатель, быть может, не откажет в проницательности, лишь отчасти принадлежат мне – и не только потому, что они бесполезны в отрыве от своей научной генеалогии, но и потому, что они, несомненно, были бы (а возможно, частью уже и были) высказаны независимо от меня.
Казалось бы, отсюда можно сделать вывод о том, что атрибуция наблюдений, их приоритет не имеют научного значения и лишь питают исследовательское тщеславие. А оно выглядит особенно забавным в свете того, что предметом патентования является установление подтекста, то есть, в сущности, реконструкция опущенных кавычек! Однако я убежден, что эта парадоксальная конъюнктура адекватно отражает коммуникативное задание Мандельштама. Дезавуация авторского приоритета непременно должна сама получить авторство. Можно сказать, что для каждого подтекстуально мотивированного элемента текста предусмотрена своя вакансия «читателя в потомстве».
Традиционализм не исключает инновационности, напротив: по отношению к поэтике Мандельштама всякий прогресс обусловлен постоянной мобилизацией, сопоставительной оценкой и пересмотром чужих гипотез и выводов. Сообразно этой «отраслевой» специфике, новизна подхода, опробованного в этой книге, – не в смене направления исследовательского поиска, а в продолжении пути, который, как многие полагали, был пройден до конца. Под продолжением пути я подразумеваю компаративный анализ всех известных на текущий момент подтекстов в проекции на текст и реконструкцию своего рода альтернативного синтаксиса – системы синтагматических связей между подтекстами. Эта процедура видится мне необходимым предварительным условием любого интерпретационного решения. Реконструкции зашифрованных сообщений, предложенные для ряда стихотворений или стихотворных ансамблей на основе такого подхода, представляют собой соссюровские гипограммы или, с учетом их текстуальной развернутости и вариативности, гипотексты – мифоемкие коллизии, образующие имплицитную фабулу. На еще более высоких уровнях плана содержания эти гипотексты обнаруживают инвариантное единство, образуя своего рода сверхфабулу. Место соответствующим обобщениям – в заключительной части введения и в постскриптуме, где читатель их и найдет, но я забегаю вперед, чтобы сделать понятным название книги: «Гипограмматика».
Так называемое «Полное собрание сочинений и писем» Мандельштама [2009–2011] всюду в книге цитируется с указанием только тома и страницы римскими и арабскими цифрами соответственно. Если цитаты из одного и того же тома следуют непосредственно друг за другом или на незначительном расстоянии, то для второй и всех последующих указывается только страница.
Стихотворные цитаты, в том числе из Мандельштама, обычно приводятся без библиографических ссылок. При этом я вынужден пользоваться несколькими научными изданиями Мандельштама параллельно, ибо консенсусной текстологии его наследия пока не существует, а некоторые эдиционные решения вышеупомянутого трехтомника вызывают принципиальное несогласие.
За редкими исключениями даты первых публикаций научных источников не указываются. Не следует поэтому удивляться, если при упоминании генетической связи между двумя научными текстами хронология приводимой библиографии входит в противоречие с направлением этого генезиса. Аналогичным образом, ссылаясь подряд на несколько источников по одному и тому же поводу, я стараюсь перечислять их в порядке хронологии первых, а не цитируемых публикаций. Приношу читателям извинения за то, что некоторые источники, существующие на бумаге, цитируются, как это и заявлено в их библиографии, по электронным публикациям и поэтому большей частью без указания страниц.
На всем протяжении книги, кроме особо оговариваемых случаев, в цитатах, обособленных кавычками (а не выделенных курсивом) курсив принадлежит цитируемому источнику; жирный шрифт и пр. шрифтовая маркировка – мои. (Исключение – набранные, как и в источнике, разрядкой имена действующих лиц перед их репликами в цитатах из драматических произведений.) Начало нового абзаца в цитируемом тексте обозначается вертикальной чертой: |. Год в угловых скобках после названия произведения обозначает дату его первой публикации. В цитатах внутри цитат купюры, обозначенные угловыми скобками, принадлежат моему источнику, а те, что обозначены квадратными скобками, – мне. Условные сокращения, вводимые на протяжении книги, остаются в силе до конца соответствующей главы.
Сведения о докладе, положенном в основу той или иной главы, и о публикации ее раннего варианта в виде отдельной статьи приводятся в последнем примечании к соответствующей главе. Введение и постскриптум прежде не публиковались.
Радуюсь возможности поблагодарить моего учителя Р. Д. Тименчика, под чьим руководством я защитил диссертацию, основным корпусом совпадающую с главами I–VII настоящей книги, и М. В. Безродного, множество раз выручавшего меня своими реакциями, подсказками и содействием в поиске источников.
С неизменным великодушием меня снабжали недостающей литературой И. С. Кукуй, Ю. Левинг, В. С. Полилова и А. Л. Соболев. В ряде случаев с библиографией любезно помогли А. Ю. Балакин, И. Б. Делекторская, Е. О. Козюра, Е. Л. Куранда, С. Е. Ляпин, Р. фон Майдель, Л. В. Сафронова, Т. Н. Степанищева, Г. Г. Стребулаева, М. Г. Эйтингина.
Я признателен коллегам и друзьям, на разных этапах работы поддержавшим меня своими консультациями, советами, замечаниями и возражениями – от самых беглых до весьма обстоятельных: В. В. Брио, М. Я. Вайскопфу, И. И. Вайсману, А. А. Добрицыну, Г. Дюсембаевой, К. В. Елисееву, Г. – Д. Зингер, С. А. Карпухину (снабдившему меня подробной источниковедческой справкой относительно «Силеновой мудрости», гл. II), М. Л. Королю, И. В. Кукулину, Р. Г. Лейбову (по чьей инициативе в октябре 2007 года состоялось виртуальное обсуждение моей статьи – будущей гл. II), О. А. Лекманову, Н. Н. Мазур, П. М. Нерлеру, Н. Г. Охотину (общение с которым побудило меня к семантическому анализу русского пятистопного анапеста, гл. II), О. А. Проскурину, О. В. Репиной, Н. М. Сегал (Рудник), Д. М. Сегалу, С. В. Синельникову, Ф. Б. Успенскому, Ю. Л. Фрейдину, К. П. Юдину. Разумеется, эти благодарности не заменяют ссылок на моих собеседников в тех местах книги, где приводятся их самоценные наблюдения. Шестая глава обязана своим появлением Илане Гольдшмидт, подавшей идею привлечь к анализу шекспировский герб.
Важным финансовым подспорьем при работе над книгой в 2012–2013 годах послужила годичная докторантская стипендия израильского Межуниверситетского академического содружества в области русских и восточноевропейских исследований.
ВВЕДЕНИЕ
В 1967 г. появилась первая из цикла статей К. Ф. Тарановского о Мандельштаме. Этим было положено формальное начало современному изучению поэтики Мандельштама на основе метода, понятийной осью которого явилось противопоставление контекста и подтекста. Контекст Тарановский определил как «группу текстов, содержащих один и тот же или похожий образ», а подтекст – как «уже существующий текст, отраженный в последующем, новом тексте» [Тарановский 2000: 31]. Казалось бы, исходя из этого определения, контекст надлежит понимать как всю совокупность расхожих поэтических тропов, фигур и мотивов, диссоциированных с конкретными случаями их использования, а подтекст – как, потенциально, любой текст, отличный от данного. Однако на практике оба понятия трактовались в основном редуцированно: контекст фактически был ограничен корпусом мандельштамовских сочинений, а подтекстуальный фонд, соответственно, – остальным множеством литературных текстов[1].
Помимо разнородных источников разной степени конкретности – литературных, фольклорных, мифологических, – мобилизацию которых можно, вслед за Р. Д. Тименчиком [1973: 438–439], обозначить леви-стросовским понятием бриколажа, Мандельштам активно привлекает и «подтексты», относящиеся к внеязыковым знаковым системам, в частности, музыкальные, изобразительные, скульптурные, архитектурные, топографические, ландшафтные. Часть из них являются не только «текстами», но и физическими объектами, тем не менее даже их Мандельштам интерпретирует в качестве текстов par excellence, подлежащих цитации на общих основаниях[2]. Равным образом к подтекстообразующим приемам можно отнести некоторые поступки Мандельштама, отмеченные признаком цитатности, т. е. мотивированные историческим прецедентом[3]. С другой стороны, в подтекстуальном субстрате мандельштамовских сочинений присутствуют и несемиотические «подтексты» (можно назвать их референциальными) – не называемые прямо события, реалии, лица[4]. Впрочем, их импликация как раз наименее специфична для Мандельштама[5] – что верно и в отношении физических впечатлений как объектов метаописания средствами стихотворного ритма, звукописи и т. п.[6] Порой даже в тех случаях, когда, казалось бы, референция текста непреложна, оказывается, что подбор бытовых деталей произведен на основе подтекста, подложенного под реальность[7].
Потребность в вышеупомянутом сужении понятия контекста подсказывалась некоторыми характерными особенностями поэтики Мандельштама – рекуррентными символами, значение которых (в их специфическом мандельштамовском изводе) не может быть выведено из отдельно взятого текста и реконструируется на совокупной основе релевантных текстов; словообразовательными гнездами с устойчивой семантикой, не совпадающей с общеязыковой[8], и т. п., – словом, поэтической идиолектностью. Вместе с тем с самого начала был сделан вывод о совпадении контекста и подтекста в автоцитации[9], позволяющий определить контекст как такое подмножество в составе множества подтекстов, которое характеризуется не только синтагматическими, но и парадигматическими связями с текстом-консеквентом[10].
В координации с мандельштамовским образом слова, которое беспамятствует («Я слово позабыл, что я хотел сказать…», 1920), пребывая в трансе и неумолкаемо вторя себе самому, подобно кузнечику или цикаде (II, 160), механизм автоцитации концептуализировался теоретиками как, в сущности, процесс анамнезиса[11]. Но при этом оставалась недостаточно отрефлексированной двуаспектность явления автоцитации, совмещающей устойчивую контекстуальную семантику единицы поэтического языка и подтекстуальную мотивировку конкретного использования этой единицы, раскрываемой через конкретный прецедент. О. Ронен постарался разрешить эту двойственность, представив элементарный акт текстопорождения в виде выбора подтекста из корпуса контекстов: «В процессе расшифровки контекст <…> можно отождествлять с парадигматическим планом, а выбираемое в нем поэтическое высказывание, обнаруживающее наибольшую общность с исследуемым <…>, – с планом синтагматическим <…>» [Ронен 2002: 20]. Но, думается, эта модель не может быть принята ввиду того, что «само понятие автоцитации определяется через отсутствие закономерной выводимости из инвариантов автора» [Жолковский 2011: 422]. В самом деле, подтекст, особенно литературный, не только не равен цитируемому сегменту, но и зачастую значим в силу другого, текстуально смежного или иным образом сопряженного с ним сегмента, который и мотивирует данное подтекстообразование[12]. Остальные контексты появлений цитируемого сегмента выполняют вторичную, регулятивную функцию, и хотя он проецирует эти контексты на свой собственный локальный контекст, это происходит лишь в конъюнкции с независимой подтекстуальной мотивировкой[13].
Н. Я. Берковский еще в 1930 г. проницательно увязал мандельштамовский принцип нормативизации окказиональных значений (который много позднее будет концептуализирован как поэтика контекста) с отсутствием сюжетной динамики в прозе Мандельштама:
…Мандельштамовский образ изъят из времени, длительность вынута из вещей <…>. «Монета» образа изготовляется как постоянный эквивалент[14]. Образ-обобщение дается не для данной только стадии, не для данного только момента, но как бы навсегда.
Поэтому «концертный» Парнок, мизерное исчадие музицирующего Петербурга, своих концертных атрибутов не теряет даже в парикмахерской <…> «Египетская марка», конечно, опыт сюжетной прозы. Но методика образов становится наперекор сюжету. «Всегдашний» образ не желает и не может «развертываться». Особенно запинается сюжет о героя – Парнока, чье металлическое зачерствение противоречит непременному требованию сюжетной вещи – требованию, чтоб герой менялся, был подвержен эволюциям, имел разные свои «минуты» [Берковский 1989: 300].
Ненарративность и квазинарративность мандельштамовского письма создает своего рода синтаксический дефицит[15], который нуждается в компенсации – и получает ее в виде альтернативного, имплицитного синтаксиса, о котором предстоит разговор далее. Комбинаторные операции над элементами поэтического языка – носителями контекстуально детерминированной семантики – основываются на системе семантических корреляций, иногда обозначаемой как глубинная семантическая структура (по аналогии с одноименным термином генеративной лингвистики)[16]. Она отвечает за интуитивно воспринимаемую когерентность поэтического дискурса, однако не способна мотивировать процесс текстопорождения, т. е. обеспечить поэтическому тексту коммуникативность. Реконструкция этой структуры необходима; наряду с подтекстуальным (в расширительном смысле, о котором см. далее) анализом она должна предшествовать интерпретации текста и ограничивать ее произвол. Но она не должна подменять собой интерпретацию. (Можно, впрочем, предположить, что герменевтическая автономность анализа глубинной семантической структуры увеличивается прямо пропорционально повышению когерентности и нарративности «поверхностной» семантической структуры[17].)
Границы контекстуальной области не могли быть четко обозначены, с одной стороны, из-за экспансии мандельштамовского текста вовне и его слияния с «узким контекстом» (ср. такие феномены, как недискретные стихотворения-близнецы – «двойчатки» и «тройчатки», а в поздний период – превращение фрагмента целого в самостоятельное новое целое, а также «расподобление» целого за счет равноправных вариантов[18], метрическое сопровождение большой вещи и т. п.), а с другой – из-за диффузных взаимоотношений всего подмножества (авторского корпуса) и остального множества[19]. Так, например, есть основания полагать, что Мандельштам в оригинальном творчестве охотно воспроизводит и варьирует собственные переводы из других авторов (но при этом как раз те их места, которые при проверке оказываются продуктами его переводческого произвола)[20], и наоборот – вводит в свои переводы сегменты собственных оригинальных текстов[21]. Кроме того, откровенно заемные символы и концепты, понимание которых невозможно без обращения к их прототипам в творчестве других авторов, претерпевают в поэтическом языке Мандельштама семантическую «мутацию» и становятся элементами широкого контекста, так что в итоге не текст оказывается мотивирован подтекстом, а контекст собственного творчества – контекстом чужого, второй из которых присваивает себе подтекстуальный статус по отношению к первому[22], как, например, в случае с лексико-семантическими единицами, отсылающими к принадлежащему Вяч. Иванову концепту ‘прозрачность’ (см. гл. VIII). Впрочем, в иных случаях устойчивая семантика возвратного мотива базируется на вполне локальном подтексте, актуальном для всех появлений данного мотива[23]. Это подталкивает к более абстрактной постановке проблемы лексической рекурренции: символизация возвратной лексико-семантической единицы сама по себе подразумевает наличие мифологического подтекста, будь то готовый, модифицированный или новый миф. Это вытекает из символистского понимания мифа «как синтетическо[го] суждени[я], где подлежащему – символу придан глагольный предикат» [Иванов 1916: 62]. Такой миф-подтекст, несомненно, может служить имплицитной мотивировкой конкретного словоупотребления и вместе с тем – имплицитным значением возвратного элемента, не поддающимся восстанавлению на основе полного контекста и в известной мере автономным от этого контекста.
Внешняя «алеаторичность» мандельштамовского дискурса[24] является оборотной стороной его сверхдетерминированности имплицитным подтекстуальным слоем. Этот последний образует своего рода альтернативный синтаксис, открывающий доступ к высшим уровням плана содержания[25]. Но прежде чем перейти к вопросам типологии и функциональности подтекстообразующих приемов, следует задержаться на известном различении цитации (разумеется, не формальной) и заимствования[26]. Цитация, согласно Г. А. Левинтону, есть «такое включение элемента “чужого текста” в “свой текст”, которое должно модифицировать семантику данного текста именно за счет ассоциаций, связанных с текстом-источником (цитируемым текстом), в противоположность заимствованию, которое не влияет на семантику цитирующего текста и может быть даже бессознательным. Степень точности цитирования здесь не принимается в расчет» [Левинтон 1971: 52][27]. Г. А. Левинтон и Р. Д. Тименчик [2000: 411] отмечают соответствие между этим различением (немотивированного) заимствования и (мотивированной) цитации и предложенным А. К. Жолковским [2011: 409–424] «различение[м] цитат в performance и в competence (т. е. с точки зрения генезиса и семантики)». Из четырех чистых типов подтекстов, которые выделяет К. Ф. Тарановский [2000: 32], два подпадают под определение цитации («текст, поддерживающий или раскрывающий поэтическую посылку последующего текста»; «текст, являющийся толчком к поэтической полемике») и два – под определение заимствования («текст, служащий простым толчком к созданию какого-нибудь нового образа»; «заимствование по ритму и звучанию»[28]).
Я предложил бы альтернативную дефиницию: при цитации, в отличие от заимствования, на имплицитного (целевого) читателя возложена задача реконструкции кавычек (хотя далеко не всегда – идентификации цитируемого источника[29]). Таким образом, понятие заимствования должно включать в себя и простую (возможно, безотчетную) утилизацию некоторого элемента собственного старого текста (автозаимствование)[30], и (невольный) плагиат, причем в случаях тесной биографической и творческой интеракции между двумя авторами грань между автозаимствованием и плагиатом стирается[31]. Естественно предположить, что для бессознательного заимствования характерна буквальная интеграция фрагмента источника с полным или частичным сохранением его стиховых параметров[32], а для сознательного – его адаптация[33]. Ясно, что адаптацию можно интерпретировать и как импликацию, поэтому грань между сознательными заимствованием и цитацией может быть зыбкой[34]. С другой же стороны, цитация, как и заимствование, может быть не замечена автором, осознана им задним числом или в процессе работы над текстом[35] и в этом случае может быть изъята как нежелательная[36] или, наоборот, закреплена тем или иным способом. Впрочем, для «бессознательного» интертекста, по-видимому, правомерно было бы различать аспект заимствования, проявляющийся в калькировании формальных параметров источника, и аспект цитации, проявляющийся в более широких смысловых связях с источником[37]. При этом такие связи вполне способны работать против текста-консеквента, например, идеологически его компрометируя[38]. (Подобный казус симметричен квазислучайному подтекстообразованию в ироническом тексте.)
Дихотомия цитации и заимствования не охватывает такие межтекстовые связи, как типологическая общность, т. е. мобилизация разными текстами одного и того же поэтизма – общеупотребительного элемента художественного языка литературной эпохи или традиции (такую связь можно назвать интерконтекстуальной)[39], и происхождение от общего подтекста[40]. Наконец, уже за пределами всякого постижимого генезиса случаются чистые совпадения[41]. (Я намеренно обхожу стороной, как выходящую далеко за рамки моей темы и компетенции, фольклористическую загадку бытования одних и тех же сюжетов в исторически и географически разобщенных культурных традициях.)
Ввиду присущей поэтике Мандельштама зыбкости границ между своим и чужим словом, цитирующим и цитируемым текстом, поэтической речью и поэтическим языком в ней стирается и грань между интер– и интратекстуальными приемами, которые становятся изофункциональными друг другу взаимопроникающими множествами[42]. Это побуждает распространить понятие подтекста на всякий текст, независимо от его атрибуции, в том числе и на сам цитирующий текст в тех случаях, когда один его отрезок неявным образом семантически соотнесен с другим.
Следовательно, принципиально нехарактерными для Мандельштама представляются эксплицитные интер– и интратекстуальные приемы, к первым из которых относится формальная (авто)цитация, устанавливающая хронологическую иерархию между цитируемым и цитирующим текстами в пользу последнего, причем независимо от его отношения к первому, будь то ревизия[43], визирование[44] или нейтральная цитация[45] (чтобы не противоречить принципам поэтики Мандельштама, эксплицитная автоцитация должна быть фиктивной; иное дело – мандельштамовская критическая проза, в которой стихотворные автоцитаты служат, с одной стороны, приемом красноречия, призванным усилить суггестивность утверждаемого, а с другой – указанием на то, что утверждаемое представляет собой автокомментарий к соответствующим стихотворениям), а ко вторым – семантический параллелизм, подчеркнутый ритмическим, композиционным и т. п. регулярным параллелизмом (т. е. прием, блокирующий неявную семантическую соотнесенность двух элементов текста – условие его функционирования в качестве самому-себе-подтекста)[46]. В этом пункте заключается фундаментальное отличие принципов поэтики Мандельштама, вскрытых Тарановским, от общих принципов организации поэтического текста, как их постулировал незадолго до этого Р. О. Якобсон в статье «Грамматический параллелизм и его русские аспекты» (1966). Выраженный многоуровневый параллелизм как универсальное проявление эстетической мотивированности (т. е. как экспликация поэтической коммуникативной функции, выделенной Якобсоном шестью годами ранее) оказался потесненным в поэтике Мандельштама за счет имплицитной мотивированности эстетически ценностных элементов текста[47].
У Мандельштама и его современников, в отличие от поэтов XIX в., загадочность подтекстообразующего приема программна[48]. Согласно О. Ронену [2002: 180–182], этот курс на загадочность определил и различия в поэтологических установках Тарановского и его предшественников (в частности, Эйхенбаума, исследовавшего принципы использования готового поэтического материала Лермонтовым)[49]. В самом деле, авторы XIX в. в основном или заимствовали у других авторов, или совершенно явно им подражали, варьируя либо интерпретируя их темы и конкретные произведения (в этом ключе осуществлялись, в частности, переводы, переложения, стилизации и пародии). Соответственно, импликации подвергались не столько объекты подражания, сколько, пользуясь формулой Х. Блума, объекты «страха влияния», причем страх этот мог даже предшествовать появлению самих его объектов (в узком понимании таковых)[50]. В тех же случаях, когда имела место именно цитация, она обыкновенно была либо рассчитана на мгновенное распознание реальной целевой аудиторией, либо вовсе не рассчитана на распознание и, если можно так выразиться, субъективна[51]. (Неочевидные, порой весьма изощренные подтекстообразующие приемы у авторов XIX в. тоже были в ходу[52], но, как кажется, в поэтических системах этих авторов они все же не играли ключевой роли и их распознание не служило тестом на принадлежность к целевой читательской аудитории; главное же – они не исследовались предтечами подтекстуального анализа.) Коль скоро загадка, заключенная в поэтической цитате, предполагала автоматическое нахождение отгадки, нередко с комическим или иным риторическим эффектом[53], апелляция к подтексту ограничивалась теми его фрагментами или аспектами, которые работали на создание этого непосредственного эффекта и, в сущности, абстрагировалась от подтекста как целого[54], что могло приводить к совершенно непредвиденному автором эффекту дискредитации текста подтекстом[55]. В сущности, речь идет лишь о частных, характерных для определенных литературных эпох проявлениях общей закономерности: в рамках полемического, идеологического и вообще любого прагматического задания всякая цитация имеет тенденцию подрывать утилитарные основы дискурса. Более того, можно утверждать, что дискурс имеет свойство сопротивляться утилизации, и это сопротивление проявляется, в частности, как цитация, не осознаваемая автором, как неконтролируемый подтекст, несущий в себе негацию смысла текста[56]. На сознательной инспирации подобного эффекта строится сатира – жанр, особенно востребованный в условиях сдающей позиции цензуры. Ахматова и Мандельштам, дебютировавшие после отмены института превентивной цензуры, избрали стратегию, противоположную напрашивающейся: вместо того чтоб демонстрировать ранее запрещенное, они стали прятать то, что не только никогда не табуировалось, но, как мы вскоре увидим, даже напротив – многократно воспроизводилось. Десакрализации святынь они предпочли (ре)сакрализацию общих мест.
Принципы подтекстуального анализа были распространены и на имплицитные языковые приемы Мандельштама, заключающиеся в шифровке некоторого слова, словосочетания, словообразовательного инварианта. Как известно, одной из причин пристального интереса филологов к этой стороне поэтики Мандельштама была частичная публикация в 1964–1971 гг. тетрадей Ф. де Соссюра и вызванный этим событием ажиотаж в кругах теоретиков. В 1905 г. Соссюр заподозрил, что в латинских сатурновых стихах варьируются слоги и фонемы, входящие в состав некоторого слова, которое не появляется в тексте, но имеет прямое отношение к его содержанию. Соссюр колебался между разными вариантами наименования этого феномена – анаграмма, параграмма, гипограмма и пр. В период с 1906 по 1909 г. он ищет и находит аналогичные закономерности и в других поэтических традициях, от гомеровских поэм и ведических гимнов до современной ему поэзии. Осознавая известную спекулятивность результатов своих исследований (в частности, затрудняясь объяснить отсутствие манифестаций анаграмматического кода со стороны самих поэтов), Соссюр предпочел не обнародовать их[57]. Публикация его тетрадей более полувека спустя породила множество исследований, посвященных памятникам самых разных поэтических традиций и эпох[58]. В частности, гипотеза Соссюра оказалась весьма продуктивной для изучения поэтики модернизма и едва ли не в первую очередь – русского постсимволизма[59]. В целом это может объясняться общностью интеллектуальных и эстетических установок поэтов-модернистов и современных им филологов[60], а в частных случаях Мандельштама и Ахматовой – даже возможным воздействием соссюровских идей на молодых поэтов. Так, «[п]оэтическая выучка Ахматовой связана с деятельностью т. н. “Поэтической Академии”, где стихи разбирались под руководством Вяч. Иванова (ср. личные контакты Вяч. Иванова и Соссюра)» [Тименчик 1972: 79], чья позднейшая концепция звукообраза у Пушкина (1925), как предполагается, имела своим истоком соссюровские анаграмматические штудии [Meylakh 1976: 108]. Что же касается Мандельштама, то делалось даже допущение, что он мог принять на вооружение описанный Соссюром принцип не только через Иванова как своего литературного ментора в период первого «Камня», но и при возможном личном знакомстве с Соссюром во время посещения Женевы в 1908 г. [Gronas 2009: 197][61].
Мандельштамовские приемы языковой шифровки распадаются на две категории: на интра– и интерлингвистические приемы. Интралингвистические приемы основаны либо на синтагматическом, либо на парадигматическом шифре[62]. В первом случае одни и те же или схожие знаки участвуют одновременно в двух последовательностях – эксплицитной и имплицитной, нарушающей нормы чтения. Во втором случае знаки одного типа подставляются на место знаков другого типа на основе неполной внутриязыковой омонимии. Интерлингвистические приемы основаны главным образом на парадигматическом шифре, при котором знаки одного типа подставляются на место знаков другого типа на основе межъязыковой паронимии (обычно с включением в синтагматический план также и русского лексического эквивалента)[63] или калькирования иноязычной фраземы[64]. Первый из этих двух феноменов был специально рассмотрен в тезисной публикации [Левинтон 1979], преимущественно на примерах из Мандельштама[65]. Ее подзаголовок – «Язык как подтекст» – постулировал аналогию между интертекстуальными и интерлингвистическими приемами[66].
Интралингвистические приемы могут заключаться в вариативности направления чтения[67], но у Мандельштама они чаще проявляются в звуковой метафоре в виде подстановки одного русского слова на место другого, грамматически аналогичного и фонетически созвучного, но семантически далекого (причем вытесненное слово распознается по семантическому контексту, который ближе к этому вытесненному слову, чем к его замене)[68]. Промежуточный прием, сочетающий вариативность направления чтения и звуковую метафорику, – фрагментация (т. наз. распыление) зашифрованного слова или словосочетания[69]. Иногда можно встретить совмещение двух этих техник без их смешения[70].
Среди приемов языковой шифровки выделяется особая категория – операции над именами собственными. Они либо шифруют ключевое слово, русское[71] или иностранное[72], либо сами являются таким словом, зашифрованным с помощью языкового приема – интралингвистического[73] или интерлингвистического[74]. В первом случае они выступают в качестве русского слова, во втором – в качестве иностранного. По-видимому, случается даже, что имя собственное подвергается вторичной кодировке[75]. Пример имен собственных свидетельствует об отсутствии четкой границы между интра– и интерлингвистическими приемами у Мандельштама.
В применении к мандельштамовской поэтике аналогия между интертекстуальными и интерлингвистическими приемами может быть распространена и на оба множества в целом – на текстуальные и языковые приемы. Промежуточная форма, подтверждающая конвергентность тех и других, – импликация фраземы (прием вполне традиционный в европейской поэзии[76]), поскольку фразема в этой ситуации, с одной стороны, сигнифицирует весь язык как некий подтекст на правах его неделимой единицы, а с другой – сама является автономным подтекстом на правах элементарного текстуального континуума[77]. Наиболее интересны с этой точки зрения примеры импликации иноязычных фразем, в особенности если она достигается посредством графической, а не звуковой омонимии[78], поскольку в этом случае совпадение затрагивает крайние подмножества четверичной парадигмы – интертекстуальные приемы (в виде отсылки к микротексту, автономному от цитирующего текста[79]) и интерлингвистические приемы (в виде начертательной анаграммы, полностью автономной от «цитирующего» языка). Возникает эффект хиазма: фразема, будучи текстом, тем не менее принадлежит главным образом к сфере устной коммуникации, т. е. «языка», а графическая анаграмма, шифрующая единицы другого языка, всецело принадлежит к сфере письменной коммуникации, т. е. «речи».
С одной стороны, категория фразем, подвергаемых импликации, может быть расширена за счет литературных формул, диссоциированных с каким-либо конкретным источником[80] (но при их, наоборот, экспликации способных отсылать к определенному стилевому регистру, жанру, культурно-историческому контексту, превращаясь из элемента некоторого языка в элемент дискурса о носителях этого языка[81]). С другой же, фразема способна отсылать к конкретному литературному источнику, даже если она не является крылатым выражением, к этому источнику восходящим[82].
Задача реконструкции кавычек подразумевает непреложно имплицитный характер подтекстуального приема, который всегда представляет собой загадку той или иной степени сложности[83]. То обстоятельство, что подтекстуальный прием и подтекст соотнесены друг с другом как загадка и отгадка, задает тенденцию к генерализации всего метода: каков бы ни был материал загадки, на его функцию это, в целом, не влияет. Поэтому к подтекстуальным приемам могут быть в принципе причислены любые вторичные сигнификаты[84], а круг потенциальных подтекстов может включать в себя не только инвариантные тексты (мифы и фольклор, авторские тексты в устном пересказе[85], слухи и т. п.), но и любые семиотизированные референты (биографические обстоятельства[86], исторические события, социальную / политическую злобу дня и пр.)[87]. Мандельштамовские приемы одного из четырех типов, а именно интратекстуальные имплицитные приемы, с трудом поддаются определению, поскольку декодировка любого иконического или индексного знака сопряжена с восполнением пропущенных логических звеньев посредством аналитической (а не синтетической) операции, а значит, любой такой знак может претендовать на роль интратекстуального имплицитного приема. Для поэтики Мандельштама характерны подобные приемы в виде кеннингов[88] и иных загадочных тропов, не строящихся на языковой игре и раскрываемых без привлечения подтекста, – например, в виде «метонимических» эпитетов, переносящих признак с одного объекта на другой по смежности[89]. Тесно взаимодействать или комбинироваться могут у Мандельштама как однотипные приемы – интертекстуальные[90], интратекстуальные[91], интерлингвистические[92], интралингвистические[93], так и приемы разных типов: интра– и интертекстуальный[94], интертекстуальный и интралингвистический[95], интертекстуальный и интерлингвистический[96], интратекстуальный и интралингвистический[97], интра– и интерлингвистический[98]. Примеры сочетания интратекстуального и интерлингвистического приемов мне неизвестны.
На некотором сравнительно раннем этапе теоретическая активность специалистов по Мандельштаму начала угасать. Было разгадано множество разрозненных «загадок», но оставались недораскрытыми их функция, взаимосвязь и отношение к высшим уровням плана содержания. В принципе, непреложность такого отношения постулировалась издавна, и вполне убежденно[99], однако обилие по видимости изолированных приемов вызывало (и продолжает вызывать) разочарование в подтекстуальном методе, в фокусе которого творчество Мандельштама кажется гигантским инвариантом такой загадки, чье содержание по сути исчерпывается ее конкретной отгадкой, да и самый труд интерпретатора зачастую низводится до уровня локальных дешифровок, соразмерных микроформату дискретных поэтических сообщений. Ощущение гносеологического тупика лишь усиливалось благодаря одновременному впечатлению информационной насыщенности и чуждой всякого педантизма раскованности мандельштамовского слова: формализация процесса дешифровки входила в противоречие с непосредственным читательским восприятием.
Как следствие, феномен Мандельштама не единожды описывали в терминах, почти никак не связанных с поэтикой: Мандельштам представал то (национально) – религиозным, то гражданским поэтом, и каждая из этих ипостасей конкретизировалась в пределах биполярного инварианта (христианский vs. иудейский; антисоветский vs. советский) с апелляцией (как правило, избирательной) к культурному бэкграунду Мандельштама, фактам его биографии, свидетельствам мемуаристов и, наконец, корпусу его сочинений. Вероятно, самым влиятельным опытом в этом роде является раздел книги М. Л. Гаспарова [1996], посвященный «Стихам о неизвестном солдате». Ученый исходит из допущения, что каждая из редакций произведения представляет собой линейное рассуждение, поддающееся пересказу, и что последовательность этих редакций отражает динамику историософской и гражданской позиции автора. На этом подходе основан провокационный тезис М. Л. Гаспарова о том, что «Стихи о неизвестном солдате» в конечном счете сводятся к политической агитке. Не ограничиваясь констатацией того очевидного факта, что в «Стихах» говорится о прошлых мировых войнах и о будущей войне, которая положит конец человеческой истории, М. Л. Гаспаров стремится прояснить идеологическую позицию Мандельштама, то ли призывающего предотвратить грядущую бойню, то ли приветствующего ее как необходимую жертву во имя светлого будущего. В зависимости от оценки этой позиции для той или другой строфы, для той или другой редакции текста интерпретатор тем или иным образом заполняет смысловые зияния (семантические и синтаксические). По сути, он реконструирует не смысл «Стихов о неизвестном солдате», а идеологические колебания О. Э. Мандельштама в 1937 г., и эта реконструкция по умолчанию принимается за ключевой подтекст «Стихов», либо объясняющий темные места, либо умаляющий важность их понимания.
Еще И. М. Семенко (в работе 1986 г.) противопоставила поэтику «Стихов о неизвестном солдате» мандельштамовской поэтике в целом, в какой-то мере предвосхитив и подготовив подход М. Л. Гаспарова (который, однако, распространил его на существенную часть творчества Мандельштама):
…склонность к безудержной словесной игре, образотворческому фантазированию в других произведениях Мандельштама зачастую вела к игре с вариантами, трактующими ту же тему прямо противоположно. Это характерно для вариантов «Грифельной оды», переложений из Петрарки. В «Стихах о неизвестном солдате» положение иное. Это произведение изначально целеустремленное; ему свойственны ясность замысла, четкость смысловых ходов, мотивированность ассоциаций. Темен его стиль, а не смысл. И это сказывается на характере возникающих новых фрагментов: в них почти отсутствуют обратные ходы, противоположные решения той или иной темы. В процессе создания «Стихов о неизвестном солдате» – это видно по сохранившимся материалам – почти отсутствовал «выбор» вариантов, и, в сущности, вариантов не было. Была некоторая перегруппировка и, главное, наращивание фрагментов – за счет расширения уже имеющихся образов и подхвата возникающих у поэта ассоциаций [Семенко 1997: 93][100].
Постулат об исключительности поэтического метода «Стихов о неизвестном солдате» в общем контексте творчества Мандельштама приобретает особую авторитетность под пером И. М. Семенко, ведь именно ей принадлежит одна из самых впечатляющих демонстраций того, как Мандельштам даже в своих переводах отдает предпочтение фонетике оригинала перед его семантикой (например, «часто дает <…> близкое итальянским рифмам звучание русских рифм», которые при этом «занимают те же места в строфе» [Там же: 122][101]). Между тем, как мне кажется, вынося свой вердикт по поводу смысла «Стихов о неизвестном солдате», И. М. Семенко в какой-то мере пребывает во власти читательской пресуппозиции, основанной на представлении о том, что торжественные стихи на тему мировых войн, принадлежащие Мандельштаму, с учетом его, так сказать, идеологического профиля в поздний воронежский период обязательно должны иметь однозначный смысловой стержень, каузально предшествующий любым семантическим темнотам. Таким образом, делается парадоксальный вывод о прозрачности смысла текста, несмотря на его темный стиль. Тем самым смешивается восприятие текста двумя разными субъектами – читателем, для которого темен его стиль, и автора, который, предположительно, вкладывает в него ясный смысл. В действительности же, как это видится мне, у Мандельштама идеологическое задание вторично по отношению к имплицитной мотивировке[102] и при этом зачастую противоречиво (или, если угодно, диалектически нейтрализовано)[103]. Пользуясь предложенной Д. М. Сегалом [2006: 214–229] антитезой традиционной «поэтики задачи» и выработанной символистами «поэтики загадки», можно сказать, что творчество Мандельштама принадлежит к самым радикальным воплощениям последней.
Безусловно, и биография Мандельштама на тех или иных ее отрезках, и низшие уровни смысла тех или иных его текстов дают основания для различных идеологически отмеченных определений, но ни одно из них не связано отношением предикации с призванием и профессией Мандельштама – поэт. Подобная привязка всегда является результатом идеологического вмешательства интерпретатора. Начать с того, что Мандельштам практически во все периоды жизни был исключительно последователен в своей идеологической непоследовательности. За пределами эстетической сферы персональный выбор Мандельштама, при всей своей искренности, по существу второстепенен. Мандельштаму по-настоящему дорог не тот или другой из взаимоисключающих вариантов, а как раз невозможность выбрать между ними, неразрешимость внутреннего конфликта[104] – то есть то, что составляет специфику трагической коллизии[105],[106]. Вероятно, этим объясняется и склонность Мандельштама к перемене убеждений на прямо противоположные[107], и свойственное ему курьезное неразличение противоположностей[108], и приоритет семантического ядра над придаваемыми ему значениями позитивности и негативности[109].
Впрочем, эта всегдашняя антитетичность интеллектуального поведения Мандельштама, будучи производной от его поэтики (а может быть, ее составляющей[110]), все же позволяет объявить его, допустим, поэтом гражданским или иудео-христианским, разрывающимся, подобно теургу, между полюсами своих идеологических притяжений. Суть же не в том, что он делает свой выбор в пользу сразу двух контрадикторных начал или меняет его на диаметрально противоположный[111], а в том, что этот идеологический пласт содержания творчества Мандельштама, в сущности, довольно тривиален[112] и вовсе не специфичен для этого творчества. Он сопутствует процессу текстообразования, непосредственно в нем не участвуя. Подобно области контекстуальных значений, идеологический вектор лишь ограничивает свободу выбора имплицитных мотивировок и, соответственно, свободу интерпретатора[113]. Грубо говоря, этот вектор в известной мере мотивирует отказ поэта от некоторых решений или стратегий, но положительных авторских решений он не определяет: по моему убеждению, ни одно мандельштамовское словоупотребление не мотивировано идеологическими притяжениями и колебаниями[114]. Сами же они превращаются в легитимные объекты филологической реконструкции только по завершении подтекстуального анализа произведения[115] (что я и постарался продемонстрировать в IV главе). Это в равной мере относится и к любым попыткам перевести мандельштамовский текст на язык подстрочника.
Основополагающий принцип поэтики Мандельштама (которому он, предположительно, стал систематически следовать после «Тристий») был сформулирован уже на ранней стадии развития контекстуально-подтекстуального анализа. Так, в программной статье 1970 г. Омри Ронен писал:
Согласно рабочей гипотезе К. Ф. Тарановского, положенной в основу <…> семинария [1968 г.], у Мандельштама в плане содержания нет ничего немотивированного, случайного или построенного на автоматических ассоциациях т. н. сюрреалистического типа. Для поэтики Мандельштама характерна строгая мотивированность всех элементов поэтического высказывания не только в плане выражения и в семантических явлениях, связанных с тыняновским понятием «тесноты стихового ряда» <…>, но и в плане содержания на самых высших его уровнях [Ронен 2002: 14–15][116].
Высказанная без малого полвека назад, гипотеза имплицитной (т. е. лежащей в плане содержания) доказуемой мотивированности всех элементов мандельштамовского текста до сих пор так и остается рабочей. В свое время, при тогдашнем уровне изученности корпуса произведений Мандельштама, она не могла получить достаточного подтверждения. В дальнейшем, однако, сами представители подтекстуального метода в своей практике по умолчанию исходили из того, что выдвинутый ими принцип мандельштамовской поэтики все же не тотален. В тех случаях, когда мотивирующий имплицитный смысл текста или его сегмента не распознавался, возникали герменевтические решения с элементами анагогических, биографических или чисто контекстуальных толкований. Эта методологическая эклектичность обозначилась еще резче на фоне все большего изобилия частных находок в области расшифровки разрозненных приемов: по мере того как множились эти находки, все очевиднее становилась их бессистемность.
Между тем истинными причинами методологического кризиса были, как это видится из сегодняшнего дня, во-первых, все еще недостаточное количество вскрытых имплицитных приемов, а вовсе не их избыток; во-вторых, неиспользование позднейших достижений интертекстуальной теории (вследствие чего полигенетичность каждого отдельного сегмента казалась принципиально ничем не ограниченной и внушала своего рода гносеологическую фрустрацию); в-третьих, отсутствие унифицированных правил верификации гипотез и удобной системы их регистрации. Однако на сегодняшний день совокупность накопленных доказательных наблюдений представляется достаточной для того, чтобы приступить к практическому подтверждению гипотезы Тарановского – Ронена (предварительно постаравшись хоть в какой-то мере заполнить и другие две лакуны).
Есть все основания полагать, что за каждым семантически независимым (не вспомогательным) словом или идиоматическим словосочетанием у зрелого Мандельштама стоит совершенно определенная и до известной степени постижимая логика, безотносительная к нормативному синтаксису. Эта логика основывается на имплицитном (то есть, в частности, диссоциированном с регулярной стихотворной структурой текста) мотивирующем приеме одного из четырех типов, который тесно взаимодействует с другими приемами того же и / или другого типа. Поскольку, с одной стороны, разные параметры одного и того же текстуального сегмента зачастую мотивируются порознь, а с другой, дистанцированные друг от друга сегменты (или их отдельные конвергентные либо перекрестно-симметричные параметры) получают общую мотивировку или взаимно мотивируют друг друга по принципу двойной импликации (наподобие рифмопары), объект мотивировки в общем виде следует понимать как эстетически ценностную трансцендентную величину. Элементарный, неделимый характер этой величины как раз и определяется ее мотивированностью имплицитным приемом. Суть такого приема заключается в проверяемо дешифруемой зашифровке интратекстуальной, интралингвистической, интертекстуальной или интерлингвистической величины, составляющей уникальную пару данной величине. Эта последняя может быть обозначена как единица поэтической коммуникации. Подобно тому как семы, входящие в состав семемы, одновременно могут входить в состав других семем, текстуальные сегменты, включенные в единицу поэтической коммуникации, принадлежат ей не эксклюзивно и могут целиком, по частям или в сочетании с другими сегментами относиться и к другим единицам, однако вне этой системы отношений они не обладают в поэтике Мандельштама собственным эстетическим значением[117]. Современное толкование Мандельштама, как я полагаю, должно исходить из первоочередной необходимости установить, чем конкретно мотивирован «пропуск» в текст каждого из его семантически неразложимых элементов, и выяснение этой мотивировки должно предшествовать каким бы то ни было обобщениям.
Необходимо подчеркнуть, что хотя эксплицитные приемы (в частности, тропы, не представляющие проблемы для понимания, т. е. поддающиеся автоматической дешифровке по ходу чтения) в общем случае не обеспечивают необходимой мотивировки присутствия соответствующего сегмента в тексте, а значит, не имеют и самостоятельного эстетического значения с точки зрения поэтической системы Мандельштама, это вовсе не означает, что по неким абсолютным критериям они эстетически уступают аналогичным приемам в других поэтических системах. Эксплицитные приемы Мандельштама, вне всяких сомнений, требуют полномасштабного изучения, с параллельным анализом их взаимодействия с имплицитными приемами.
Принципы анализа текста, постулированные К. Ф. Тарановским, побудили его первых критиков-единомышленников задуматься над проблемой множественности подтекстов, которую сам Тарановский не концептуализировал:
Убедившись, что многие из предлагавшихся нами решений и сопоставлений уже рассматривались К. Ф.и были отвергнуты им как недостаточно доказательные или избыточные, мы решили отказаться от «монтажа дополнений» в этой рецензии.
Возможно, это же самоограничение побуждает К. Ф. исключать некоторые аналогии к тем текстам, для которых уже найден подтекст, – но, может быть, такие случаи свидетельствуют о принципиальном представлении К. Ф. об обязательной единственности подтекста, нигде в книге специально не сформулированном» [Левинтон, Тименчик 2000: 405].
И далее:
…пересечение подтекстов есть некоторый «сюжет» взаимоотношения культур, языков и т. п., столь часто эксплицируемый в статьях и стихах Мандельштама <…>. <…> слова Мандельштама о неумолкаемости цитаты равнозначны его определению акмеизма как «тоски по мировой культуре». Поэтому нам кажется, что подтекст всегда не единичен, что самый механизм подтекста неизбежно ведет к множественности, образующей более глубокую семантическую структуру.
Это, по-видимому, все-таки не противоречит установкам К. Ф. <…>» [Там же: 409].
Вопрос, поставленный рецензентами книги Тарановского, не был непосредственно внушен этой книгой; в 1970-е годы он вообще был дискуссионным среди исследователей русского модернизма, поскольку при необъявленной установке на выбор единичного, наиболее убедительного подтекста всякое наблюдение и всякое сделанное на его основе умозаключение становятся уязвимыми, потенциально ошибочными (а не открытыми для дополнений и уточнений). Уже отправная гипотеза Тарановского, развитая в его первой статье о Мандельштаме, – насчет передаточной роли Вяч. Иванова в генезисе мандельштамовских образов пчел и ос, – с одной стороны, самим своим содержанием затрагивает проблему диахронии подтекстов, а с другой – подвергается ревизии с синхронистических позиций, а именно: Лена Силард усматривает в мифологическом субстрате мандельштамовской мотивики, связанной с жалящими перепончатокрылыми, еще более тесные сближения с пьесами Анненского («Лаодамия», 1906), Сологуба («Дар мудрых пчел», 1907) и Брюсова («Протесилай умерший», 1913) [Силард 1977: 90]. Одновременно и в той же связи о мандельштамовской рецепции Анненского как переводчика Еврипида и оригинального драматурга высказался Г. А. Левинтон [1977], а еще раньше Р. Д. Тименчик [1974: 41] аргументированно предположил, что «пчелы и осы в поэзии Мандельштама часто семантически связаны с образом Ахматовой».
В классической книге О. Ронена «An Approach to Mandel’tam» (1983) постулируется концепция доминантного подтекста, подчиняющего себе и тематически организующего все остальные подтексты стихотворения [Ronen 1983: XVII]. Вероятно, важнейшим стимулом к формулировке этой концепции Ронену послужила его собственная статья 1979 г. «К сюжету “Стихов о неизвестном солдате” Мандельштама», в которой главенство одного-единственного из многих и многих подтекстов этой большой вещи было продемонстрировано с большой убедительностью. Как бы то ни было, проблема множественности подтекстов и их иерархии ставилась в данном случае по отношению к целому текста, что, с одной стороны, подталкивало к комплексному анализу подтекстов (к сожалению, в качестве метода он так и не утвердился, – см. ниже), но, с другой стороны, и уводило от вопроса о полигенетичности отдельно взятого мотивированного сегмента. Вместе с тем и следом в предисловии, и в основных, практических разделах книги Ронена этот вопрос решается безусловно положительно, причем изобилие подтекстов одного и того же места текста внушает ощущение, что их круг способен шириться и дальше (а также – что на этом сегментарном уровне подтексты не имеют сколько-нибудь строгой иерархии). А. К. Жолковский в рецензии на книгу Ронена приветствовал это расхождение между практикой и теорией:
The concept of the dominant subtext <…> has its problems. <…> aside from possible disagreements about this or that candidate for the role in each specific case, the more general question is: Does there have to be one and only one principal intertext? Fortunately, Ronen sounds more categorical in theory (where he is in agreement with such critics as Bloom and Riffaterre) than in practice, where he lets the empirical evidence take the better of his methodological intentions and considers several subtexts on an equal footing [Zholkovsky 1987: 116].
Несколько иное впечатление от избытка вскрытых Роненом подтекстов засвидетельствовал М. Л. Гаспаров в предисловии к собранию статей Ронена [2002: 6]: «Помню свое первое впечатление от монографии О. Ронена 1983 г., я подумал: “Ну вот, интертекстуальный метод рухнул под тяжестью собственного накопленного материала <…>”». Дальше Гаспаров признает, что был неправ, но, кажется, не вполне искренне. Впрочем, и Жолковский в цитированной рецензии, несмотря на весь энтузиазм, поделился аналогичным тревожным соображением: «Where do we stop in seeking subtexts? Are we looking for the actual fragments we claim our poet read and reacted to, or are we documenting with our findings the typical building blocks of the relevant types of discourse?»
В самом деле, именно по контрасту с великолепными разборами множества отдельных подтекстуальных приемов отчетливо чувствуется специфический дискомфорт, возникающий при чтении других страниц монографии Ронена и его статей о Мандельштаме, написанных с неизменными изяществом и глубиной, но таких, где выявляемый подтекстуальный субстрат предстает в несколько расфокусированном виде и мы вольны отдать предпочтение тому или другому из равноправных подтекстов или сами ввести неучтенный подтекст в этот разомкнутый круг[118]. Означают ли эти перепады суггестивности, что само понятие подтекста безосновательно объединяет разнородные явления? Или что искомый подтекст в ряде случаев не был найден и был непроизвольно подменен эрзацами, которыми всегда изобилует широкий контекст? Или, может быть, что вопреки гипотезе о тотальной мотивированности текст Мандельштама может иметь «слепые» участки, не обеспеченные имплицитной мотивировкой?
В связи с рассмотрением одной сугубо частной проблемы Г. А. Левинтон затрагивает универсальный вопрос о дифференциации между интенциональными и неинтенциональными подтекстуальными приемами, первые из которых частью бесспорны, частью же (читай – несравнимо большей) неотличимы от вторых, вследствие чего, по мнению исследователя, вопрос об авторской интенции методологически неправомерен [Левинтон 1977: 201–202]. Р. Д. Тименчик приходит к выводу, что в акмеистических текстах
[г]лубинные цитаты существуют в состоянии пульсации, создавая или не создавая новый уровень интерпретации текста, в зависимости от того, какой из расходящихся смыслов читатель-собеседник находит при данном контакте с текстом доминирующим. <…> Поэтому для такого текста в принципе снимается различение цитаты генетической и семантической <…> – обнаружение перво[й] имеет результатом некое филологическое удовлетворение, а не эстетическое удовольствие [Тименчик 1981: 69–70][119].
Соглашаясь с тем, что вопрос об интенциональности подтекстообразования, или, иначе говоря, о различении семантической и генетической цитации в подавляющем большинстве случаев не приложим к медитативному процессу письма[120] и, соответственно, чтения, необходимо, однако, подчеркнуть, что этот вопрос может быть корректно преобразован в другой – о структурной верифицируемости приема. В этом случае проблема свободного «обрастания» сегмента текста подтекстами может получить достаточно строгое ограничительное решение.
Р. Д. Тименчик в ряде своих работ настаивает на принципиальной для модернистического художественного сообщения полигенетичности и формулирует специфику применения этого принципа у акмеистов (главным образом у Ахматовой):
«Полигенетичность цитаты (описанная для Блока В. М. Жирмунским и З. Г. Минц) у Ахматовой осознана как главный принцип цитации: цитирующееся место всегда уже имеет известный автору источник или традицию. Цитируется, собственно, не одно место из определенного текста, а дублетная пара текстуальных соответствий (в стихах и в прозе, в русском и в иностранном тексте, в тексте XIX в. и XX в., тексте, принадлежащем античности и культуре нового времени, в общеизвестном и заведомо малоизвестном и т. д.)» [Тименчик 1975: 125–126]; «Текст стремится уклониться от цитаты-импульса. Наиболее последовательной формой этого уклонения является апелляция к другой, заведомо инородной цитате» [Тименчик 1981: 71]; «Текст у акмеистов апеллирует не столько к другому тексту, сколько к процедуре перехода от текста к тексту, к некому межтекстовому пространству» [Там же: 73]; в частности, «[а]хматовский текст устанавливает диалогические отношения между несколькими цитируемыми текстами», тогда как у Блока подтексты не коммуницируют между собой [Тименчик 1975: 126].
В приведенных цитатах акцентируется важнейший, с моей точки зрения, императив акмеизма: акмеистический текст призван инициировать или реактивизировать диалогические отношения между своими подтекстами. В процитированных тезисах, однако, не уточняется характер интертекстуальных операций, присущих акмеистическому дискурсу: «знакомит» ли он диссоциированные тексты, подобно тому как Мандельштам призывал знакомить слова?[121] Проникает ли он в генеалогию своего непосредственного источник, самим этим источником неотрефлексированную, цитируя заимствование? Вмешивается ли он в подслушанный разговор между двумя текстами, цитируя цитату? По-видимому, все варианты подразумеваются как равноправные[122].
«[А]ксиому о принципиальной неединственности источника» как «частн[ое] проявление – для области подтекстов – более общего принципа: неединственности значения поэтического текста и его элементов» постулирует в эти годы и Г. А. Левинтон, стремясь при этом дефинировать ее таким образом, чтобы оказались учтенными и те случаи, когда подтекст по видимости единичен:
Связи подтекста могут быть «метафорическими» и «метонимическими» (в смысле Якобсона). К первым относятся случаи, когда цитируется текст уже кем-то цитировавшийся[123]. Мы убеждены, что эти предшествующие случаи цитации учитываются в последующих текстах (психологическая интерпретация: автор помнит, что это «уже было»). «Метонимические» связи могут быть связями цитируемого текста; цитируя текст или фрагмент, мы подразумеваем и окружающие его элементы [Левинтон 1977: 219].
Под окружающими элементами здесь подразумеваются другой текст (другие тексты) из того же контекста или другой фрагмент (другие фрагменты) из того же текста. Следовательно, цитация фрагмента, указывающая на другой, соседний с ним фрагмент, трактуется как один из вариантов неединственности подтекста, а понятие подтекста тем самым перестает относиться исключительно к целому цитируемого произведения.
Итоговым текстом в литературе вопроса стала книга И. П. Смирнова «Порождение интертекста: Элементы интертекстуального анализа с примерами из творчества Б. Л. Пастернака» (1985), в которой на основе ряда научных прецедентов, включая семиотическую поэтологию символизма и акмеизма, построена оригинальная интертекстуальная теория и, в частности, сформулирована фундаментальная роль преинтертекста (пространства отношений между подтекстами) в эстетически значимом текстообразовании. С сожалением приходится констатировать, что книга Смирнова до сих пор не оказала сколько-нибудь заметного обратного влияния на интерпретаторов творчества Мандельштама. Ниже я постараюсь изложить некоторые из ее ключевых положений и, по возможности, приспособить их к практическим нуждам нашей субдисциплины (хотя и не ограничивая себя примерами из Мандельштама).
В пресуппозиции интертекстуальной (а по сути – вообще эстетической) модели Смирнова лежит простое рассуждение о том, что поскольку в пределах нашего опыта из ничего не может возникнуть нечто, то, следовательно, и элементарное художественное сообщение может быть получено только посредством некоторой операции над (минимум) двумя уже существующими аналогичными сообщениями (либо посредством аналитического расчленения данного и рекомбинации его элементов, либо посредством синтеза одного данного с другим). Смирнов подвергает пересмотру якобсоновский принцип параллелизма и объявляет залогом художественности текста принцип «повтора прекращенного повтора», «двойно[го] параллелизм[а], проводимо[го] и внутри каждой последовательности значимых элементов, и между самими последовательностями». «Этим обусловливается введение в линейную прогрессию текста такого третьего звена, которое <…> указыва[ет] на прекращение повторяемости» [Смирнов 1995: 17–18]. Этот принцип, согласно Смирнову, работает на всех уровнях – начиная с интратекстуальных микроуровней и кончая интертекстуальным и т. д., вплоть до интерстилистического, интержанрового и интерфабульного уровней[124].
Что же следует понимать под повтором? Опираясь на уровневые модели текста, выдвинутые Ю. Кристевой и А. Ж. Греймасом, Смирнов [1995: 62–65] различает «три стороны интертекстуальных отношений (фонетику, семику и синтагматику)», вычленяет «в каждом из этих планов единицы разной протяженности» и перечисляет шесть логически допустимых «типов замещения одной единицы другой», каждая из которых может захватывать любой из этих трех планов[125].
Однако на самом общем уровне повтор для Смирнова, как и для Якобсона, есть синоним параллелизма двух элементов, которые могут быть связаны либо синхронными отношениями (как, например, зеркально симметричные элементы в пластических искусствах, персонажи или мотивы-двойники в нарративных текстах и т. п.), либо диахронными. Упрощая вышеупомянутую шестеричную трансформационную модель, можно утверждать, что прекращение повтора в пределах одного текста проявляется или как интегрированная в повтор вариация, т. е. элемент асимметрии (в частности, нетавтологическая рифма уже содержит в себе прекращение повтора), вплоть до маркированного удаления одного из двух элементов пары; или как соседство другого тавтологического повтора[126] (в пластических искусствах два атемпоральных повтора ограничивают друг друга пространственно); или, наконец, как полный контраст, т. е. прекращение повтора в форме его категорической негации, маркированного вытеснения (ср. мотив контрарного или контрадикторного двойничества; повтором прекращенного повтора по отношению к такой антиномичной паре будет хиазм – обмен предикатами, порождающий два оксюморона, зеркальных относительно друг друга).
Если повтор осуществляется одним текстом по отношению к другому, то фактором прекращения повтора является рефлексия по поводу этого повтора, т. е. знак цитации. При этом повтор прекращенного повтора может осуществляться двояко: 1) за счет сведения (сознательного или нет) в преинтертексте двух подтекстов, генетически непосредственно не связанных между собой (повтор каждого из них «прекращается» благодаря повтору другого, по аналогии с пластическими искусствами[127], причем это прекращение может форсироваться инспирацией пародийного контраста двух подтекстов[128] или полемики между ними[129]) и требующих от интерпретатора установления преинтертекстуальной мотивировки их соседства, либо 2) за счет «многоступенчатой» цитации[130], т. е., если говорить о «двухступенчатом» варианте, – цитации цитаты[131] (этот второй вариант может быть усложнен инверсией генетической ретроспективы – например, в форме игры с модальностями автора и персонажа[132] или в форме (относительной) импликации более позднего источника при (относительной) экспликации более раннего[133]). Напомню важнейший тезис А. Л. Осповата и О. Ронена: «Мандельштам с безошибочным чутьем избирает для подтекстообразующего цитирования, прямого или зашифрованного, как раз места, сами представляющие собой цитату или поэтическое оформление “чужого” художественного или идеологического прототипа» [Ронен 2002: 119][134].
При цитации цитаты принцип повтора прекращенного повтора проявляется по-разному в зависимости от того, является ли как цитирующий, так и цитируемый прием эксплицитным или имплицитным. Фактором прекращения повтора служит и импликация эксплицитного приема[135], и экспликация имплицитного[136]. При имплицитной цитации имплицитной же цитаты прекращение повтора выражается в расширении приема за счет воспроизведения несовпадающих элементов текста-первоисточника и текста-посредника. У Мандельштама соответствующая техника достигает исключительной виртуозности[137]. При эксплицитной цитации эксплицитной же цитаты прекращение повтора обеспечивается за счет рефлексии по отношению к прекращению повтора (в форме экспликации цитатности) в тексте-посреднике[138].
Повтор прекращенного повтора как фундаментальный принцип развертывания эстетически ценностного сообщения имеет в поэтике Мандельштама важнейшее коммуникативное назначение: с одной стороны, он гарантирует верификацию каждой реконструированной имплицитной мотивировки, с другой – обеспечивает наличие разных, альтернативных друг другу маршрутов, ведущих к одним и тем же высшим уровням плана содержания.
Если «[в]сякое произведение словесного (и – шире – художественного) творчества реактивирует как минимум два источника, обнаруживая между ними отношение параллелизма» [Смирнов 1995: 19], то, следовательно, генеалогические корни произведения бесконечно ветвятся, проходя сквозь более и более глубокие подтекстуальные слои (ведь у каждого из как минимум двух источников есть как минимум два собственных источника, из которых как минимум один не совпадает ни с одним из двух источников другого первичного источника, и т. д.). Очевидно, что в качестве транзитивного приема цитация обязана отсечь подавляющее большинство генетически и типологически заданных, но нерелевантных подтекстуальных коннотаций. Однако «отношение параллелизма», т. е. преинтертекстуальный синтаксис, как раз и служит тем ограничительным фактором, который помогает реципиенту не заблудиться в лабиринте отзвуков и теней. В тех случаях, когда отношение параллелизма проецирует на ось синтагм непосредственную генетическую связь двух источников (т. е. при цитации цитаты), отсечение нерелевантных корней не просто осуществляется само собой, но и входит в коммуникативное задание текста.
Прежде всего именно в ракурсе верифицируемости имплицитных приемов и тестируемости интерпретативных стратегий следует подойти к принципу удвоения приема в поэтике Мандельштама[139], для которой не действует то общее правило, что «[с]охранившиеся свидетельства чтения – единственная инстанция верификации находок комментаторов» [Тименчик 1997: 95][140]. Даже напротив: сами эти находки подчас служат единственным подтверждением знакомства поэта с предполагаемым источником[141]. Универсальный принцип всякого загадывания гласит: чем сложнее загадка, тем элементарнее должна быть отгадка. Дело здесь не только в простой экономии затрат, подсказывающей не прятать и без того неочевидное, но и в «сенсационном» эффекте узнавания или понимания, который обусловлен заведомой узнаваемостью или постижимостью загаданного. Поскольку мандельштамовские «загадки» характеризуются высоким уровнем герметичности, их «отгадки» очень часто принадлежат к очевидным и общедоступным сферам духовной культуры: это расхожие мифологические и фольклорные мотивы, популярные символы, речевые клише, хрестоматийные цитаты[142]. Подобные источники маркированы как продукты повторов и копирований, поэтому эффект прекращения повтора достигается уже самим их сокрытием или расподоблением, и этот прекращенный повтор, в полном согласии с концепцией Смирнова, удваивается, чем и гарантируется фиксация и верификация обоих приемов, отраженных друг в друге. Установка на хрестоматийность цитат и, следовательно, на заведомое знакомство некоего собирательного читателя с соответствующими литературными источниками подсказывается также и возлагаемой на этого читателя задачей реконструкции преинтертекста[143].
Но узнаваемость большинства подтекстов объясняется не только и даже не столько транзитивной телеологией, сколько самой спецификой авторской инстанции, способной производить имплицитно мотивированный дискурс. Как пишет Ю. М. Лотман,
в системе акмеизма культура – вторичная система – фигурирует на правах первичной, как материал для стилизации – построения новой культуры. Такой тип семантической структуры особенно интересен, поскольку самим акмеистам иногда был свойствен – на уровне вторичной системы – пафос отказа от культуры. Создаваемые ими тексты порой имитировали докультурный примитив (разумеется, в представлениях культурного человека начала ХХ в.). Однако определяющим было не то, что имитируется, а самый факт имитации – низведение вторичного текста в ранг первичного [Лотман Ю. 1996a: 709–710][144].
Понятно, что не только условно-примитивный объект имитации (инспирации сходства), а всякий объект имитации либо, так сказать, аппликации (инспирации смежности) должен быть узнаваем[145].
Итак, поэтический текст несет в себе зашифрованное сообщение, в котором означающими выступают абсорбированные элементы других текстов, а означаемыми – сами эти тексты[146], в общем случае – тоже поэтические, т. е. являющиеся вторичными знаковыми системами, или, иначе говоря, комплексными сообщениями с доминирующей поэтической функцией. Следовательно, цитирующий текст, независимо от его семиологической интенции, начинает функционировать как знаковая система следующего уровня – «третичная» знаковая система, или, если угодно, комплексное сообщение с доминирующей метапоэтической функцией. При этом Мандельштам не позволяет читателю абстрагироваться от невозможности выбора между «первичным» и «вторичным» референциальным рядом[147].
Коль скоро «третичная» знаковая система соотнесена со вторичными системами как речь с языком, вполне ожидаемо, что те единицы этого «языка», которые в качестве вторичных систем оказываются более востребованными в собственной читательской практике автора, будут и более употребительными в его авторской «речевой» практике. Думается, такая постановка вопроса заодно и избавляет нас от призрака автора-конспиратора с шифровальным механизмом вместо разума и сердца, – призрака, в особенности фантастичного по контрасту с интонационной суггестивностью мандельштамовского слова: стоит ли удивляться подтекстуально мотивированной поэтической речи более, чем способности производителя бытовой речи подбирать нужные слова и согласовывать их между собой?[148]
В этом же ключе может быть переосмыслен и завораживающий эффект эстафетной, трансисторической цитаты, переходящей из одного текста в другой. Такую цитату можно уподобить поговорке; она переходит от старших к младшим, поколение за поколением. Ее воспроизведение выражает причастность к этому континууму. Но она же, по завету Баратынского, столь близкому акмеистам, должна быть поверена индивидуальным опытом.
Удвоение приема у Мандельштама – явление весьма обычное[149]. Оно как бы дает нам возможность вложить персты в кремнистый путь из старой песни. Вообще же верификация имплицитных приемов почти всегда опирается на те или иные не столь буквальные проявления этого принципа. В частности, интерлингвистические приемы у Мандельштама довольно педантично подтверждают сами себя тем, что русское слово парономастически отсылает к иноязычному эквиваленту соседнего русского слова (а не, скажем, более уместного по контексту и лишь подразумеваемого). Верифицирующим элементом, инкорпорированным в сам прием, может служить и включение в цитацию контекстуальных признаков цитируемого элемента, не содержащих в себе никакой самостоятельной информации[150]. Под семантизацию контекстуальных признаков как цитатных подпадает и место публикации[151]. Своего рода эквивалентом удвоения приема можно считать и цитацию цитаты (см. выше) или рекуррентного элемента подтекста[152]. Альтернативой удвоения приема является его раздвоение, при котором равноправные решения не понуждают нас к выбору, а создают непротиворечивый преинтертекст[153]. Но и вообще повтор прекращенного повтора как фактор формирования преинтертекста сам по себе служит залогом верификации приема, поскольку он предполагает семантическое согласование как минимум трех поэтических высказываний.
Процедура вскрытия мандельштамовского приема включает в себя его 1) фиксацию – переход от целого к его неделимой части, т. е. распознание единицы поэтического высказывания в качестве элементарной с помощью индикаторов (сигналов, маркеров) цитатности[154]; 2) переход от части одного целого (от сегмента текста) к сходной части другого целого (к сегменту подтекста); 3a) переход от части другого целого к другой, смежной его части или какому-либо его признаку на основании ее или его сходства с какой-либо частью или признаком текста-консеквента либо 3b) переход от части другого целого к сходной с нею части третьего целого и нахождение другого общего признака всех трех текстов[155]; 4) сопоставительный анализ всех вскрытых приемов текста-консеквента и реконструкцию его преинтертекста[156]. При этом постулирование тотальной мотивированности мандельштамовского слова не означает, что процесс дешифровки можно начинать с любого места: количество точек «вхождения в текст» ограничено. Кроме того, преодолеваемый «маршрут» может казаться тупиковым до тех пор, пока не сомкнется с другим, альтернативным. Поэтому реконструкции преинтертекста предшествует синхронная аналитическая работа на разных направлениях. В частности, иногда недостаточно установить, по какому признаку подтексты объединены в преинтертексте, и требуется вскрыть мотивировку выбора именно этих, а не других фрагментов для воспроизведения в тексте[157] (хотя в других случаях эти два вопроса совпадают[158]).
Помимо удвоения приема и других операций, эквивалентных его удвоению, верификация может быть проведена по контексту – на основании доказуемости аналогичного приема в другом подобном случае или, наоборот, доказуемости отсутствия аналогичного приема там, где отсутствуют его семантические признаки[159]. Фактором верификации приема может служить и мода на подобные приемы, будь то в масштабах «литературного быта»[160] или всей литературной эпохи[161]. Общим критерием верификации во всех подобных случаях служит обратная пропорция между количеством совпадений и их, так сказать, качеством, т. е. мерой их нетривиальности (понятно, что совпадение редкого стихотворного размера или изысканного тропа знаменательней, чем размера или тропа общеупотребительного, и т. д.).
Не меньшее значение имеют принципы негации гипотетического приема. Предварительным условием их выработки является описание тех принципов проведения приема, от которых Мандельштам не отклоняется, поскольку в его художественной системе это было бы нарушением коммуникативного кода. На правах предварительных замечаний к будущему построению такой ограничительной модели (никоим образом не претендующих на систематичность), можно, во-первых, предложить считать заведомо невозможным наличие приемов, построенных на серии последовательных трансформационных операций, как противоречащих принципам коммуникативной прагматики, ведь начиная по крайней мере с третьей по счету операции возможность верифицируемой дешифровки практически сводится на нет. Во-вторых, можно предположить, что для мандельштамовского метода анаграммирования (по крайней мере, если речь не идет о шуточных стихах) характерно сохранение исходной группы консонантов (с некоторыми допустимыми – но отнюдь не произвольными – фонологическими преобразованиями, ожидающими своего исследователя, а также с возможной потерей или возможным добавлением одного – и также, вероятно, отнюдь не всякого – звука)[162]; исключением из этого правила является воспроизведение соответствующих слогов на соответствующих позициях в переводах из Петрарки, что приводит к появлению ударных слогов на метрически безударных позициях, т. е. к имитации силлабического стиха оригинала и, тем самым, к присвоению гласным признака тождества[163]. В-третьих, по-видимому, мандельштамовская модель трансформационных операций (опять-таки, по крайней мере, за пределами пародийного дискурса) отвергает омонимию антецедента и консеквента при их грамматической неоднородности[164]. В-четвертых, тот же ограничительный принцип действует и в отношении интратекстуальных приемов, основанных на смысловой дизъюнкции[165]. Наконец, в-пятых, основанием для «отвода» подтекста может служить его семантическая несоотносимость с текстом во всех аспектах, непосредственно не затронутых предполагаемой трансформацией[166], и вместе с тем отсутствие встроенного механизма избыточной верификации (способного компенсировать – с точки зрения коммуникативности текста – семантическую нерелевантность подтекста).
Но опровержение цитации не снимает еще вопроса о наличии интертекстуальной связи, который может быть решен отрицательно[167] либо положительно, и если положительно, то в пользу заимствования[168], типологической общности[169] или конвергенции[170]. Разумеется, часто мы не располагаем достаточными данными для того, чтобы склониться к одному из возможных типов межтекстовых отношений[171]. У Мандельштама с его усиленной заботой о возможности верификации приема такой информационный дефицит может создаваться в связи с его так называемыми ляпсусами (которые он, как известно, в одних случаях соглашался устранить, в других – отказывался)[172].
В связи с задачей верификации либо негации гипотетического имплицитного приема следует помнить, что задача эта, как правило, объективно не может быть решена на основе имеющейся на текущий момент информации, а может быть лишь в той или иной мере подготовлена для будущего решения[173]. Более того, мы в лучшем случае можем говорить о перспективах построения иерархической верификационной модели, но не о выработке абсолютных критериев верификации имплицитных приемов. Таких абсолютных критериев не только не может, но и не должно быть. Здесь уместно провести аналогию между ситуацией интерпретатора Мандельштама и гносеологической ситуацией фантастического героя и читателя фантастического текста, как ее некогда сформулировал Цветан Тодоров: фантастический текст, согласно его концепции, оставляет читателя в неразрешимых сомнениях относительно природы основных повествуемых событий, но побуждает его склоняться к их сверхъестественному объяснению, тогда как два смежных жанра (или, точнее, жанровых инварианта) – с одной стороны, литература о чудесном (marveilleux), к которой относятся волшебная сказка, научная фантастика, фэнтези, а с другой – детективная литература – разрешают читательские колебания, давая этим событиям соответственно сверхъестественное либо естественное объяснение [Тодоров 1997]. Если уподобить проявлению сверхъестественной природы проявление «поэтической функции», то эксплицитные приемы (допустим, регулярная рифма) могут быть соотнесены с подтверждением сверхъестественной природы таинственного в тексте о чудесном, тогда как имплицитные приемы – с недоказуемостью, но большой вероятностью сверхъестественной природы таинственного в фантастическом тексте. Так же, как попытка фантастического героя подчинить себе таинственное и утилизировать его в качестве чудесного оборачивается дезавуацией таинственного, детективной по своей сути, и крахом личности героя (например, в «Пиковой даме»)[174], стопроцентная неопровержимая верифицируемость имплицитного приема в общем случае равнозначна, так сказать, поэтической дисфункции, самоуничижению поэтического текста до уровня «прикладных» жанров, приемы которых оказывают полностью предсказуемое эмоциональное воздействие на целевую аудиторию. Интерпретатор мандельштамовского текста находится в чрезвычайно некомфортном положении фантастического героя, которое Ренате Лахманн приравнивает к положению фрейдовского параноика, отвергающего
какую бы то ни было случайность. <…> Само собой разумеется, что повторение события имеет в данном случае конститутивное значение, так как повторение уничтожает впечатление непреднамеренности. Однако параноик, как подчеркивает Фрейд, в состоянии с педантической точностью замечать многое, что ускользает от нормального восприятия. Обостренное и проворное внимание параноика заставляет его, перед лицом гетерогенных явлений действительности, выработать в себе способность постоянно сохранять бодрствующее состояние, способствующее маниакальному порождению объясняющих гипотез [Лахманн 2009: 100].
Отличие интерпретатора Мандельштама от фантастического героя заключается в том, что последний отказывает в контингентности событиям, а первый отказывает в произвольности авторским решениям. Разработка верификационной модели имеет своей целью недопущение подмены интерпретатором возможных – и не более того – авторских решений собственным произволом.
На языковые приемы в поэтике Мандельштама возлагается главным образом навигационная, фатическая и вообще вспомогательная функция: они проявляют связи между подтекстами, создают подсказки и т. п., т. е. играют подчиненную роль относительно текстуальных приемов. Поскольку же отправной точкой мандельштамовского дискурса является принципиальная установка на его коммуникативность, интратекстуальные приемы, по идее, иерархически стоят ниже интертекстуальных, а среди этих последних «свои подтексты» – ниже «чужих». Таким образом, среди мандельштамовских имплицитных приемов литературные, мифологические, фольклорные, интермедиальные, а также научно-теоретические, герметико-доктринальные и т. п. подтексты предположительно образуют «привилегированный класс»[175].
Выявленные подтексты одного и того же текста до сих пор, как правило, анализировались изолированно друг от друга: интерпретаторы стремились понять характер смысловых отношений текста с отдельно взятым подтекстом и за счет одного этого достичь нового уровня понимания произведения как целого и поэтики Мандельштама как единой системы. Одному из подтекстов могло присваиваться значение основного, остальным – дополнительных, оттеняющих его или просвечивающих сквозь него[176], но общность различных подтекстов как таковая почти не привлекала специального интереса[177]. Иначе говоря, в период, предшествующий появлению этой книги, мандельштамовские преинтертексты, насколько мне известно, систематически не исследовались[178].
Моя гипотеза, опирающаяся на результаты каждой из глав книги, заключается в том, что в поэтике Мандельштама многие (или все) подтексты одного текста или ансамбля текстов несут одну и ту же емкую ключевую информацию, осуществляя, по Якобсону, проекцию принципа эквивалентности с оси селекции на ось комбинирования. Подобно тому как изоморфностью и изофункциональностью двух отдельных приемов обеспечивается, с одной стороны, их верификация при условии обнаружения их обоих, а с другой – транзитивность общей для них прагматической функции в случае необнаружения одного из них, смысловое и нарративное единство преинтертекста призвано гарантировать его правильную реконструкцию и последующий переход к адекватной интерпретации[179].
Майкл Риффатерр, занимавшийся адаптацией теории Соссюра к специфическим проблемам анализа модернистских текстов, постарался освободить ее от ее фиксации на узко-специфическом приеме. Поль де Ман так резюмирует новацию Риффатерра:
…необразцовая модель Соссюра подвергается у Риффатерра трансформации, на первый взгляд не слишком значительной: на протяжении одного-двух коротких пассажей гипограмма превращается в гипотекст. Соссюровская фрагментация ключевого слова <…> заменяется гипотезой о скрытом тексте-ключе, который не является словом, тем паче не является инскрипцией, а является «семантическим данным» («donne semantique»), иначе говоря, единицей значения, поддающейся прочтению, допускающей грамматическую предикацию, но никак не привилегированной в плане своей семантической ценности. Разворачивание текста имеет, однако, своей целью не высказать это значение (это было бы лишено всякого интереса, поскольку семантическое ядро само по себе ничем не примечательно), а скрыть его <…> или, скорее, «переодеть» это значение, облачить его в пестрые покровы системы вариаций или параграмм, сверхдетерминированных посредством кодификации. Эта сверхдетерминация дразнит любопытство читателя и вовлекает его в поиск скрытого смысла, где сам процесс поиска и является вознаграждением. <…> И хотя гипограмма ведет себя достаточно боязливо, она в конечном счете будет разоблачена, поскольку именно в этом и состоит ее raison d’tre: форма закодирована таким образом, чтобы выявлять свой собственный принцип детерминации. <…> Как и при фрейдовской интерпретации сновидений, то, что нам в конце концов открывается, кажется удивительно малым сравнительно с той хитроумной работой, которая потребовалась, чтобы сделать это содержание неузнаваемым. На самом деле, это содержание может быть совершенно ничтожным. Тем не менее его существование, актуальное или потенциальное, необходимо для того, чтобы мог состояться весь процесс. Читатель занимается дешифровкой и пытается приподнять завесу до тех пор, пока ему не откроется верное прочтение; в этот момент, как пишет Риффатерр, «все структурные эквивалентности становятся ему вдруг очевидны в акте внезапного озарения» <…> [Ман 1993: 44–45].
Это описание более приложимо к творчеству современников Мандельштама[180], чем к его собственному, в котором статус гипотекста придан преинтертексту, объединяющему все (или многие) подтексты в когерентное смысловое единство. Насколько можно судить по исследованным примерам, такой гипотекст, как правило, обладает несомненным привилегированным семантическим статусом, подобно соссюровской гипограмме, но, в отличие от последней, не имеет строгого лексического выражения[181]. В тех случаях, когда мы вправе предположить, что знаем если не все, то почти все верифицируемые подтексты произведения, общий знаменатель (преинтертекст) каждой такой совокупности подтекстов оказывается таким гипотекстом, который повествует о некоторой мифоемкой коллизии, представляющей собой метафорическую квинтэссенцию эстетической и идеологической (парарелигиозной) программы, в той или иной мере автором разделяемой.
Здесь мы имеем дело с одним из самых изощренных и герметичных изводов модернистского феномена неомифологизма (программной работы искусства по ревальвации старых мифов – в широком смысле слова – и мифологизации современности). Эта работа велась по двум направлениям – по линии экспликации субститутивных, метафорических и нарративных потенций мифологического и бытового материала (в частности, за счет их взаимоналожения) и, наоборот, по линии импликации мифологического материала, включая и бытовой, успевший мифологизироваться. При этом второе направление наследует первому – не обязательно хронологически, но во всяком случае логически[182].
Как пишет Л. Силард,
[о]тношение Мандельштама к мифу подобно его отношению к слову. Если Анненский, Брюсов, Вяч. Иванов были гениальными реставраторами ядра мифа, если Сологуб решительно перерабатывал его, подчиняя своей поэтической системе, то Мандельштам из мифа – семантического пучка осторожно выбирал лишь сопровождающие, периферийные элементы, так что об «официальной точке» мифа можно только догадываться [Силард 1977: 92].
К этому следует добавить: учредительная и канонизирующая работа уже была проделана, поэтому читатель Мандельштама действительно имел возможность догадаться об «официальной точке» мифа по его периферийным элементам[183]. Благодаря такому вытеснению в подтекст миф вступает в последнюю фазу своей ревальвации, в некотором небуквальном смысле – (ре)сакрализируется[184].
К формированию мандельштамовской подтекстуальной поэтики имелись, как представляется, две определяющие внешние предпосылки. Первая заключалась в сонаправленности поэтических инноваций Мандельштама филологическим исканиям модернистской эпохи, которые, начиная еще с теории заимствований Александра Веселовского и продолжая концепциями, выдвинутыми Тыняновым, Пумпянским и другими, были в огромной степени сосредоточены на проблемах литературного наследования и трансформаций литературных форм и стилей[185]. Для правильного понимания мандельштамовского филологизма нужно принять к сведению не только его занятия, пусть не слишком усердные, романской филологией в Сорбонне, Гейдельберге и Петербургском университете, не только интерес к проблемам эволюции стиха, почти неизбежный в его кругу[186], не только связь с Московским лингвистическим кружком[187] и не только взаимную симпатию, тесную дружбу и интеллектуальную интеракцию с опоязовцами и их последователями[188], но и просто тягу к общению с учеными и к научному чтению[189]. Наконец, поэтика Мандельштама, как мне кажется, испытала непосредственное воздействие читательских и исследовательских установок Анны Ахматовой, которые в известной мере предвосхитили теоретические пресуппозиции контекстуально-подтекстуального анализа[190]. Работа Мандельштама с поэтической традицией по-своему эквивалентна филологическому освоению этой традиции. Более того, сами филологические тексты, наравне с поэтическими, включаются Мандельштамом в подтекстуальный фонд[191]. В гносеологическом плане мандельштамовский принцип фиксации чужого подтекстообразующего приема собственным аналогичным приемом, т. е. цитация цитаты, обнаруживает знаменательное совпадение с современным Мандельштаму постулированием поэтологического значения поэтических текстов по отношению к своим источникам[192], в концептуальном – диалектически остраняет само различение своего и чужого, общего и ничейного[193]. Можно сказать, что коммуникативная стратегия Мандельштама, а именно импликация истинного посредника, диаметрально противоположна стратегии мистификатора – экспликации посредника мнимого[194].
Вторая предпосылка заключалась в символистском культе поэта-предшественника, предвосхитившего и подготовившего новую эру в искусстве. Этот своеобразный культ не был ни самоуничижительным, ни фамильярным[195], однако в силу своих эсхатологических настроений символисты были убеждены, что те, в ком они почитали своих предтеч, пребывали, несмотря на гениальные просветления, в исторически менее выгодном положении, чем они сами. Преклонение символистов перед Баратынским, Тютчевым, Фетом не исключало чувства некоторого превосходства над ними. В сущности, уже сами по себе ходовые определения «предшественник» и «предтеча» подразумевали более низкую ступень ценностной шкалы. Эта амбивалентность символистской позиции сказывается и в характере обращения символистов с чужим словом. Так, например, «в поэтике Блока предполагается новизна даже самых очевидных реминисценций в новом тексте, а связь между источниками реминисценции и новым текстом, когда она осознана, воспринимается как узнавание своего в чужом <…>» [Ронен 2002: 72].
Двойственное восприятие символистами своей генеалогии, отчасти мифической[196], послужило акмеистам исходным контекстом при выработке собственного отношения к поэтической традиции. Именно дистанцируясь от символистских позиций, акмеисты «ощуща[ют] семантический и стилистический потенциал цитаты как чужого слова и цен[ят] в ней дистанцированный повтор, “миг узнавания” старого в новом, чужого в своем» [Там же][197], – что и задекларировано в стихотворении 1914 г. «Я не слыхал рассказов Оссиана…»: «И снова скальд чужую песню сложит / И как свою ее произнесет»[198]. Мандельштам, не впадая в напыщенный тон, но и не скрывая сознание своей высокой миссии, принимает поэтическую эстафету[199] и радеет о доставшемся ему «лирическом хозяйстве» (если перевернуть каламбур Фета)[200]. О чувстве исторического превосходства с его стороны не может идти и речи: выдвинутая Мандельштамом концепция истории литературы как истории утрат («О природе слова», 1922) заострена не столько против вульгарных прогрессистских воззрений, сколько против символистского эсхатологического высокомерия[201]. Герметизация чужого слова подтекстообразующим приемом – это и есть мандельштамовский способ отправки «снаряд[а] <…> для уловления будущего» (II, 179), «письм[а], запечатанно[го] в бутылке», предназначенного «тому, кто найдет ее», – читателю в потомстве (II, 7), исполнителю, с которым Мандельштам настойчиво сравнивал читателя «Божественной комедии»[202]; это и есть практический аспект причастности к трансисторической эстафете. Вообще коль скоро речь идет об эстафете, о передаче герметичной информации, унаследованной от поэта-предшественника, то читатель только и возможен в потомстве: он зеркален и субститутивен этому поэту, который мог бы как никто другой декодировать сообщение (узнав свое – в чужом), если бы имелся канал для его передачи. С этой точки зрения друг в поколеньи не является читателем в строгом смысле слова, поскольку у него есть обратная связь с отправителем поэтического сообщения по каналу бытовой коммуникации. Говоря: «…вчерашний день еще не родился. Его еще не было по-настоящему. Я хочу снова Овидия, Пушкина, Катулла, и меня не удовлетворяет исторический Овидий, Пушкин, Катулл» (II, 51), – Мандельштам дает установку на симуляцию несостоявшегося, ибо заведомо невозможного, представляющего собой трагический нонсенс «читателя в поколеньи»[203]. Закономерно, что многие из тех, кто тем или иным образом пересекался с Мандельштамом в быту, оказывались нужны в качестве не просто читателя, но и советчика, т. е. попадали в некую утопическую ситуацию соавторства[204], как бы доводящую до логического предела акмеистическую установку на активизацию роли читателя (см. выше). Исключение может составлять лишь поэтический диалог Мандельштама с поэтом-современником, с которым он общается на языке цитат из него же самого, следуя старинной поэтической практике[205]: в этом случае Мандельштам меняется местами со своим целевым читателем, сам обращаясь к нему как читатель (и даже получая ответную реакцию[206]).
Эту коммуникативную модель Мандельштам воспроизводит и в общении с друзьями-филологами. Именно так обстоит дело со знаменитым пассажем из письма Тынянову от 21 января 1937 г.:
…Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию; но вскоре стихи мои с ней сольются и растворятся в ней, кое-что изменив в ее строении и составе (III, 548).
В этом пассаже Е. А. Тоддес видит
вариаци[ю] на тему литературной эволюции, в частности на тему одного из центральных тезисов статьи Тынянова «Литературный факт»: «не то что в центре литературы движется и эволюционирует одна исконная, преемственная струя, а только по бокам наплывают новые явления, – нет <…> на его место из мелочей литературы <…> всплывает в центр новое явление» <…> [Тоддес 1986: 93].
Этот пример лишний раз доказывает, что у Мандельштама цитатный прием выполняет строго прагматическую, коммуникативную функцию: он рассчитан на владеющего кодом и распознающего цитату собеседника. Думается, в связи с проблемой верификации подтекстов необходимо учитывать эту программную ставку зрелого Мандельштама на коммуникацию[207] – чем более герметичную, тем более адресную.
Глава первая УКРАДЕННЫЕ ГОРОДА (I)
(«Дайте Тютчеву стрекозу…»)
В построенном как ряд загадок «Дайте Тютчеву стрекозу…» (далее – ДТС) (1932), примыкающем к циклу «Стихи о русской поэзии», бросаются в глаза резкие, как в частушке, смены темы (ср. нарочито немотивированные стыки: «А еще», «И всегда» и т. п.). Идя на поводу у столь дробной и с виду произвольной композиции, исследователи не уделяли достаточного внимания синтагматике мандельштамовского текста. Пришло время несколько поправить это положение.
Обращаясь по мере надобности к черновым строфам и вариантам, я фокусируюсь главным образом на приводимой ниже основной редакции:
- 1 Дайте Тютчеву стрекзу –
- 2 Догадайтесь, почему.
- 3 Веневитинову – розу,
- 4 Ну а перстень – никому.5 Баратынского подошвы
- 6 Раздражают прах веков.
- 7 У него без всякой прошвы
- 8 Наволочки облаков.
- 9 А еще над нами волен
- 10 Лермонтов – мучитель наш,
- 11 И всегда одышкой болен
- 12 Фета жирный карандаш.
Стихотворение содержит шесть фрагментов-загадок (стихи 1–2, 3, 4, 5–8, 9–10, 11–12). Четыре из них заключаются в том, чтобы отгадать, почему данному поэту присвоен именно такой вещественный атрибут (причем Баратынский и Фет снабжены целыми наборами добавочных признаков); оставшиеся две загадки половинчаты: в одной фигурирует атрибут без поэта (стих 4), в другой – поэт без атрибута (стихи 9–10).
Толкователи обычно исходили из того, что для каждой из этих загадок должно существовать изолированное решение в виде одного или нескольких подтекстов[208]. Большей частью такие решения, сегодня общепринятые, были предложены в статье О. Ронена «Лексический повтор, подтекст и смысл в поэтике Осипа Мандельштама» (1970). В мою нынешнюю задачу входит показать, что все подтексты, выявленные до сих пор, вопреки их кажущейся автономности, активно корреспондируют друг с другом, а также с некоторыми другими, ранее не отмечавшимися, и на уровне их взаимодействия проявляется смысловое целое поэтического высказывания.
Последняя из мандельштамовских загадок дает необходимую подсказку, вооружась которой, следует вернуться к началу и приступить к повторному прочтению. Комментируя присвоенный Фету атрибут – больной одышкой карандаш, – О. Ронен отметил общность мотива болезненного дыхания у Мандельштама и Фета и указал на то, что А. А. Фет в действительности страдал астмой и что в 1914 г. Мандельштам мог видеть карандашные поправки умирающего Фета к его последнему стихотворению «Когда дыханье множит муки…» [Ронен 2002: 37][209]. Б. М. Гаспаров ввел строки о Фете в контекст важнейшей для Мандельштама темы поэтического дыхания, прошедшей в его творчестве ряд контрастных фаз. Мандельштамовская насмешка над Фетом[210] характерна, согласно этой схеме, для творческого периода начала 1930-х годов, когда «мотив задыхающегося / захлебывающегося голоса как символ гибели поэзии <…> получает полное развитие <…>» [Гаспаров Б. 2003: 25][211].
Этот мотив творческого удушья, озвученный в финале стихотворения, незримо пронизывает его от начала до конца. Стрекоза, предназначенная Тютчеву, встречается в его творчестве лишь единожды, в стихотворении 1835 г., которое по стиховым параметрам аналогично мандельштамовскому:
- В душном воздуха молчанье,
- Как предчувствие грозы,
- Жарче роз благоуханье,
- Звонче голос стрекозы…[212]
Но самого по себе установления подтекста недостаточно для того, чтобы считать выполненным задание «Догадайтесь, почему». Обоснованное предположение, что «тютчевская стрекоза привлекла Мандельштама как предвестница грозы» [Ронен 2002: 33], всё же не способствует решению предложенной поэтом загадки.
Между тем приведенные тютчевские строки сообщают прежде всего о духоте, а она симметрична фетовскому признаку – одышке. При этом у Мандельштама появление в финале ключевого слова «одышка» тщательно подготовлено парономастически во 2-й, центральной, строфе имплицитным сравнением облаков с подушками, на котором базируется образ «наволочки облаков» (подушка – одышка)[213], а непрозвучавшее слово подушки подсказывается, в свой черед, созвучным ему словом подошвы. Выстраивается следующий ряд: (душном) – подошвы – (подушки) – одышкой, – где поэтапно, начиная с фигуры умолчания и заканчивая прямым называнием, тематизируется трудное дыхание. (Ср. позднейший параллелизм одышки и подошв: II, 161–162.) Как мы увидим, эту сквозную тему на всем протяжении текста подкрепляют затекстовые семантические пары, такие как ‘свежесть – духота’, ‘благоухание – тление / увядание’, ‘ветер – прах / пыль’.
Все это, впрочем, не объясняет, почему у Мандельштама, в отличие от Тютчева, слово стрекоза имеет нестандартное ударение на втором слоге. О. Ронен указал на заключенную в этом слове парономастическую параллель к слову склероз в «Шуме времени»: «Больные воспаленные веки Фета мешали спать. Тютчев ранним склерозом, известковым слоем ложился в жилах» (II, 254) [Ronen 1983: 261]. К этому наблюдению необходимо добавить, что автореминисценция мотивирует сдвиг ударения: стрекзу склерозом (ср. потенциальную богатую рифму ‘склерозу’ – розу: «Веневитинову – розу»)[214]. Таким образом, слово стрекозу имеет одну подтекстуальную мотивировку[215], а его смещенное ударение – другую, причем соседний элемент в первом из этих двух подтекстов (душный воздух у Тютчева) мотивирует сквозную тему трудного дыхания, а смежный элемент второго из них (Фет, наделенный признаком болезни, в «Шуме времени») – образ Фета с аналогичным признаком. Наконец, пересечение обеих линий (мотив одышки Фета) находит собственную мотивировку в предсмертном стихотворении Фета о затрудненном дыхании (см. выше).
«Скрещивание подтекстов», о котором говорит О. Ронен в связи с контаминацией в 4-м стихе нескольких перстней-прообразов [Ронен 2002:33–35][216], является в ДТС систематически повторяемым приемом. На фоне тютчевского подтекста предназначенной Веневитинову розе ничего иного не остается, как быть душистой[217]. И действительно, «Три розы» (1826) Веневитинова, в которых Ронен видит прямой подтекст стиха 3, варьируют мотивный комплекс «благоухание – увядание»: из трех метафорических цветков именно роза девственного румянца, которая «скоро вянет», превосходит остальные веющей от нее свежестью. Но подтекст этот не должен восприниматься обособленно. С одной стороны, он подтверждает правильность найденного для стиха 1 тютчевского подтекста, где не только «Жарче роз благоуханье»[218], но и, как элемент персонификации природы, «бледнея, замирает / Пламя девственных ланит». С другой же стороны, стих 3 выводит на сцену не называемую по имени фигуру Пушкина. Дело в том, что «Три розы» очевидным образом дали Пушкину импульс к написанию «Отрывка» (1830)[219], в котором он воспроизвел не только тему и композицию своего источника, где третья роза противопоставляется двум предшествующим, но и финальный поворот поэтической мысли, у Пушкина ошеломляюще заостренной: предпочтение отдается розе, уже увядшей, и потому ее локус – не девственные ланиты, а перси женщины, познавшей любовь («…Но розу счастливую, / На персях увядшую / Элизы моей…»).
Перстень из 4-го стиха – это, в первую очередь, перстень, якобы найденный в Геркулануме и подаренный Зинаидой Волконской Веневитинову, безответно в нее влюбленному, который пожелал унести этот дар с собой в могилу (см. его стихотворения «Завещание» и «К моему перстню», оба – 1826/27) [Ронен 2002: 33–34][220]. Подобно тютчевскому подтексту 1-го стиха, «К моему перстню» начинается прямо с мотива духоты, а вернее – пыльной могилы, пространства, вдвойне несовместимого с дыханием и как бы удвоенного посредством хиазма: «Ты был отрыт в могиле пыльной, / Любви глашатай вековой, / И снова пыли ты могильной / Завещан будешь, перстень мой». Существенно, что поэт намеревается быть похороненным вместе с перстнем именно в расчете на эксгумацию и насильственное разлучение со своим талисманом (правда, в будущем столь же отдаленном, сколь текущий момент удален от гибели Геркуланума, – а не в 1930 году, в котором это действительно случилось): «…я друга умолю, / Чтоб он с моей руки холодной / Тебя, мой перстень, не снимал, / Чтоб нас и гроб не разлучал. <…> Века промчатся, и быть может, / Что кто-нибудь мой прах встревожит / И в нем тебя отроет вновь». У Веневитинова перстню предстоит обрести нового влюбленного хозяина. Но он «достался не робкой любви <…>, а Публичной библиотеке им. Ленина», замечает О. Ронен [2002: 34]. Поэтому у Мандельштама перстень противопоставлен стрекозе и розе как застывший артефакт, не подверженный тлению, – созданиям быстроживущим (так Мандельштам когда-то назвал стрекоз), прекрасным в своей щемящей недолговечности; они-то и подобают живым поэтам, перстень же не достанется никому: даже разделив со своим владельцем загробный удел, перстень никогда не обратится в прах и не смешается с его прахом[221].
Роза и стрекоза свою тленность компенсируют репродуктивностью. Вырастая на могиле, роза становится формой инобытия для умершего. Как дополнительный стимул к вручению розы Веневитинову Н. И. Харджиев [1973: 293] и другие комментаторы приводят слова Девы из стихотворения Дельвига «На смерть В<еневитино>ва» (1827): «Розе подобный красой, как Филомела ты пел». Но само по себе упоминание розы – общее место стихов на смерть Веневитинова[222]. Релевантными делает стихи Дельвига ответная реплика Розы: «Дева, не плачь! Я на прахе его в красоте расцветаю. <…> Счастлив, кто прожил, как он, век соловьиный и мой!»
Черновая строфа о Хомякове, должно быть, обязана своим появлением прежде всего той роли, которую сыграл Хомяков в истории перстня:
Еще не подозревая о неизбежной смерти поэта, друзья собрались в одной из комнат его квартиры и вели спор на философские темы. Врач, недавно уверявший, что болезнь не представляет опасности, вдруг объявил, что больной не проживет до следующего дня. Подготовить умирающего поручили А. С. Хомякову, который смертельно побледнел, но сумел сдержать слезы. У Веневитинова был перстень, подаренный ему Волконской. Поэт носил его на часовой цепочке и говорил, что наденет его в день свадьбы или перед смертью. Хомяков знал об этом. Он надел Веневитинову кольцо на палец, когда тот был уже в агонии. Придя в себя, поэт спросил: «Разве я женюсь?» – «Нет», – ответил Хомяков. Веневитинов понял этот краткий ответ: его «обручили» со смертью. Он залился слезами и умер спустя несколько часов [Нейман 1960: 15].
Вторая строфа в еще большей мере, чем первая, характеризуется множественностью интертекстуальных связей. Она отчетливо перекликается с «Недоноском» (1835) Баратынского[223], чей персонаж мечется, не находя себе места, между противоположными концами пространственной вертикали («…И, едва до облаков / Возлетев, паду, слабея. <…> И ношусь, крылатый вздох, / Меж землей и небесами»), и бесприютность его достигает апогея, когда верх и низ совмещаются («Но ненастье заревет / И до облак, свод небесный / Омрачивших, вознесет / прах земной и лист древесный: / Бедный дух! ничтожный дух! / Дуновенье роковое / Вьет, крутит меня, как пух, / Мчит под небо громовое»), после чего «крылатый вздох» подвергается удушенью («Бьет меня древесный лист, / Удушает прах летучий»). Вместе с тем подтекстом стихов 5–6 О. Ронен считает приписывавшееся в мандельштамовское время Баратынскому стихотворение Плетнева «Быть может, милый друг, по воле Парки тайной…» (1821), выделяя в нем строку «И свеет легкий ветр следы моих шагов» [Ронен 2002: 35]. Здесь уместно напомнить и уже цитировавшиеся строки Веневитинова: «Века промчатся, и быть может, / Что кто-нибудь мой прах встревожит <…>», – ведь и «Баратынского подошвы / Раздражают прах веков»[224].
Стихи 7–8 Ронен [2002: 35–36] предположительно возводит к миниатюре Баратынского 1829 г. об иллюзорном городе, исчезающем при первом дуновении ветра (ср. тот же мотив разрушительного дыхания, что и в позднейшем «Недоноске»):
- Чудный град порой сольется
- Из летучих облаков;
- Но лишь ветр его коснется,
- Он исчезнет без следов!
- Так мгновенные созданья
- Поэтической мечты
- Исчезают от дыханья
- Посторонней суеты.
Этот важнейший подтекст подтверждается целой системой дополнительных аллюзий, в рамках которой он и должен быть проанализирован. В вариантах «Стихов о русской поэзии» Мандельштам намекнул в качестве отсылки к «Медному всаднику» на «чудный град» иной природы, штурмуемый дикой стихией, вопреки которой тот был возведен: «Пахнет городом, потопом»[225]. Аналогичная тема скрывается за образом геркуланумского перстня из 4-го стиха. Кроме того, с учетом особой, связующей функции, которая в ДТС возложена на подтексты из Веневитинова и историю его перстня, а также легко обозримого объема веневитиновской лирики, можно уверенно предположить, что «Чудный град…» воспринималось Мандельштамом в прямой связи со стихотворением Веневитинова «Новгород»[226] (1826), которое к тому же дополнительно мотивирует оппозицию праха веков и облаков в ДТС: «“…Вон видишь что-то там высоко, / Как черный лес издалека…” / – “Ну, вижу; это облака”. / – “Нет! Это нвградские кровли”»; «Везде былого свежий след! / Века прошли… но их полет / Промчался здесь, не разрушая»; «О Нвград! В вековой одежде / Ты предо мной, как в седине, / Бессмертных витязей ровесник. / Твой прах гласит, как бдящий вестник, / О непробудной старине». Подобно тому как мотив сна играет структурообразующую роль в «Стихах о русской поэзии»[227], веневитиновский образ бдящего праха (понятого как материально-пространственная – или, если угодно, минус-материально-пространственная – категория), антиномичного непробудной старине (понятой как темпоральная категория), представляет собой квинтэссенцию мандельштамовского метасюжета в ДТС с его характерным разночтением в стихе 6: «Изумили сон веков»[228]. Наконец, в черновой строфе («А еще богохранима / На гвоздях торчит всегда / У ворот Ерусалима / Хомякова борода») «борода Хомякова служит как бы эквивалентом Олегова щита» [Ронен 2002: 37], т. е. опять-таки указывает на разрушение города[229].
Смысловой контекст, в котором упоминается перстень, заставляет расценивать этот образ как скрытую автоотсылку к стихам революционного времени на тему Геркуланума (к которым Мандельштам уже возвращался в своем творчестве годом раньше[230]):
- Когда в теплой ночи замирает
- Лихорадочный форум Москвы
- И театров широкие зевы
- Возвращают толпу площадям –
- Протекает по улицам пышным
- Оживленье ночных похорон:
- Льются мрачно-веселые толпы
- Из каких-то божественных недр.
- Это солнце ночное хоронит
- Возбужденная играми чернь,
- Возвращаясь с полночного пира
- Под глухие удары копыт.
- И как новый встает Геркуланум,
- Спящий город в сияньи луны:
- И убогого рынка лачуги,
- И могучий дорический ствол.
На подтекст этого стихотворения указывают широкие зевы и толпы: они прослеживаются к пушкинскому описанию (1834) «Последнего дня Помпеи» Брюллова:
- Везувий зев открыл – дым хлынул клубом – пламя
- Широко развилось, как боевое знамя.
- Земля волнуется – с шатнувшихся колонн
- Кумиры падают! Народ, гонимый страхом,
- Толпами, стар и млад, под воспаленным прахом,
- Под каменным дождем бежит из града вон[231].
Если у Пушкина ЗЕВ ВЕЗувия с его суггестивной звукописью (как бы имитирующей симметрию зева) несет смерть народным толпам, то у Мандельштама зевы театров, наоборот, возвращают толпу (ср. ЗЕВы ВОЗвращают). Напомню, что геркуланумские раскопки начались в 1738 г. с обнаружения ступеней амфитеатра; по ним и спускались позднейшие визитеры для осмотра погребенного под лавой города. В частности, этот спуск описал Г. Х. Андерсен в романе «Импровизатор» (1835), принесшем ему европейскую известность.
Полемика Мандельштама с Пушкиным вызвана различием их культурного осмысления древней катастрофы. Изображенные Брюлловым падающие статуи знаменуют крушение всего языческого мира [Медведева 1968: 91] – во всяком случае, в восприятии Пушкина, чья формула «кумиры падают», как отмечает Ю. М. Лотман [1995: 294], проходит через все варианты наброска, а впоследствии воспроизводится в другом тексте в той же связи[232]. У Мандельштама, которому Москва напоминает «Геркуланум, откопанный из-под пепла, с римскими толпами, требующими “(хлеба и) зрелищ”» [Гаспаров М. 2001: 759], эта аналогия вызвана тем, что древний город, благодаря постигшей его катастрофе, «при раскопках [явил] свой исторический, нетронутый облик» [Мец 1995: 551]. Мифологема уничтоженного в одночасье города получает вполне определенную трактовку: внезапная смерть в обход естественного умирания есть залог будущего воскресения[233]. Поскольку всеобщая катастрофа не дробится на отдельные трагедии[234], не избирательно и воскресение – оно охватывает всю цивилизацию. Но так же, как неестественна была смерть помпейцев, противоестественно и их воскресение. Потому-то эти межеумочные «мрачно-веселые толпы» и хоронят солнце ночное, синонимичное солнцу искупления из доклада «Скрябин и христианство», – аналог умирающего и воскресающего божества, с которым эти толпы пребывают в контрастных фазах двухфазного цикла.
Прецедент мандельштамовской трактовки данного предмета мы найдем в элегии Шиллера «Помпея и Геркуланум» (1796), с которой стихи 1918 г. имеют столько общего (включая порядок репрезентации городских пространств: театр – площадь – улицы – рынок), словно являются ее римейком. Привожу элегию в сокращенном переводе Жуковского:
- Что за чудо свершилось? Земля, мы тебя умоляли
- Дать животворной воды! Что же даруешь ты нам?
- Жизнь ли проникнула в бездну? Иль новое там поколенье
- Тайно под лавой живет? Прошлое ль снова пришло?
- Греки, римляне, где вы? Смотрите, Помпея восстала!
- Вышел из пепла живой град Геркуланум опять!
- Кровля восходит над кровлей! Высокий портал отверзает
- Двери! Спешите его шумной толпой оживить!
- Отперт огромный театр; сквозь семь изукрашенных входов
- Некогда быстрый поток зрителей мчался в него.
- Мимы, где вы? Спешите на сцену! Готовую жертву,
- Сын Атреев, сверши! Выступи, хор Эвменид!
- Кто вас воздвиг, триумфальные врата? Узнаете ль Форум?
- Кто на курульном сидит пышном седалище там?
- Ликторы, претор идет! Пред ним с топорами идите!
- Стань, свидетель, пред ним, дай обвиненью ответ!
- Тянутся чистые улицы, гладким выкладены камнем,
- Узкий, возвышенный путь рядом с домами идет.
- Кровли его защитили навесом, жилые покои
- Тихий двор окружат, скрытый уютно внизу.
- Лавки, откройтесь, раздайтесь, давно затворенные двери,
- В хладную, страшную ночь влейся, живительный день…
Притягательность кампанских раскопок для многих поколений широкой публики обеспечивалась не столько их огромной культурной информативностью, сколько поразительным эффектом остановленного мгновения, жизненной полноты, увековеченной гибелью[235]. В одном из помпейских домов, например, «события рокового дня прервали поминки. Участники тризны возлежали вокруг стола; так их и нашли семнадцать столетий спустя – они оказались участниками собственных похорон» [Керам 1960: 26]. В том же «Импровизаторе» Андерсена упоминаются «пожелтевшие человеческие кости и ясно сохранившийся в пепле отпечаток прекрасной женской груди» [Андерсен 2000: 213]. Этот же отпечаток дал сюжетный импульс новелле Теофиля Готье «Аррия Марцелла» (1852). Столь же емкий образ увековеченного мгновения явила собой пара любовников, застигнутых смертью в объятиях друг друга. Эта помпейская находка завораживала людей разных эпох – от Брюллова и его современников[236] до Брюсова[237] и Вильгельма Йенсена, автора знаменитой «Градивы»[238].
Через полвека после Андерсена аналогичные программные впечатления завладеют воображением Мережковского:
- Над городом века неслышно протекли,
- И царства рушились; но пеплом сохраненный,
- Доныне он лежит, как труп непогребенный,
- Среди безрадостной и выжженной земли.
- Кругом – последнего мгновенья ужас вечный, –
- В низверженных богах с улыбкой их беспечной,
- В остатках от одежд, от хлеба и плодов,
- В безмолвных комнатах и опустелых лавках
- И даже в ларчике с флаконо для духов,
- В коробочке румян, в запястьях и булавках;
- Как будто бы вчера прорыт глубокий след
- Тяжелым колесом повозок нагруженных,
- Как будто мрамор бань был только что согрет
- Прикосновеньем тел, елеем умащенных.
- <…>
- Здесь все кругом полно могильной красоты,
- Не мертвой, не живой, но вечной, как Медузы
- Окаменелые от ужаса черты…
- <…>
В 1925 г. Ходасевич дал, пожалуй, еще более выразительное описание того же зрелища в очерке «Помпейский ужас» (название, вероятно, отсылало к «Древнему ужасу» Бакста, недавно умершего в Париже):
…Здесь собрана часть утвари, найденной при раскопках: блюда, миски, оружие, баночки для румян, дверные замки, статуэтки. И тут же – сами жильцы: слепки людей, засыпанных пеплом. Один, скорченный скелет в лохмотьях, кажет рот, полный зубов; другой накрыл голову тогой – жест последнего отчаяния; третий – голый, лежит на спине раскорякой, в стеклянном гробу. Собака, в широком ошейнике, сведена конвульсией, свернулась, как гусеница. <…> Все умерли, но никто ни с чем не примирился. Здесь погребены люди, захваченные смертью не только в середине земного пути, но, можно сказать, с ногой, поднятой для следующего шага. <…> Погибали в бессмысленном ужасе, и, по свидетельству Плиния, многие богохульствовали, – конечно, именно потому, что сидели, пили, ели, торговали, обмеривали, обвешивали, дрались, обнимались. И вдруг – а вот ты сейчас умрешь, недопив, недоев, недообмерив, недообвесив, недодравшись, недообнявшись… <…> Как были, такими и умерли: не «человеками», а – булочниками, сапожниками, проститутками, актерами. Так и «перешли за предел» – в грязных земных личинах, покрытые потом страха, корысти, страсти. В Помпее на каждом шагу открывается ужас – смерти «без покаяния», превращения в «запредельного» булочника, в «запредельного» содержателя таверны или лупанара [Ходасевич 1996–1997: III, 34–36].
В шиллеровской трактовке эксгумация заживо похороненного мира эквивалентна его воскрешению / пробуждению, как будто закончилось действие колдовства, и нормальное течение жизни возобновилось в той самой точке, где было остановлено: «Ликторы, претор идет! Пред ним с топорами идите! / Стань, свидетель, пред ним, дай обвиненью ответ!». Перевод Жуковского, датируемый мартом 1831 г., спустя несколько месяцев получил тематическое продолжение в его сказке «Спящая царевна» – о заколдованном царстве, погрузившемся в трехвековой сон в тот самый миг, когда царевна уколола себе палец. Описания замершей рутины составляют главную поэтическую прелесть этой сказки:
- Повар спит перед огнем;
- И огонь, объятый сном,
- Не пылает, не горит,
- Сонным пламенем стоит;
- И не тронется над ним,
- Свившись клубом, сонный дым
- <…>
- …Тот не двигаясь идет;
- Тот стоит, раскрывши рот,
- Сном пресекся разговор,
- И в устах молчит с тех пор
- Недоконченная речь.
- Тот, вздремав, когда-то лечь
- Собрался, но не успел:
- Сон волшебный овладел
- Прежде сна простого им;
- И, три века недвижим,
- Не стоит он, не лежит
- И, упасть готовый, спит
- <…>
- …И за нею вмиг от сна
- Поднялося все кругом
- <…>
- Всё как было; словно дня
- Не прошло с тех пор, как в сон
- Весь тот край был погружен
- <…>
- Повар дует на огонь,
- И, треща, огонь горит,
- И струею дым бежит[239].
Вероятно, под влиянием Шиллера тема Геркуланума и Помпеи оказалась для Жуковского прочно соединена с идеей навязанного бессмертия: в том же 1831 г. у него возник замысел «Странствующего жида», к которому он вернулся только через двадцать лет[240]. В одном из эпизодов поэмы Агасфер тщетно ищет смерти в лаве извергающегося Везувия. Мое предположение подтверждается тем, что в источнике данного мотива – стихотворении Х. Ф. Шубарта «Der ewige Jude» (1783) – Агасфер бросается в кратер Этны, а не Везувия.
Перевод Жуковского из Шиллера не мог быть известен Мандельштаму (впервые полностью он был опубликован лишь в 1988 г.). Но в ДТС Мандельштам, исподволь разрабатывая собственную давнюю тему – трансисторического Геркуланума, спящего города, – похоже, самостоятельно следуя той же логике, что и Жуковский, дополнил свою галерею призрачных городов имплицитным образом сонного царства[241] – и притом не без влияния «Спящей царевны», комбинирующей оба классических источника – Перро и братьев Гримм, но в историко-литературном плане однородной с остальными подтекстами стихотворения[242]. В этом случае наволочки – не простой реликт сна в отброшенном варианте 6-го стиха, но актуальный символ сонного царства, а характеристика «без всякой прошвы» должна намекать на запрет, ранее наложенный в этом царстве на веретёна (и по смежности легко распространяемый поэтическим мышлением на иглы).
В пользу предложенной гипотезы свидетельствует один признак, присущий всем атрибутам поэтов, упоминаемым в стихотворении, кроме подошв Баратынского: каждый из них – на том или ином уровне – является колющим (жалящим, режущим) предметом. Стрекоза – в силу своей этимологии (стрекать – «колоть, жалить»)[243]; роза – благодаря шипам; перстень – из-за обычая вырезать им надписи на оконном стекле (к примеру, Пушкин в 1833 г. вырезал таким способом свое имя, не застав дома Языкова), а также из-за метода расправы с неугодными, практиковавшегося папой Александром VI и его сыном Чезаре Борджиа и знакомого нам по роману Дюма-отца «Граф Монте-Кристо» (ч. 1, гл. 18); как бы в порядке компенсации за вето, наложенное на иглу, (плоские) подошвы Баратынского наделены способностью раздражать (вар. возмущать); Лермонтов, лишенный всякого орудия (предположим, в силу того же сказочного запрета), аналогичным образом сохраняет способность мучить; и наоборот – Фет получает орудие, но это – карандаш, причем одышливый и жирный (то есть, вероятно, притупившийся, вдвойне безопасный), а не острое перо, которым сражаются, как штыком; наконец, за пределами основной редакции остались гвозди, реально принадлежащие к острым орудиям[244].
По отношению к стихам 9–10 О. Ронен ограничивается замечанием, что «Лермонтов, которому Мандельштам обязан мучительной темой звездного неба и кремнистого пути, – не представлен синекдохической загадкой» [Ронен 2002: 32]. Определение темы, воспринятой Мандельштамом от Лермонтова, как мучительной – это, конечно, риторический прием, создающий иллюзию объясненности характеристики – мучитель наш[245]. Между тем не только отсутствие синекдохи-подсказки, но и вообще информационная скудость сказанного о Лермонтове ставит под сомнение принципиальную возможность определить наличие литературного подтекста для этих строк, что делает их самыми загадочными во всем стихотворении.
Оппозиция недолговечного (стрекоза и роза) и нетленного (перстень) преобразуется в оппозицию верха и низа как во второй строфе (стихи 5–6 – низ: подошвы, прах; 7–8 – верх: облака), так и в третьей (9–10 – верх: над нами, 11–12 – низ: одышка, жирный и даже карандаш как инструмент, находящийся ниже уровня глаз и направленный грифелем вниз). Но если в строфе о Баратынском, при поддержке таких подтекстов как «Недоносок» и «Чудный град…», оппозиция верха и низа снимается, ибо и дольный прах, и горние облака – равно бесплотны (прах – уже бесплотен, облака же никогда не воплотятся, находясь в постоянном пересоздании), то заключительная строфа восстанавливает оппозицию, демонстрируя превосходство Лермонтова, юного мучителя, над Фетом, измученным стариком, чья одышка эпифрастически обозначает тлетворный дух.
По поводу мандельштамовской темы дыхания (которая в строках о Фете проходит самую свою приземленную семантическую фазу) Б. М. Гаспаров замечает, что ее «общие литературные источники <…> вполне очевидны: это дыхание / дуновение ветра как образ вдохновения у романтиков и свежий воздух как символ свободы. Мандельштам, в типично модернистском ключе, придает этому романтическому образному концепту буквально-материальный, физиологический характер» [Гаспаров Б. 2003: 24]. Закономерно поэтому, что все имена в ДТС принадлежат поэтам-романтикам, включая позднего романтика Фета, а все найденные на данный момент подтексты за вычетом фетовского – и несомненные, и предположительные, и основные, и вспомогательные – датируются тем периодом, который принято отождествлять с эпохой русского романтизма[246]:
В контексте спрятанной, но, в свою очередь, ключевой для ДТС темы Геркуланума период, который можно условно обозначить как постдекабристское десятилетие, знаменателен в плане все более нараставших среди русской культурной публики эсхатологических предчувствий. О причинах такого эмоционального настроя пишет М. Вайскопф[247]:
Популярность Юнга-Штиллинга, снизившаяся было в 1820-е годы, <…> заново возросла к середине следующего десятилетия. Огромный успех его «Победной повести» [1799, рус. пер. – 1815. – Е.С.] в России <…> объяснялся тем, что Штиллинг <…> предсказывал здесь битву с Антихристом, которая должна была состояться в 1836 году в Средней Азии, на южных окраинах Российской империи. Драматическое впечатление, произведенное этим пророчеством, в сочетании со страхами, вызванными кометой Галлея, стимулировали хорошо известный и описанный многими исследователями эсхатологический взрыв в русской культуре – включая такие ее явления, как показ потопа в «Медном всаднике», картина Брюллова «Последний день Помпеи», рецензия на нее Гоголя, стихотворение Пушкина «Везувий зев открыл…» и множество других произведений первой половины 1830-х годов [Вайскопф 2003: 306][248].
Методично используя в качестве подтекстов произведения столетней давности, Мандельштам вводит геркуланумскую эсхатологическую аллегорику (ср. толпы мертвецов, восставших из могилы, в его стихах о Москве-Геркулануме) как трансисторический фон для в высшей степени характерного модернистского жеста – проецирования собственной судьбы на биографические обстоятельства Пушкина на соответствующем хронологическом отрезке предыдущего века[249].
Б. М. Гаспаров глубоко проанализировал эту давнюю автопроекцию, которая особенно резко проявилась в ходе драматического перелома, обозначившегося в судьбе Мандельштама на рубеже двадцатых-тридцатых годов («переход от активной социальной роли, которая была свойственна Мандельштаму в середине 20-х гг., к положению и самоощущению “парии”, – но и к новому периоду поэтического творчества, возобновившегося после пятилетнего перерыва» [Гаспаров Б. 1994: 126]). Отмечая сознательно инициируемый Мандельштамом параллелизм между своим путешествием в Армению (1930) и пушкинским – в Арзрум (1829) и между своей «Тифлисской» и пушкинской «Болдинской осенью» 1830-го и 1930-го годов соответственно, Гаспаров задерживается на фрагменте «В год тридцать первый от рожденья века…», где Мандельштам говорит о своем вынужденном возвращении из библейского мира Армении в «буддийскую Москву»: «Эта эпически неопределенная дата может равным образом указывать и на первый век христианской веры (два года до распятия Христа), и на год “пушкинского века” – 1831», который «в поэтической мифологии Пушкина и его круга <…> был окружен особым ореолом. Это год холерной эпидемии и холерных бунтов, смерти Дельвига и женитьбы Пушкина <…> Но главным событием “тридцать первого года”, несомненно, стало Польское восстание и взятие Варшавы русскими войсками в день 19-летия Бородинского сражения» [Там же: 127].
Именно Польское восстание, как показывает далее Гаспаров, является важнейшим метасюжетным компонентом «Стихов о русской поэзии»[250], чья атмосфера страшного сна отражает, в частности, восприятие повторного взятия Варшавы в 1863 г. как возвращающегося кошмара, зафиксированное в строках Тютчева: «Ужасный сон отяготел над нами, / Ужасный, безобразный сон: / В крови до пят, мы бьемся с мертвецами, / Воскресшими для новых похорон» [Там же: 128]. Напрашивается аналогия между тютчевским взглядом на польские события и мандельштамовским восприятием Москвы как нового Геркуланума. Прямым продолжением геркуланумской темы станет обращение Мандельштама в «Стихах о неизвестном солдате» к различным неоэсхатологическим теориям[251] и особенно к мотиву украденных городов (см. гл. VII)[252].
Сдается, что загадка отсутствующей в ДТС загадки о Пушкине есть своего рода проявление скромности – самое нескромное из доступных русскому поэту[253].
Глава вторая «ГОЛУБАЯ ТЮРЬМА» И ПЯТИСТОПНЫЙ АНАПЕСТ
(«Голубые глаза и горячая лобная кость…» на пересечении поэтических кодов)
В стихотворении «Голубые глаза и горячая лобная кость…» (далее – ГГ) (1934), первом из написанных Мандельштамом на смерть Андрея Белого, имеются строки:
- Как стрекозы садятся, не чуя воды, в камыши,
- Налетели на мертвого жирные карандаши.
Здесь уже не впервые в поэзии Мандельштама стрекозы перекликаются со своими товарками, населяющими тексты самого Белого, – в частности, «Зиму» (1907), откуда эти создания попали к Мандельштаму в его «Медлительнее снежный улей…» (1910) [Тарановский 2000: 17, 34–35]. Тех стрекоз образца 1910 года, «быстроживущих, синеглазых», нам надлежит узнать и в начале цикла «Утро 10 января 1934 года», который объединил стихи на смерть Белого, написанные следом за ГГ: «О Боже, как жирны и синеглазы / Стрекозы смерти, как лазурь черна». Читаем – «синеглазы», мысленно прибавляем – «быстроживущи»[254]. Тем самым присущее стрекозам качество повышенной смертности из-за их незащищенности перед сменой сезонов, их открытости катастрофам оборачивается функцией, направленной вовне («стрекозы смерти»). Но речь идет не о контрастной метаморфозе, ведь карандаши-стрекозы – одновременно и хищники, ибо «налетели на мертвого», и незадачливые жертвы, ибо «садятся, не чуя воды» (хотя они и «просили прощенья у каждой черты», т. е. прощались, а значит, все-таки «чуяли» мертвого). В первой из двух этих ипостасей они соотносимы с инфернальными стрекозами баллады А. К. Толстого «Где гнутся над омутом лозы…», с которой Н. Я. Мандельштам настойчиво связывала «Дайте Тютчеву стрекозу…» [Мандельштам Н. 2006: 291–292]. Вторая ипостась – доверчивых жертв – во всем, вплоть до таких сопутствующих деталей, как тростники, синонимичные камышам, восходит к мандельштамовским стихам 1911 г.: «Стрекозы быстрыми кругами / Тревожат черный блеск пруда, / И вздрагивает, тростниками / Чуть окаймленная, вода. <…> То – распластавшись – в омут канут – / И волны траур свой сомкнут». Эта амбивалентность стрекоз, вероятно, сопряжена с характерным для Мандельштама уподоблением стрекозам самолетов – одновременно и смертоносных (бомбардировщики в «Ветер нам утешенье принес…», 1922), и подверженных повышенному риску уничтожения (зрелище «уничтожения германского воздушного флота по условиям Версальского мира» [Гаспаров М. 2001: 772] в «Опять войны разноголосица…», 1923: «…победители / Кладбище лета обходили, / Ломали крылья стрекозиные / И молоточками казнили»). Наконец, в непроявленном виде стрекозам-карандашам присуща и безусловно позитивная функция: если горячая лобная кость, помимо всего прочего, намекает на мигрени, которыми страдал Белый [659], то нельзя не вспомнить спасительный карандашик из «– Нет, не мигрень, – но подай карандашик ментоловый…» (1931) – тоже стихов о переходе в смерть [Мандельштам Н. 2006: 364–365].
В обсуждаемом двустишии жирные карандаши прямо восходят к атрибуту Фета из финала стихотворения 1932 г. «Дайте Тютчеву стрекозу…» («И всегда одышкой болен / Фета жирный карандаш…»), а стрекозы, следовательно, – к тютчевскому атрибуту из первой строки. С какой же целью поэт вводит в более поздний текст уравнение из двух неизвестных, решаемое (после замены в обоих случаях грамматического числа с множественного на единственное) путем подстановки?
Обращение к фигурам Тютчева и Фета в стихах, обобщающих земной путь поэта-символиста, само по себе вполне закономерно, ведь именно этих двоих – любимых поэтов Льва Толстого – русские символисты объявили главными своими предтечами. Такой эстафетой преклонения оба лирика обязаны были не только своему гению, но также и своему знакомству с немецкой философией, которую каждый из них аккумулировал в емких поэтических формах. При этом почитатели их, находясь под могучим влиянием Шопенгауэра, не слишком акцентировали внимание на различии философских основ творчества Фета, горячего поклонника Шопенгауэра, его первого переводчика на русский язык, и Тютчева, шеллингианца по преимуществу[255]. Так, в статье Брюсова «Ключи тайн», открывавшей на правах манифеста первый номер «Весов» (1904), стихи Тютчева названы в ряду тех явлений, в которых реализуется шопенгауэровское учение об искусстве [Брюсов 1973–1975: VI, 91–92][256]. Даже в монографии Б. М. Эйхенбаума, над которой он работал до конца жизни, мы прочтем, что «поэзия Тютчева и Фета сыграла большую роль в художественном опыте Толстого» семидесятых годов, тогда как «философия Шопенгауэра воспринималась Толстым в одном ряду с этой поэзией – как ее умозрительная база» [Эйхенбаум 1974: 180–181][257].
Надо полагать, из этого контекста интеллектуально-эстетических притяжений Мандельштам и исходил, когда оплакивал Белого, для которого приобщение к наследию Фета и изучение философии Шопенгауэра некогда явились неотделимыми одно от другого событиями первостепенного значения, о чем Белый поведал в своих мемуарах (1929): «…Шопенгауэр заинтересовал меня Фетом: я читал Шопенгауэра в переводе Фета (и потому ненавидел поздней перевод Айхенвальда); узнав, что Фет отдавался Шопенгауэру, я открыл Фета; и Фет стал моим любимым поэтом на протяжении пяти лет» [Белый 1989: 339]. О том, как летом 1898 г. открыл для себя поэзию Фета, а годом раньше – философскую систему Шопенгауэра, Белый рассказывает и в «Материале к биографии» (1923): «…вдруг – Фет открылся и на два года оттеснил всех других поэтов <…>» [Лавров 1995: 86]; «…самое главное событие моей внутренней жизни, это – даже не философское откровение, а открытие, так сказать, пути жизни, которым мне стала философия Шопенгауэра» [Там же: 28]. Аналогичное признание Белый делает в очерке «Почему я стал символистом…» (1928): «…Фет [в конце 1890-х гг. – Е.С.] заслоняет всех прочих поэтов; он открывается вместе с миром философии Шопенгауэра; он – шопенгауэровец; в нем для меня – гармоническое пересечение миросозерцания с мироощущением: в нечто третье. Конечно, он для меня – “символист”» [Белый 1994: 428]. Фет и в последующие годы оставался в высшей степени релевантной фигурой в глазах Белого. В частности, Белый плодотворно размышлял о значении Фета для русской поэтической традиции в статье 1905 г. «Апокалипсис в русской поэзии», а в 1912 г. вынашивал даже проект монографии о Фете[258].
Маркируя умышленный и строго рациональный характер повторения того, что ранее предлагалось читателю в виде эксплицитной загадки («Догадайтесь, почему»), Мандельштам намекает этим на присутствие загадки и в нынешнем тексте. Подсказку дает мотив болезненной одышки в стихах 1932 г. Как предположил О. Ронен, в 1914 г. Мандельштам мог видеть карандашные поправки умирающего Фета к его последнему стихотворению «Когда дыханье множит муки…» [Ронен 2002: 37]. Но если этого и не было, предсмертные стихи Фета являются несомненным подтекстом посвященных ему строк в «Дайте Тютчеву стрекозу…», так что мандельштамовская автоцитация непосредственно мотивирована некрологическим содержанием стихов 1934 г.
Именно с Фетом Белый связывал свое поэтическое крещение: «В 1898 году я <…> был крещен в поэзию Фета, слетев ненароком с развесистой ивы в пруд, – дважды (едва ли не с Фетом в руках)» [Белый 1990: 15][259]. Поэтому на отпевание Белого тоже уместнее всего было вызвать тень Фета, что Мандельштам и сделал, соотнеся ГГ со стихотворением Фета «Памяти Н. Я. Данилевского» (далее – ПД) (1886). ГГ тождественно ему и по жанру (отклик на смерть в форме обращения к умершему), и метрически (5-стопный анапест), и по рифмовке (смежные мужские рифмы):
- Если жить суждено и на свет не родиться нельзя,
- Как завидна, о странник почивший, твоя мне стезя! –
- Отдаваяся мысли широкой, доступной всему,
- Ты успел оглядеть, полюбить голубую тюрьму.
- Постигая, что мир только право живущим хорош,
- Ты восторгов опасных старался обуздывать ложь;
- И у южного моря, за вечной оградою скал,
- Ты местечко на отдых в цветущем саду отыскал.
Русский 5-стопный анапест (Ан5), долгое время остававшийся малоупотребительным, экзотическим размером, получил распространение именно благодаря Фету [Пяст 1931: 249], еще в 1860-е годы написавшему стихотворение «Истрепалися сосен мохнатые ветви от бури…» с женскими окончаниями и перекрестной рифмой[260]. Будучи его противоположностью в рамках того же размера, ПД стало, вероятно, первым русским стихотворением, где Ан5 со смежными мужскими рифмами выдержан на всем протяжении текста. И хотя современники Мандельштама изредка обращались к этой форме[261], ГГ – кажется, первый со времен Фета влиятельный ее образец. Если же говорить о Ан5 вообще, то, как мы увидим, в ПД впервые получил полное выражение присущий данному размеру некрологический потенциал, проявлениями которого русские 5-стопные анапесты изобилуют и до, и после стихов на смерть Белого.
Cправедливо указывалось на имитацию в стихах на смерть Белого столь характерной для его поэтики и вообще для русского символизма одержимости всеми оттенками синего цвета[262]. Однако в основе этого стилистического задания лежала не только общесимволистская цветовая установка, но и прежде всего конкретный образ из приведенного стихотворения Фета – голубая тюрьма, ставший для русских символистов одной из любимых поэтических формул, обозначением иллюзорного мира, данного человеку в ощущениях. Взятая в контексте фетовского стихотворения в целом, голубая тюрьма вместила в себя обширный метафорический инвариант, включая не только традиционную топику, но и потенциал дальнейшей эволюции в символизме. У Мандельштама голубая тюрьма не получила прямого отображения, но совершенно немыслимо, чтобы при точном воспроизведении формальных и жанровых признаков первоисточника этот символистский пароль не принимался в расчет. Напротив, от читателя, возможно, как раз и требовалось прежде всего назвать этот пароль.
Оба кода, введенные в поэтический обиход стихотворением Фета: I) метрико-семантический / – тематический и II) образно-концептуальный, – укоренились в русской поэзии независимо один от другого (ГГ в этом отношении – редкое и не бросающееся в глаза исключение). Поэтому целесообразно исследовать их порознь, в двух нижеследующих разделах.
Метрико-тематическую генеалогию, связывающую ГГ с ПД, гипотетически можно отодвинуть к стихотворению Жуковского «Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе…» (1837), рисующему портрет умершего Пушкина, где в первом и предпоследнем (11-м) стихах гекзаметр (или, вернее, вольный трехсложник) дает деривацию чистого Ан5 (правда, с женскими окончаниями), а сама авторская позиция (поэт всматривается в черты мертвого собрата) практически тождественна мандельштамовской[263]. Помимо общей насыщенности поминального цикла пушкинскими реминисценциями[264], эту догадку подкрепляют, с одной стороны, автопроекция позднего Мандельштама на фигуру Пушкина – гонимого[265] и гибнущего (паралитическим Дантесом назван в «Четвертой прозе» А. Г. Горнфельд), а с другой – свидетельство Н. Я. Мандельштам по поводу стихов на смерть Белого: ими поэт «отпевал не только Белого, но и себя и даже сказал мне об этом: он ведь предчувствовал, как его бросят в яму без всякого поминального слова» [Мандельштам Н. 2006: 333][266] (кроме того, Мандельштам мог впечатлиться тем обстоятельством, что ему «в суматохе <…> на спину упала крышка гроба Белого» [Рудаков 1997: 52]).
Ранее, в стихотворении «Сестры – тяжесть и нежность…» (1920), одном из нескольких у Мандельштама, целиком или частично написанных Ан5, прозвучал мотив смерти и погребения: «Человек умирает. Песок остывает согретый, / И вчерашнее солнце на черных носилках несут»[267]. В рамках сквозной для периода «Тристий» коллизии похорон солнца эти строки имеют инвариантную референцию, которая, в частности, включает и гибель Пушкина[268]. Ан5 написаны также: «О красавица Сайма, ты лодку мою колыхала…» (1908) с женскими окончаниями и перекрестной рифмой; «Золотистого меда струя из бутылки текла…» (1917) с чередованием мужских и женских окончаний и тоже перекрестной рифмой; частично – «Сохрани мою речь навсегда…» (1931) и «День стоял о пяти головах…» (1935), где Ан5 несколько раз вклинивается в дольник[269]. (Замечу походя, что в «День стоял…» племя младое, незнакомое является поэту как пушкинскому заместителю в образе молодых конвоиров, препровождающих на тот свет: «Грамотеет в шинелях с наганами племя пушкиноведов – / Молодые любители белозубых стишков».)
Нужно сказать, что в практике русского гекзаметра анапестические вкрапления были обычным явлением. В числе примеров, небезразличных для нашей темы, – антологическое двустишие Дельвига «Смерть» (1826/27), где условный гекзаметр принимает в первом стихе форму Ан5: «Мы не смерти боимся, но с телом расстаться нам жалко: / Так не с охотою мы старый сменяем халат»; ряд анапестических строк в повторном переложении Жуковским «Сельского кладбища» Грея (1839); а также стихотворение Фета с характерным названием «Сон и смерть» (конец 1850-х), начальный стих которого представляет собой, кажется, самый ранний образец Ан5 в творчестве поэта.
Впрочем, возможная генеалогическая цепочка удлиняется не только за счет отдельных стихов гекзаметрического происхождения. Думается, не случайно в тех считанных прецедентах Ан5 как самостоятельного размера, на которые мог опираться Фет, звучат важнейшие для ПД темы и мотивы. Так, в новогреческой «простонародной песне» «Скиллодим», переведенной Гнедичем (1824), идет речь о тюрьме и побеге:
- «Принесли мы поклон Скиллодиму от Спироса-брата». –
- «От любезного брата? но где вы видали его?» –
- «Мы видали его во Янине, в глубокой темнице;
- По рукам и ногам он заклепан железом сидел».
- Зарыдал Скиллодим и с тоски побежал от прохожих.
- «Воротись, Скиллодим! ты от брата бежишь, капитан!
- Не узнал ли ты брата? Скорее обнять себя дай мне!»
- <…>
- «В одну ночь, от цепей свободивши и руки и ноги,
- Я решетку сломал, я скакнул из окошка на топь,
- Я сыскал там челнок, через озеро птицей проплыл,
- И вот третия ночь, как взошел я на вольные горы».
Финал большого исторического стихотворения Мея «Александр Невский» (1861), свободно варьирующего разностопные анапесты (от трех до шести стоп), являет запоминающийся образчик похоронной музы:
- …И преставился князь…
- И рыдали, рыдали, рыдали
- Над усопшим и старцы, и малые дети с великой печали
- В Новегороде… Господи! Кто же тогда бы зениц
- В княжий гроб не сронил из-под слезных ресниц?
- Князь преставился…
- Летопись молвит: «Почил без страданья и муки,
- И безгрешную душу он ангелам передал в светлые руки.
- А когда отпевали его в несказанной печали-тоске,
- Вся святая жизнь князя в-очью пред людьми объявилась,
- Потому что для грамоты смертной у князя десница раскрылась,
- И поныне душевную грамоту крепко он держит в руке!»
- И почиет наш князь Александр Благоверный над синей Невою,
- И поют ему вечную память волна за волною,
- И поют память вечную все побережья ему…
- Да душевную грамоту он передаст ли кому?
- Передаст! И крестом осенит чьи-то мощные плечи,
- И придется кому-то услышать святые загробные речи!..
- <…>
Можно также предположить, что Фет испытал определенное метрико-семантическое влияние со стороны Надсона, чье стихотворение «Снова лунная ночь…», написанное Ан5 с чередованием женских и мужских рифм, возникло и увидело свет (в составе 1-го издания «Стихотворений» Надсона) всего за год до ПД, в начале 1885 г.[270] Тут мы находим и синих гор полукруг, и сравнение беспредельного простора – с тюрьмой (в поэтической системе Надсона мотив глобальной тюрьмы – один из центральных): «…Да не тянет меня красота этой чудной природы, / Не зовет эта даль, не пьянит этот воздух морской, / И, как узник в тюрьме жаждет света и жаждет свободы, / Так я жажду отчизны, отчизны моей дорогой!». Надсоновская антитеза тюрьмы и отчизны, возможно, была приведена к синтезу в строке того же размера из «Влюбленности» (1905) Блока: «И она, окрылясь, полетела из отчей тюрьмы». Созданное в Ницце, стихотворение Надсона в свою очередь воспроизводило риторический ход еще одного опыта Ан5 – написанного в Неаполе «Здесь весна, как художник уж славный, работает тихо…» (1859) Майкова: «…То ли дело наш Север! Весна, как волшебник нежданный, / Пронесется в лучах, и растопит снега и угонит <…> Унеси ты, волшебник, скорее меня в это царство <…>».
Еще раньше, в 1884 г. (по другой датировке – в 1882), Надсон пишет полиметричное стихотворение о самоубийстве, существующее в двух сильно разнящихся редакциях, для первой из которых Ан5 является основным, а для второй – преобладающим размером. Напечатанное только в 1900 г. с приведением обеих редакций и так же воспроизводившееся в последующих изданиях, оно было, несомненно, на слуху у Мандельштама, в читательской биографии которого Надсону принадлежала видная роль[271]. Привожу только 1-ю редакцию:
- Последняя ночь… Не увижу я больше рассвета;
- Встанет солнце, краснея сквозь мутную рябь облаков,
- И проснется столица, туманом одета,
- Для обычных забот и трудов.
- Дверь каморки моей будет долго стоять затворенной.
- Кто-нибудь из друзей переступит потом за порог
- И окликнет меня… И отступит назад потрясенный,
- Увидав бездыханный мой труп распростертым у ног.
- В луже крови я буду лежать, неподвижный и бледный;
- Нож застынет в руке… Нестерпимая боль искривит
- Посиневшие губы…
Траурный, погребальный, кладбищенский компонент регулярно проникал в Ан5, причем не только в качестве тематического ядра, но и независимо от общей темы[272]. Даже самый беглый взгляд на образцы обсуждаемого размера, создававшиеся известными поэтами на протяжении более чем ста лет, фиксирует значительную концентрацию текстов, содержание которых целиком или отчасти некрологично. И. Кукулин, специально изучавший Ан5, кажется, вплотную приблизился к такому же выводу. Его статью 1998 г. открывает пространное рассуждение о соприродности этого размера жанру элегии[273] и о природе этого жанра как таковой. Рассматривается, в частности, специфика элегической позиции по отношению к смерти. Среди примеров русского Ан5, приводимых вслед за этим, мы встречаем и ПД, и, например, песню Окуджавы на смерть Высоцкого (1980). В дальнейшем автор констатирует, что «в интерпретации Бродского пятистопный анапест не просто элегичен, а связан со смертью» [Кукулин 1998: 133], и затем весьма убедительно развивает это наблюдение. Оставалось только прибавить, что Бродский в данном случае лишь методично следует очень давней традиции, распространяя самый выразительный и устойчивый семантический признак Ан5 на весь массив своих текстов, написанных этим размером.
Итак, стихи, порождаемые названной традицией, как правило, реагируют на смерть близкого человека или некоего деятеля либо предсказывают смерть лирического субъекта[274]. Ко времени появления стихов Мандельштама на смерть Белого эта жанрово-тематическая предрасположенность Ан5 вполне уже за ним закрепилась. Вот несколько примеров:
Их Господь истребил за измену несчастной отчизне, / Он костями их тел, черепами усеял поля. / Воскресил их пророк: он просил им у Господа жизни. / Но позора Земли никогда не прощает Земля. // Две легенды о них прочитал я в легендах Востока. / Милосердна одна: воскрешенные пали в бою. / Но другая жестока: до гроба, по слову пророка, / Воскрешенные жили в пустынном и диком краю. // В день восстанья из мертвых одежды их черными стали, / В знак того, что на них – замогильного тления след, / И до гроба их лица, склоненные долу в печали, / Сохранили свинцовый, холодный, безжизненный цвет (И. Бунин, «За измену», <1903–05>);
Тут покоится хан, покоривший несметные страны, / Тут стояла мечеть над гробницей вождя <…> (он же, 1907);
Вот знакомый погост у цветной Средиземной волны, / Черный ряд кипарисов в квадрате высокой стены, / Белизна мавзолеев, блестящих на солнце кругом, / Зимний холод мистраля, пригретый весенним теплом, / Шум и свежесть валов, что, как сосны, шумят за стеной, / И небес гиацинт в снеговых облаках надо мной (он же, 1917);
На земле ты была точно дивная райская птица / На ветвях кипариса, среди золоченых гробниц. / Юный голос звучал как в полуденной роще цевница, / И лучистые солнца сияли из черных ресниц. // Рок отметил тебя. На земле ты была не жилица. / Красота лишь в Эдеме не знает запретных границ (он же, «Эпитафия», 1917);
Бауман![275] / Траурным маршем / Ряды колыхавшее имя! / Шагом, / Кланяясь флагам, / Над полной голов мостовой / Волочились балконы, / По мере того / Как под ними / Шло без шапок: / «Вы жертвою пали / В борьбе роковой» <…> Где-то долг отдавался последний, / И он уже воздан. / Молкнет карканье в парке, / И прах на Ваганькове – / Нем. / На погостной траве / Начинают хозяйничать / Звезды (Б. Пастернак, «Девятьсот пятый год», 1926)[276];
…Дом сгорел… На чужбине пустынно, и жутко, и тесно, / И усталый поэт, как в ярмо запряженная лань. // Надорвался и сгинул. Кричат биржевые таблицы… / Гул моторов… Рекламы… Как краток был светлый порыв! / Так порой, если отдыха нет, перелетные птицы / Гибнут в море, усталые крылья бессильно сложив (Саша Черный, «Соловьиное сердце», <1926>. Посв. Памяти П. П. Потемкина).
Последний из процитированных текстов написан эмигрантом – как и ряд других, которыми можно пополнить перечень примеров (тут прежде всего должны быть названы стихотворения Поплавского из его сборника 1932 г. «Флаги»: «Hommage Pablo Picasso», «Остров смерти», «Морелла I», «Морелла II», «Серафита II»). Также и в дальнейшем некрологическая традиция Ан5 (частично входящая в тематический цикл ‘Смерть поэта’, которому посвящена одноименная статья Г. А. Левинтона [1997]) поддерживалась в основном поэтами эмиграции (что, вероятно, в какой-то мере объясняется общим медитативным складом эмигрантской лирики)[277]:
…Словно оглохший от грома / Продолжал молотить – все равно ничего не поймут. / Обломалась педаль. Он вскочил. Он налил себе рому. / Отвернулся и плюнул. – Дурацкий Прелюд! – / А душа-то болела. Болела по-русски, бешено. / Он проклятьями трижды измерил прокуренный холл. / На рассвете кантонском, после ночи кромешной, / Узкоглазая девушка. Он ее называл «China Doll». / Да и та не спасла. Пистолет или яд? / Ничего не известно. Не говорят (Ю. Крузенштерн-Петерец, «China Doll», <1946>) [МЖТ 1994–1997: III, 231];
Ты пройдешь переулками до кривобокого моста, / Где мы часто прощались до завтра. Навеки прощай, / Невозвратное счастье! Я знаю спокойно и просто: / В день, когда я умру, непременно вернусь в Китай (В. Перелешин, «Издалека», 1953);
…Это, может быть, в первом изгнанье о нас говорится, / это, может быть, первое яблоко гонит нас в гроб. <…>…лишь одних похорон поучительный звон почитая, / Продолжительно к праху готовится наша душа (А. Присманова, «Церковные стекла») [I, 390–391];
…Иль уже навсегда в этом мире расчетливой скуки / Проживу и умру, как ненужный дворянский поэт, / И весеннею ночью, под сонного города звуки, / Я к виску своему не спеша поднесу пистолет. / Будет лучше мне там на пологой кладбищенской горке. / Белым пухом могилу осыпят мою тополя. / Будет суслик свистать, серым столбиком ставши у норки, / И, как в солнечном детстве, опять будут близки поля (В. Гальской, «Элегия») [III, 295–296];
Тишина, тишина. Поднимается солнце. Ни слова. / Тридцать градусов холода. Тускло сияет гранит. / И под черным вуалем у гроба стоит Гончарова, / Улыбается жалко и вдаль равнодушно глядит (Г. Адамович, «По широким мостам…» <1967>);
Слежка. Обыск. Вот груда стихов на полу. / На сонете Петрарки / дописал перевод каблуком полицейский сапог. / За окном где-то ворон привычно-пророчески каркнул, / И поэта, подвластного злейшей / в истории всех олигархий, / увели за порог майской ночи, за жизни порог (Э. Боброва, «Боязливость ребенка…») [IV, 101][278];
Раздавили тебя. Раздробили узоры костей. / Надорвали рисунок твоих кружевных сухожилий, / И собрав, что могли из почти невесомых частей, / В легкий гроб, в мягкий мох уложили (Н. Берберова, «Гуверовский архив, Калифорния», 1978).
В 5-стопных анапестах, писавшихся в советских условиях, некрологическая линия проявлялась, например, в контексте фронтовой героики:
Что за огненный шквал! / Все сметает… / Я ранен вторично… / Сколько времени прожито: / сутки, минута ли, час? / Но и левой рукой / я умею стрелять на «отлично»… / Но по-прежнему зорок / мой кровью залившийся глаз… <…> Я теряю сознанье… Прощай! Все кончается просто… <…> (В. Занадворов, «Последнее письмо», 1942) [СППнВОВ 1965: 216–217];
А когда я умру и меня повезут на лафете, / Как при жизни, мне волосы грубой рукой шевельнет / Ненавидящий слезы и смерть презирающий ветер / От винта самолета, идущего в дальний полет (Л. Шершер, «Ветер от винта», 1942) [Там же: 607].
У Даниила Андреева, склонного дробить 5-стопные анапесты внутренней рифмой, в стихах 1950-х годов тюремно-лагерная тема преобразуется в картины загробного инфернального визионерства:
Обреченное «я» / чуть маячило в круговороте, / У границ бытия / беполезную бросив борьбу. / Гибель? новая смерть? / новый спуск превращаемой плоти?.. / Непроглядная твердь… / и пространство – как в душном гробу («Русские боги», XV, 7);
…исполински размеренным взмахом / Длиннорукая волгра / меня подхватила на грудь. // Она тесно прижала / меня к омерзительной коже, / То ль присоски, то ль жала / меня облепили, дрожа… / Миллионами лет не сумел бы забыть я, о Боже, / Эту новую смерть – / срам четвертого рубежа. // Я был выпит. И прах – / моя ткань – в ее смрадные жилы / Как в цистерны вошла, / по вместилищам скверны струясь, / Чтобы в нижних мирах / экскрементом гниющим я жил бы… / Вот ты, лестница зла! / Дел и кар неразрывная связь («Русские боги», XV, 9);
Тамерлана ль величим, шлифуя его саркофаг мы, / Палача ль проклинаем проклятьем воспрянувших стран – / Спуск обоим – один («Русские боги», XV, 19)[279].
Иногда жанр (само)оплакивания подвергался сублимации либо травестии. Так, в стихотворном признании Шенгели 1939 г. («Поздно, поздно, Георгий!.. / Ты пятый десяток ломаешь…») поэт, несмотря на физическое здоровье, констатирует свою прижизненную, профессиональную смерть, а стихотворение Заболоцкого «Это было давно» (1957), ритмически восходящее к «Девятьсот пятому году»[280], дает сюжетную инверсию смерти поэта: «второе рождение» даруется голодающему поэту на кладбище, где старая крестьянка окликает его с невысокой могилы сырой и протягивает ему поминальную снедь: «И как громом ударило / В душу его, и тотчас / Сотни труб закричали / И звезды посыпались с неба. / И, смятенный и жалкий, / В сиянье страдальческих глаз, / Принял он подаянье, / Поел поминального хлеба». (Подобным же образом эсхатологическая труба кузнечика оживляла чертеж цветка на странице старой книги в написанном тоже Ан5 стихотворении Заболоцкого 1936 г. «Все, что было в душе».)
Повышенная отзывчивость раннего Бродского к семантическому заряду Ан5, судя по всему, вписывалась в тот же мелодико-эмоциональный канон, которого придерживался и близкий к нему в ту пору Аронзон – например, в финале «мандельштамовского»[281] стихотворения «Все ломать о слова заостренные манией копья…» (1962): «Вот на листьях ручей. А над ним облака, облака. / Это снова скользит по траве, обессилев, рука. / Будут кони бродить и, к ручью, наклоняясь, смотреть, / так заройся в ладони и вслушайся: вот твоя смерть».
В 1973 году появляется «На смерть друга» Бродского, ставшее одним из самых известных стихотворений, написанных Ан5. Как показал Д. Н. Ахапкин, текст Бродского, построенный как «цепочка квалификаторов», явился «реализацией формулы, которая восходит к стихотворению Мандельштама памяти Андрея Белого», а в структурно-тематическом плане предвосхитил «Памяти Геннадия Шмакова» (1989) [Ахапкин 1999], написанное тоже анапестом, но 3-стопным. Между тем ГГ, в свою очередь, этим своим аспектом, вероятно, ориентировано на безглагольный (именной) стиль Фета (хотя и не проявившийся в ПД), – что совпадает с некрологическим заданием показать остановившееся время.
В стихах о смерти вообще и смерти поэта в частности Ан5 в дальнейшем активно использовался ровесниками Бродского и представителями следующего литературного поколения, – см., например, «Ситуация А. Человек возвратился с попойки…» <1978> А. Цветкова, «На смерть Нестеровского» (1985) В. Ширали, «Стансы» (1987) С. Гандлевского, «Воскресенье настало…» <1987> Б. Ахмадулиной, тексты Ю. Кублановского: «Соловецкие волны…», «Целый день по стеклу…» (оба – 1981), «Памяти Александра Сопровского» (1992). Показательно, что Ан5 написано и первое стихотворение цикла А. Сопровского «Могила Мандельштама» (1974).
Завершая этот более чем беглый недифференцированный обзор, стоит обратить внимание на те особые пограничные случаи, когда в свободный стих соответствующего содержания как бы помимо авторской воли, но повинуясь диктату жанра, вторгался Ан5: «Здесь лежат ленинградцы…» (1956) О. Берггольц, «Умирать надо в бедности» (1978) В. Вейдле, «Ночь в Комарово» <1990> Е. Рейна и, разумеется, «Полночь в Москве…» (1931), где строка «Есть у нас паутинка шотландского старого пледа» предваряет завещательное распоряжение: «Ты меня им укроешь, как флагом военным, когда я умру»[282].
1.0. Голубая тюрьма. Насколько мне известно, эта формула до сих пор не становилась предметом специального анализа. Чтобы лучше понять ее специфику в контексте проклятия целлюлярности, тяготеющего над символистским мироощущением, рассмотрим поочередно обе ее лексические составляющие. Начнем с тюрьмы.