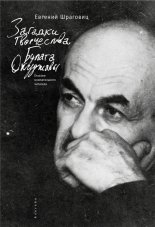М. Ю. Лермонтов как психологический тип Егоров Олег
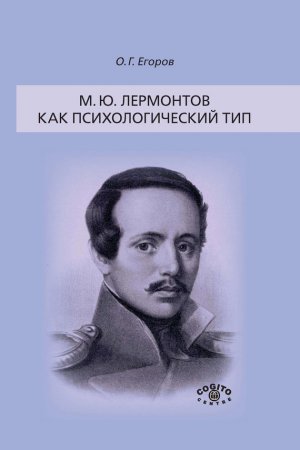
© Егоров О. Г., 2015
© Когито-Центр, 2015
Посвящается Надежде – жене, другу, помощнице
Так не требует ли от нас обязанность сыновней любви и почтения всевосхвалять Лермонтова за все то многое, что достойно похвалы, и молчать о другом?
Владимир Соловьев
Предисловие
Книга эта выросла из доклада, прочитанного на научной конференции в Московском государственном областном университете в 2002 году. Доклад был посвящен невротическому характеру персонажа «Героя нашего времени». В прениях мне был задан вопрос: а не обладал ли сам автор теми же признаками невроза, которые бессознательно воплотил в своем герое? Я дал положительный ответ, хотя тогда еще не мог его обстоятельно аргументировать. За годы, прошедшие с момента написания той работы, я много занимался вопросами психологии писателей и вообще творческих личностей. Отдельные идеи и находки сложились в концепцию, изложенную в настоящем труде.
Проблема душевной истории писателя имела в отечественном литературоведении двоякое преломление. Психология понималась как «духовные искания» морального, религиозного и экзистенциального порядка в сочетании с социальными, политическими и семейными проблемами, вызывавшими конфликты того же самого свойства (духовная драма Герцена, духовный перелом Толстого, пересмотр мировоззрения Достоевским). Подобный подход к личности писателя перекликался с исследованием «диалектики души», метода «психологического анализа» того или иного произведения и его автора. В незначительных модификациях такой подход господствует и по сей день.
Психология писателя и психологический анализ его жизни и творчества с позиций конкретного научного метода, известного в мировой культуре по терминам «психоанализ», «аналитическая психология», «фрейдизм», «неофрейдизм», «глубинная психология», не прижился в русском литературоведении. Психоанализ как исследовательский метод не приветствовался даже тогда, когда европейская наука обогатилась рядом убедительных по глубине и научной доказательности работ авторитетных ученых. Приемы и наработки психоанализа либо не принимались в расчет, либо изгонялись научным сообществом отечественных литературоведов, как только заходила речь об их использовании в качестве объяснительного средства душевной жизни писателя. И все это не отголоски далекого прошлого, сорока – пятидесятилетней давности, а реалии сегодняшнего дня.
Когда я опубликовал в 2003 году в литературоведческом журнале статью о Лермонтове с использованием психоаналитических методик, рядом с ней редакция поместила комментарий известного ученого под заглавием «Нужен ли Лермонтову личный психолог?» За ним последовал второй в следующем номере и в том же духе. В 2005 году впервые была издана очень интересная книга «К. Н. Батюшков под гнетом душевной болезни» неизвестного науке автора конца XIX века Н. Н. Новикова. В ней дана подробная картина психического заболевания поэта с характеристикой «Дневника болезни». При этом не кто иной, как современный издатель сего труда, в предисловии к книге, которую он признает «даже сейчас полезной», мимоходом делает такой пассаж: «предмет исследования „душевной болезни“ великого русского поэта более чем спорен».[1] Получается забавная вещь: налицо душевная болезнь поэта и книга, предметом которой она является, но самого предмета как бы и нет. Гегель называл такой оборот мысли хитростью разума. Аналогичные примеры можно многократно умножить.
В 1990-е годы гуманитарное сообщество России второй раз после 1920-х годов переживало увлечение психоанализом. Применительно к литературоведению этот бум был связан с переизданием работ В. Ф. Чижа, И. Н. Ермакова. Стал доступен «Клинический архив гениальности и одаренности» Г. В. Сегалина. Зародилось даже, усилиями Белянина, как будто бы новое направление в нашей науке – «психологическое литературоведение». Был защищен ряд диссертаций по литературоведению с использованием открытий З. Фрейда и его школы. Но общая картина в науке от этого так и не изменилась. Психоанализ в любом его истолковании – фрейдовском, юнгианском, адлеровском – по-прежнему пользуется недоверием со стороны научного сообщества литературоведов. Пациент скорее мертв, чем жив.
В чем же причина такого недоверия к широко признанному универсальному методу? Почему повальное увлечение психоанализом в 1990-е годы практически бесследно прошло для литературоведения и его важнейшей составляющей – биографии писателя? Мой ответ, наверное, не очень понравится почтенным профессорам и маститым литературным критикам, поскольку он лежит в плоскости обыденного сознания, а не философских высот. Но что делать, если учение мужи иной раз уподобляются презренному людскому стаду, от которого дистанцируются за кафедрой и в кругу своих не менее ученых собратьев. – Причина столь устойчивой неприязни к психоанализу заключается в обывательском страхе перед всем, что связано с психами, психушкой, клиникой и им подобными непристойными словами. Они, то есть слова психоанализ, невроз, либидо, сублимации и другие научные термины из арсенала научной психологии, моментально вызывают отторжение, как только встречаются в тексте научного исследования по литературоведению. Безотносительно к объему и характеру их содержания они ассоциируются в сознании филологов с чем-то инородным и даже неприличным для знатока изящной словесности. В лучшем (!) случае они рассматриваются как досадный довесок к работе, который лишь обременяет научное исследование. Отрицательное отношение к материалу исследования переносится на предмет исследования. В этой связи К. Г. Юнг писал: «‹…› Общее пренебрежение к человеческой психике повсюду еще настолько велико, что самонаблюдение и занятость самим собой считаются чуть ли не болезненными явлениями. Очевидно, мы подозреваем психическое в привнесении чего-то нездорового или неполезного, отчего одно уже только проявление интереса к нему несет в себе запах больничной палаты».[2]
Что же предлагается взамен психоанализа? Устаревший и примитивный «психологический анализ», который связан с подлинным психоанализом психики индивида и психологии межличностных отношений только названием. К этому ветхому хозяйству относится пресловутая «диалектика души» (хотя «диалектика» вовсе не психологический термин), рассуждения типа: «Тургенев изображает лишь начало и конец психологического процесса своих героев, а Достоевский – все течение мыслей» и т. п. Вот классический пример традиционного психологического анализа в книге известного психолога И. В. Страхова: «‹…› Внутренние монологи являются формой художественного изображения чувств. Чувство выступает в них в своей непосредственности, в истоках зарождения в сознании и в последующем течении, которое писатель обрисовывает в различных стадиях, прослеживает влияние этих изменений на общий облик и поведение персонажей. Здесь выступают различные структуры эмоциональных процессов – чувства сложные и простые по составу, цельные и противоречивые. Таков психологический диапазон внутренних монологов».[3] Познавательная ценность подобных аналитических выкладок ничтожна, хотя и сопровождается такими понятиями, как структура и эмоциональные процессы. Действительно, какие механизмы душевной жизни и истоки ее конфликтов у героев Толстого раскрывает указание на то, что писатель воспроизводит «различные структуры эмоциональных процессов» (истоки названы, но не исследованы)? Такой «психологический анализ» вместе с практикующими его исследователями находится на донаучной стадии познания психических явлений. Это как если бы после работ З. Фрейда мы стали толковать сновидения по соннику Г. Х. Миллера.
Писательской биографии как разделу истории литературы в этом отношении повезло меньше всех. В книгах данного жанра практически отсутствует анализ душевной структуры писателя, истоков и характера его душевных травм, места и значения в его жизни фантазий, снов, воспоминаний, то есть явлений бессознательного, проблемы сексуальности и ряда других важнейших составляющих психической жизни. Поэтому картина этой жизни значительно обедняется, а с ней теряется связь и с его произведениями, которые служат выражением всех перечисленных и иных психических фактов. Боязнь коснуться заповедного, наложение каких-то запретов на принципиально важные темы, утверждение, что психические отклонения не имеют отношения к сущности художественных феноменов, – словом, психология как наука в таком ее применении ближе к медицине, а не к литературе и поэтому не должна допускаться к пиршественному столу эстетики словесного творчества – все это входит в арсенал средств защиты литературоведов от нежелательного вторжения психологии в их епархию.
Однако еще в далеком 1907 году З. Фрейд развенчал эти предубеждения, указав на истинный путь писателя. «Мы слышим, – писал он в одной из блестящих своих работ, выполненных на литературном материале, – как нам говорят, что писатель должен избегать соприкосновения с психиатрией и оставить описание болезненных состояний психики врагам. На самом деле ни один настоящий писатель не обращал внимания на этот запрет. Ведь описание человеческой психики его самая важная вотчина; он всегда был предшественником науки, а также научной психологии ‹…› Таким образом, писатель не вправе избегать встречи с психиатром, психиатр – с писателем, а художественная трактовка психиатрической темы может быть очень точной без утраты красоты».[4] Десятилетием раньше известный русский психиатр и исследователь литературы В. Ф. Чиж высказал ту же самую мысль: патологические явления «играют значительную роль в жизни человечества и потому необходимо должны обращать на себя внимание великого художника, стремящегося нарисовать полную картину, изобразить жизнь во всех ее проявлениях».[5]
А в 1970-е годы, когда увлечение Фрейдом в среде гуманитарной интеллигенции не было таким повальным, как два десятилетиями спустя, известный советский философ Мераб Мамардашвили в лекции студентам ВГИКа утверждал: «‹…› Фрейда упрекали в циническом стремлении унизить высшую духовную жизнь человека, а именно искусство. Это недоразумение, ничего этого у Фрейда нет, Фрейд не пытался искусство как таковое или литературу как таковую свести к выражению каких-то человеческих бездн».[6]
Возвращаясь к теме замысла книги о Лермонтове, должен признаться, что ее окончательная концепция сформировалась не сразу. Сложность материала исследования открывала два пути работы, которые, разнясь изначально, в итоге сошлись. Биограф Лермонтова, приступающий к его жизнеописанию с позиций научной психологии, сразу встает перед проблемой его трагической гибели. Многочисленные свидетельства и неоспоримые факты сразу наталкивают такого исследователя на мысль о преднамеренности поведения поэта, приведшего его к ранней смерти. Обратимся к документам.
Комендант Пятигорской крепости и окружной начальник подполковник В. И. Ильяшенко незадолго до ссоры Мартынова с Лермонтовым предупреждал последнего: «Посмотрите, сколько врагов вы себе нажили ‹…› И что ж? Только дурачитесь… Бросьте все это… ведь они убьют вас!..
Лермонтов саркастически улыбнулся, отступил шаг назад и, подумав немного, с чувством проговорил:
- Им жизнь нужна моя, – ну, что ж, пускай возьмут,
- Не мне жалеть о ней!
- В наследие они одно приобретут —
- Клуб ядовитых змей».[7]
Служащий пятигорской военной комендатуры плац-майор В. И. Чиляев так описывает реакцию Мартынова на шутки и колкости Лермонтова в его адрес: «Долго ли ты будешь издеваться надо мной, в особенности в присутствии дам?…» А вот материалы официального документа – Ответы на вопросы следственной комиссии секундантов Васильчикова и Глебова: «6-е. Поводом к этой дуэли были насмешки со стороны Лермонтова на счет Мартынова, который, как говорил мне, предупреждал несколько раз Лермонтова, но, не видя конца его насмешкам, объявил Лермонтову, что он заставит его молчать, на что Лермонтов отвечал ему, что вместо угроз, которых он не боится, требовал бы удовлетворения ‹…› (Глебов)».[8] Другой секундант, князь Васильчиков, так охарактеризовал эту версию дуэли: «Суть верна!»
Всякого опытного психолога (и непредвзято мыслящего исследователя – непсихолога) подобные факты сразу наведут на мысль о самоубийстве, к которому сознательно шел поэт. А если к этому добавить многочисленные высказывания самого Лермонтова, поэтические и сделанные им в разговоре с близкими ему лицами, о его тягостном настроении перед последней поездкой на Кавказ, то такой вывод не покажется слишком смелым. Важно другое. Самоубийство – акт отчаяния или безнадежности. К нему обычно приводит тяжелое психическое состояние. И вот это последнее обстоятельство заставляло задумываться о психопатической природе поведения Лермонтова накануне дуэли. Мог ли психически здоровый человек проигнорировать все угрозы, предупреждения и предчувствия, которые буквально накатывались на него в последние недели и даже в последние дни перед роковым поединком? И было ли что-то роковое в самом факте дуэли? Логика рассуждения с неизбежностью подводила к мысли о невротическом характере Лермонтова, послужившем главной причиной его решительного шага, то есть самоубийства.
Первоначально я склонялся именно к такому объяснению причины гибели Лермонтова. Однако изучение фактов его биографии, включая возможные наследственные влияния, переписки и художественного наследия с позиций глубинной психологии, заставило пересмотреть казавшуюся очевидной гипотезу. Мне вспомнилось одно сакраментальное замечание К. Г. Юнга: «Здоровому человеку могут быть присущи отклонения, которые должны представляться посредственности психическим заболеванием либо просто означать уровень развития, превосходящий его собственный уровень».[9]
В поведении Лермонтова в кругу его знакомых, в светских сферах и, наконец, в «водяном обществе» Пятигорска, в его любовных увлечениях прослеживался ряд психологических закономерностей, которые выводили на другой путь в объяснении причин его гибели и дуэли в частности. Ни теория заговора, ни случайность, ни ошибка в оценке опасности поединка не укладывались в рамки гипотезы самоубийства и психопатического состояния поэта. Если даже и принять в качестве рабочей гипотезы версию о невротическом характере Лермонтова, то и сам характер и детерминирующие его факторы, вместе с преобладающими наклонностями и доминирующими отношениями к людям, должны рассматриваться в более широком психологическом контексте. Для этого необходимо было изучить структуру его семьи, наследственность, структуру его личности с ее доминантами, руководящую личностную идею, сложившуюся вследствие влияния этих структур и интенций. Исследования данного рода вывели на комплекс фундаментальных психологических проблем, в центре которого оказалась проблема психологического типа. От нее вели нити к душевным конфликтам поэта, его социальным установкам, «причудам» характера, вопросам пола, любви и эротики, жизни и смерти. Во всем этом помогла разобраться глубинная (аналитическая) психология. Здесь можно добавить: по контрасту с отечественной традицией в лермонтоведении.
Согласно идущей еще из XIX века линией интерпретации причин гибели Лермонтова, поэт пал жертвой заговора. Здесь уместно перефразировать известный философский афоризм: чаще всего культурная тень писателя бывает важнее самого писателя, она является реальной исторической силой. Причем нередко заговоров выявлялось два – большой, на уровне великосветского Петербурга, и малый, в кругу «водяного общества» Пятигорска. Причина первого заговора заключалась в конфликте поэта с высшим дворянско-чиновничьим кругом столицы, который видел в Лермонтове, с момента написания стихотворения «На смерть поэта», своего заклятого врага (слова А. М. Хитрово, «разносительницы новостей» и наушницы Бенкендорфа: «А вы, верно, читали, граф, новые стихи на всех нас и в которых сливки дворянства отделаны на чем свет стоит?»[10]). Свет решил отомстить строптивому поэту и использовал с этой целью Мартынова в качестве орудия мести.
Другая версия схожа с предыдущей и отличается от своей сестры лишь масштабом заговора. Часть «водяного общества» была оскорблена поведением опального поэта, который постоянно направлял против нее стрелы своего остроумия. И «заговорщики» решили наказать оскорбителя, стравив его с соперником по ухаживанию за дамами Мартыновым. Однако в этом заговоре не предусматривался кровавый исход. Его участники предполагали, что сам факт дуэли приведет к более суровому наказанию Лермонтова и его удалению из города. Но как ни заманчивы обе версии и ни укоренены в традиционной литературе о Лермонтове, в них много спорного и противоречивого.
Первую версию питает «синдром» дуэли Пушкина и заговор против поэта, весьма убедительно изложенных В. В. Кожиновым в книге о Ф. И. Тютчеве. По аналогии с этим заговором строилась и гипотеза о кознях против Лермонтова. Пятигорский заговор выглядел бы более убедительно, если бы не одно хорошо известное обстоятельство. После ссоры Мартынова с Лермонтовым, закончившейся вызовом, полковник Мезенцев, генерал князь В. С. Голицын и доктор Рябов, медицинский консультант Лермонтова, то есть высокие чины и авторитетные в городе люди, посоветовавшись, решили немедленно удалить Лермонтова из Пятигорска, хотя бы в Железноводск, из опасения за его жизнь. Так что опасность вполне возможного «заговора» уравновешивалась заботой о поэте и мерами к его безопасности.
И все-таки слабость теории заговора не в этих, сугубо внешних обстоятельствах. Искать причины никем не предвиденной и маловероятной по условиям Пятигорска того времени дуэли следует искать в личности Лермонтова, в особенностях его характера и душевных конфликтов. И проводником в такой работе может быть только метод психологического анализа. Заговор и случай – слишком мелкие обстоятельства и совершенно неудовлетворительные объяснения такого судьбоносного события. Ими умаляется личность Лермонтова, а происшедшее с ним низводится до заурядной мелодрамы в духе Коцебу.
Пора с Мартынова снять ореол злодея, на роль которого он совершенно не подходит: велика честь. Его рукой на самом деле двигали силы, но не те, которые имеют в виде иные мемуаристы и последующие исследователи. Тем силам вряд ли бы удалось направить в цель меткий выстрел плохого стрелка Мартынова на расстоянии двадцати метров.
Действительно, в гибели Лермонтова приняли участие мощные и влиятельные силы. Но искать их надо не вовне, а внутри самой личности поэта, в истории сложного и замысловатого развития его души. Эти силы действовали стихийно, бессознательно, они не управлялись волей Лермонтова, а напротив, подчиняли ее себе в важных жизненных ситуациях. Выявить эти силы, показать их динамику и воздействие на поступки поэта можно только с помощью метода психологического анализа. Здесь уместно привести слова величайшего знатока человеческой души К. Г. Юнга об этой неведомой нам, но неумолимой силе: «Вместо того чтобы ждать опасностей от диких зверей, обвалов и наводнений, человеку сегодня приходится опасаться стихийных сил своей психики. Психическое – это огромная сила, которая многократно превосходит все силы на свете».[11] Влиянию этой силы на судьбу Лермонтова и будет посвящена настоящая книга.
Назвав психологический анализ главным инструментом в исследовании истории души Лермонтова, мы только подошли к постановке проблемы и выбору научного инструментария. Метод психологического анализа поистине безграничен. И это его свойство заключает в себе риск впасть в односторонность и субъективизм. Поэтому возникает необходимость его конкретизации. Последняя зависит от объекта исследования. И здесь возникает определенное затруднение. Биографию писателя вряд ли можно рассматривать вне его творчества, вне конкретных произведений. Сами эти произведения помогают разгадать многие загадки его душевной жизни. Но в своих творениях писатель тоже применяет психологический анализ при описании души своих героев. Этот метод чаще всего и становится объектом исследования литературоведов. А поскольку за Лермонтовым закрепилась слава основоположника русского психологического романа, уместно будет с самого начала развести эти два понятия – творческий метод писателя как один из возможных объектов исследования, вбирающий в себя и самоанализ с его многочисленными проекциями в его творениях, с одной стороны, и аналитику душевной жизни автора – с другой.
Классиками психоанализа было разработано несколько методов изучения души человека. Одни психоаналитики предпочитали детерминистский подход (Фрейд и его школа). Суть его заключается в изучении истоков душевных конфликтов человека и их влияния на всю его последующую жизнь. Другие (А. Адлер) подходят к тем же проблемам с позиций телеологии, то есть ищут конфликты в главной жизненной цели индивида, в его руководящей личностной идее. Третьи (Юнг и его школа глубинной психологии) делают акцент на иррациональных факторах человеческой личности и в их анализе опираются на все богатство человеческой культуры: мифы, символы, религиозные верования, алхимию и астрологию. Но тот же Юнг рекомендовал при выборе метода руководствоваться спецификой материала, своеобразием судьбы той личности, которая подвергается психоанализу. Это наиболее перспективный подход и будет принят нами за основу в настоящем исследовании.
Личность Лермонтова выделяется своей исключительной сложностью даже на фоне таких противоречивых и патологических фигур русской культуры, как Гоголь, Достоевский, Толстой, А. Иванов, Чайковский. И если в последних силы разрушения вполне созрели к моменту их ухода, завершив долгий изнурительный процесс страданий, то ранняя смерть Лермонтова с его не источенным болезнью организмом и душой, при всех случайных моментах, до сих пор содержит больше загадок, чем проясненных истин. Причину этого я нахожу в том, что как современники, так и несколько поколений исследователей подходили к разрешению этих загадок односторонне. Все они увлекались внешней стороной жизни поэта. Его душевная жизнь (не духовная!) оставалась не только неосмысленной, но даже неоткрытой. XIX век здесь трудно упрекнуть, потому что у него не было научных знаний о душе, открытых психоанализом в веке XX. А отношение своих современников (и наших не в меньшей степени) к психическому прекрасно раскрыл Юнг.
Поэтому задача построения всеобъемлющей научной биографии Лермонтова немыслима без преодолении барьеров на пути изучения истории его души и интеграции этой истории в его «внешнюю», видимую биографию. Понимание данной проблемы в ее полном объеме – дело крайне сложное. Препятствием этому служит недостаточная подготовленность литературоведов в области научной психологии и названные выше предубеждения против психоанализа и его объекта. Но другого пути к постижению научной истины нет. Психоанализ давно является достоянием мировой культуры, и открещиваться от него было бы равносильно впадению в крайнюю форму аутизма. «Психоанализ – это не только метод лечения, но и научная теория человека ‹…› На переднем плане здесь стоят гуманистические ценности человечества ‹…› это направление оказало наибольшее влияние на людей искусства, философии, теологии». (54, XIII)
В связи с этим возникает закономерный вопрос: в какой степени и в каких границах область литературного творчества, и в особенности такая ее специфическая часть, как биография писателя, может быть рассмотрена с помощью метода психологического анализа? Не возникает ли здесь опасность перешагнуть границы автономной сферы литературоведения и предоставит другой науке описывать на своем языке и в рамках своего специфического задания литературные явления? То есть встает вопрос о сохранении специфики литературоведения. На мой взгляд, этот вопрос сродни вопросу о сохранении невинности после замужества: взаимопроникновение наук в такой же мере необходимость, в какой и общеизвестный факт. И здесь опять стоит прислушаться к мнению классика: «Без особых доказательств очевидно, что психология – будучи наукой о душевных процессах может быть поставлена в связь с литературоведением. Ведь материнское лоно всех наук, как и любого произведения искусства, – душа. Поэтому наука о душе, казалось бы, должна быть в состоянии описать и объяснить в их соотнесенности два предмета: психологическую структуру произведения искусства, с одной стороны, и психологические предпосылки художественно продуктивного индивида – с другой».[12]
Даже беглый взгляд на классические труды по психоанализу, в которых литературный и фольклорный материал является объектом исследования, вызывает смешанное чувство удивления и восхищения. Анализ сюжетных коллизий художественных произведений, того, что в науке о литературе принято называть темой, идей, проблематикой, системой образов, выполнен психоаналитиками на высочайшем профессиональном уровне. Анализу таких книг, как «Она» Р. Хаггарда и «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» Р. Л. Стивенсона, сделанного Юнгом, и «Градивы» В. Йенсена, выполненного Фрейдом, нет аналогов в соответствующей отрасли истории литературы. На этих исследованиях не только длжно учиться начинающим литературоведам. Не говоря уже об искусствоведческом анализе творений Леонардо да Винчи и «Моисея» Микеланджело Фрейдом, античных, восточных и библейских мифов Юнгом, Э. Нойманном и О. Ранком. Так что возможные упреки в нарушении границ науки выглядят несостоятельными.
Что касается личности писателя, его биографии, то литературные гении издавна были объектом повышенного внимания психоаналитиков. Краткий обзор этого жанра будет дан во Введении к данной книге. Здесь лишь отметим, что наше исследование посвящено душевным процессам и конфликтам, их истокам и последствиям у Лермонтова. То есть в отличие от традиционного жизнеописания мы сосредоточимся на анализе Лермонтова как психологического типа с точки зрения данных аналитической психологии. Решение этой задачи повлечет за собой обращение к многочисленным источникам, по большей части известным литературоведам в лучшем случае по названиям. Поэтому задача настоящей книги отчасти и пропедевтическая. Она служит введением в разветвленную систему наук о душе. В книге читатель найдет много цитат из трудов по различным направлениям психоанализа. Это связано с высокой степенью изученности тех проблем, которые будут решаться на материале биографии Лермонтова. Я старался уберечь читателей от перегруженности моего труда таким материалом, хотя убежден в том, что обильное цитирование психоаналитической литературы – польза для литературоведческой науки.
Несколько слов о литературно-биографических источниках. Все те, кто обращался к личности Лермонтова, знают о двух проблемах – скудности источников по отдельным периодам его жизни и противоречивости свидетельств о важнейших фактах его биографии. Изъян, обозначенный первой проблемой, наверное, невосполним, но его можно частично компенсировать косвенными источниками, в чем нам и должна помочь научная психология. Со второй проблемой справиться намного проще. В любых противоречивых, а порой и взаимоисключающих свидетельствах всегда есть нечто общее, хотя бы психологически. Как верно выразился А. И. Васильчиков, «суть верна».
Иные биографы в изобилии используют материалы художественного творчества писателя для объяснения фактов его биографии. Но чаще всего этот материал относится к духовной жизни писателя, зарождению и эволюции его идей, эстетических, философских и иных взглядов и позиций. Нас он будет интересовать менее всего. К художественным произведениям Лермонтова мы обращаемся в этой книге в тех случаях, когда они согласуются и соотносятся с фактами его душевной жизни, когда они обращены к детству, родителям, возлюбленным поэта; когда его поэтическое творчество служит выражением бессознательного, а художественные символы раскрывают смысл его поступков или душевных конфликтов.
Суммируя все сказанное, читатель может заподозрить автора в том, что он претендует на создание нового жанра – параллельной биографии писателя, которая посвящена исключительно жизни его души. Это так и не так. Душевную жизнь человека в ее трактовке психоанализом принято было рассматривать как нечто непонятное и недоступное, темное и чуждое сознанию, короче – ночное, а порой и постороннее главной, дневной его жизни. Но от этого факта нельзя уйти, его невозможно игнорировать без ущерба для научной истины. Биография великого человека не будет полной, если в ней, наряду с событиями внешней жизни, этот человек не предстанет в «сумерках» своего бессознательного бытия. Это особенно важно для великого человека с трагической судьбой.
Какую же цель должно преследовать такое изучение души Лермонтова? Прежде всего оно призвано выявить те внутренние конфликты, которые привели его к дуэли и гибели. Для этого необходимо будет исследовать их истоки, начиная с конституционных и приобретенных свойств личности, динамики тех душевных сил, которые сформировали его психические комплексы. Ядром и источником всех этих свойств и процессов является та устойчивая психическая структура, которая носит название психологического типа. Решение этой сверхзадачи возможно при помощи метода психоанализа в широком его понимании, то есть включая теории и методы всех психологов – последователей Фрейда, Адлера и Юнга.[13] «Но что оправдывает потребность получить сведения об обстоятельствах жизни человека, чьи труды приобрели для нас такое значение? ‹…› Это желание приблизить к нам такую личность как человека ‹…› это потребность обрести эмоциональную связь с такими людьми, поставить их в один ряд с отцами, учителями, примерами для подражания ‹…›
Биограф хочет не принизить, а приблизить героя. Но это значит сократить дистанцию, т. е. действовать все же в направлении принижения. А если мы больше узнаем о жизни великой личности, то неизбежно услышим о случаях, когда эта личность поступила не лучше, чем мы, и по человечески действительно приблизилась к нам ‹…›
Психоанализ может привести некоторые объяснения, которые невозможно получить другими путями, и выявить новые взаимосвязи в переплетениях, нити от которых тянутся к влечениям, переживаниям и работам художника. Поэтому одной из важнейших функций нашего мышления является психическое овладение материалом внешнего мира ‹…› надо быть благодарным психоанализу, который, будучи применимым к великому человеку, содействует пониманию его великих достижений».[14]
Москва, март 2014 г.
Введение
Психоаналитический подход к литературному произведению – опыт классиков: З. Фрейд, К. Г. Юнг, А. Адлер. Исследования гениальности их последователями. Российский психоанализ и литературоведение: В. Ф. Чиж, И. Д. Ермаков, эвропатология Г. В. Сегалина. Традиционализм в психологических аспектах литературоведения: Б. А. Грифцов. Психологические коннотации в лермонтоведии (выборочный обзор). История проблемы и современный взгляд на М. Ю. Лермонтова с позиций психоанализа (экскурсы)
Литературоведение в союзе с психологией прошло путь длиной приблизительно в 130 лет. Обозреть его весь – дело целой монографии. Наша задача менее амбициозна. Мы ограничимся обзором отдельных направлений и тех наиболее значимых работ, которые имеют прямое отношение к нашему исследованию. В этот круг с логической неизбежностью попадают труды классиков психоанализа, российских психолгов и психологически ориентированных ученых и, наконец, те труды лермонтоведов, в которых предприняты попытки решить проблемы творчества поэта в рамках научной психологии.
Несмотря на изрядную долю критицизма в отношении к психоанализу и скептицизма к постановке его задач в области литературы со стороны традиционного литературоведения, психоанализ стремительно ворвался в литературу, завладев ее главным достоянием – поэзией, прозой, драмой. Более того, этот незваный гость решительно переориентировал некоторые его теоретические области, добившись за короткий срок сенсационных результатов даже в такой узкопрофессиональной сфере. Последние были настолько внушительны, что позиция страуса, зарывшего голову в песок, которую последовательно принимало литературоведение в отношении психоанализа, стала самым большим курьезом гуманитарной науки XX столетия.
Если рассматривать весь массив психоаналитической литературы, в которой художественные произведения и личность писателя являются объектом анализа, то в ней можно выделить три группы. К первой относятся работы, в которых литературный материал служит дополнительным источником для решения той или иной психологической (психоаналитической) задачи. Иной раз художественная литература выступает даже в качестве ultima ratio. Такую роль играют повести Г. Р. Хаггарда «Она» и Р. Л. Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», «Прометей и Эпиметей» К. Шпиттелера и «Фауст» И. В. Гете в известных работах К. Г. Юнга. Вторую группу составляют исследования, специально посвященные литературным произведениям или (примыкающие к ней) определяющие место и роль психологии в их анализе, как статьи З. Фрейда о В. Йенсене, К. Г. Юнга об «Уллисе» Д. Джойса и его же о Ф. Шиллере в «Психологических типах». Наконец, третью группу представляют исследования, посвященные личности писателя, истории его душевной жизни.
Общим для всех психоаналитиков в их трудах, основанных на литературном материале, является дистанцирование от эстетической специфики художественной литературы как вида искусства (эта позиция свойственна всем психоаналитикам и в отношении к живописи и скульптуре). Классики психоанализа никогда не вторгались в заповедную зону литературоведов, будучи убеждены в том, что область эстетического не подвластна психологии. Такая позиция должна ослабить недоверие литературоведов к проникновению в их епархию психоаналитических методов. Что же полезного для понимания сущности литературно-художественного произведения и творческой личности писателя может дать психоанализ при таком условии?
Пионером в этой области, как и следовало ожидать, был Зигмунд Фрейд. Психоанализ литературы (и шире – искусства) составил отдельный том в его научном наследии. На работы Фрейда этого жанра наложила отпечаток его доминирующая психоаналитическая идея пансексуальности. Однако в большинстве самостоятельных искусствоведческих исследований она не шокирует чувства в качестве ide fixe, а встроена в вполне классическую схему литературного анализа. Эту установку ученый сформулировал в качестве одного из правил своего метода: «Наши познания или гипотезы по данному поводу (имеются в виду типы характеров. – О. Е.) я буду излагать, по известным причинам, не на случаях врачебного наблюдения, а с помощью образов, созданных великими художниками, располагавшими изобильными знаниями человеческой души».[15]
Так обстоит дело в статье «Бред и сны в „Градиве“ В. Йенсена». Статья представляет собой блестящий образец литературоведческого анализа с использованием психоаналитического метода. Автор раскрывает психический смысл сновидения героя повести, составляющий ее идейный центр. Анализ повести приводит Фрейда к мысли о том, что, в отличие от психоаналитика, художник движется другим путем. Он «направляет свое внимание на бессознательное в собственной душе, прислушиваясь к возможностям его развития, и выражает их (анормальные психические процессы. – О. Е.) в художественной форме».[16]
Но главным достижением Фрейда с точки зрения нашей темы стал анализ личности писателя в знаменитой работе «Достоевский и отцеубийство». Этот небольшой очерк до сих пор вызывает отторжение психоанализа как метода у большинства отечественных достоевсковедов, и не только у них. Все они считают, что психопатология не в состоянии объяснить сущность идейно-художественного своеобразия произведений писателя. Однако для Фрейда и психоаналитически ориентированных литературоведов эта взаимосвязь очевидна. «Почти все своеобразные черты его поэтики, – писал Фрейд в письме к Стефану Цвейгу от 19 октября 1920 годы, то есть за восемь лет до публикации очерка, – объяснимы его психическими предрасположенностями ‹…›»[17]
Великая заслуга Фрейда в этом очерке состоит в том, что он начертал пути психологического анализа личности писателя, раскрыл психические механизмы, формировавшие его творческие установки, и исследовал отражение в его творчестве его душевных конфликтов. Этическое неприятие вызвало (и вызывает до сих пор) то обстоятельство, что объектом анализа стала личность с очевидной патологией. Но Фрейд не уставал повторять, что «психоаналитическое исследование решилось приблизиться к творениям художников еще и с другими намерениями. Оно не искало в них подтверждения своих открытий, сделанных на ‹…› невротических людях, а желало знать, из каких впечатлений и воспоминаний художник формировал свое произведение и каким образом, с помощью каких процессов этот материал превратился в поэтическое творение».[18]
Вторым психоаналитиком, проложившим новый путь науке о литературе, был Альфред Адлер (1870–1937). Они не писал специальных работ на литературном материале, как его учитель или собрат по профессии К. Г. Юнг. Кроме небольшого эссе «Достоевский», у Адлера нет трудов о гениальных людях. Тем не менее его вклад в разработку психоаналитических методов в литературоведении огромен. Адлеру принадлежит плодотворнейшая идея о роли целевой установки в психологической ориентации личности. Такую установку он назвал руководящей личностной идеей и оценивал ее в качестве решающего фактора в формировании психических механизмов. Центральное понятие аналитической психологии Адлера не следует отождествлять с воззрением, убеждением или главной мыслью. Руководящая личностная идея – это именно жизненная установка, не всегда отчетливо формулированная. Ее питает и направляет психическая энергия. Она концентрирует сознание и бессознательное личности на определенном направлении, по которому устремлены все жизненные силы этой личности: интеллект, воля, интуиция, чувства, миропонимание и т. п. «‹…› Правильно понятые отдельные акты в своей взаимосвязи должны отобразить единый жизненный план и его конечную цель ‹…› независимо от предрасположенности, среды и событий, все психические силы целиком находятся во власти соответствующей идеи, и все акты выражения, чувства, мысли, желания, действия, сновидения и психопатологические феномены пронизаны единым жизненным планом. Из этой самодовлеющей целенаправленности проистекает целостность личности; так в психическом органе проявляется телеология ‹…›»[19]
Эта адлеровская идея открывает широкий простор для истолкования душевной жизни и судеб как самих писателей, так и многих персонажей художественных произведений. С ее помощью можно расширить круг проблем, изучаемых искусствознанием и литературоведением. «Изучение природы человека, – писал в этой связи Адлер, – можно считать искусством, в распоряжении которого имеется множество инструментов, – искусством, тесно связанным с другими искусствами и важным для них всех. Особое значение оно имеет для литературы и поэзии».[20]
Как и Фрейда, Адлера привлекла гениальная личность Достоевского. Но, в отличие от своего учителя и антагониста, Адлер изучил ее не «по соотношению сил между устремлениями влечений и противоборствующим им торможениям»[21], а с точки зрения «его попытки подчинить жизнь одной-единственной формуле». Фрейд исследовал главным образом патологические черты личности Достоевского. Поэтому его анализ с моральной точки зрения выглядит неутешительным, а с эстетической – шокирующим. Адлер сумел разглядеть сквозь призму патологии положительное начало в личности и творчестве писателя. Его выводы позволяют смотреть на личность Достоевского с нравственным оптимизмом.
Болезнь Достоевского как конституциональное свойство его психики сформировала его руководящую личностную идею – стремление к власти. «Границы опьянения властью он нашел в любви к ближнему».[22] Оно превратилось у него в защитный механизм – смирение и покорность. Но последние «всегда являются протестом, поскольку указывают на дистанцию, которую необходимо преодолеть».[23] Доктринальная идея Достоевского о смирении переносится Адлером из этического плана в план психологический. Она порождает концепцию, согласно которой «деяние бесполезно, пагубно или преступно; благо же только в смирении, если последнее обеспечивает тайное наслаждение от превосходства над остальными».[24]
Адлер дает высочайшую оценку Достоевскому-психологу даже в свете открытий научной психологии XX столетия. «‹…› Его зоркий глаз психолога проник глубже, чем та психология, которая формируется на основе абстрактных рассуждений». Адлеру Достоевский близок тем, что «его представления и рассуждения о сновидении остаются непревзойденными и поныне, а его идея о том, что никто не способен мыслить и совершать поступки, не имея цели, не имея перед глазами финала, совпадают с самыми современными достижениями индивидуальной психологии».[25]
И еще одно важное наблюдение сделал Адлер при изучении творчества Достоевского. Оно касается проблемы границ, или порога, у которого происходят события романов писателя. М. М. Бахтин рассмотрел эту проблему с позиций философии поступка. Адлер, предвосхищая Бахтина в рамках психоаналитического подхода, показал, что «у Достоевского вряд ли можно найти какой-нибудь другой образ, который повторялся бы столь же часто, как образ границ или стены».[26] Это «чувство границы» постоянно испытывал и сам Достоевский. Он вынес его из детства. О личности Достоевского мы можем получить приблизительное представление по тому, «в какой момент действительности он останавливается», подавляя душевный порыв у границы, переступать которую было недопустимо.[27]
С К. Г. Юнгом психоанализ литературы вступает в качественно новый этап своего развития. Юнг расширил «источниковедческую» базу классического психоанализа за счет таких пластов культуры, как мифология, астрология, алхимия, восточная философия, религия и магия. Наряду с ними литература стала опорной базой для ряда его фундаментальных исследований эпохального значения. Юнг буквально произвел переворот в понимании соотношения психологии с гуманитарными науками. С точки зрения науки о литературе заслуга Юнга состояла в том, что он переосмыслил исконные представления о субъективном и объективном в творческом процессе писателя. «Применяя истолкование на субъективном уровне, – писал ученый, – мы получаем доступ к широкой психологической интерпретации не только сновидений, но и литературных произведений, в которых отдельные действующие лица являются представителями относительно автономных функциональных комплексов автора».[28]
В работах Юнга произведения литературы и фольклора используются в концептуальных построениях и в разработках частных проблем в масштабах, не сопоставимых с трудами других психоаналитиков. Так, его главный труд «Психологические типы» написан в значительной степени на материале литературы. Юнгу принадлежит и несколько специальных работ о литературных произведениях и литературном творчестве. Среди них уникальное по своей интерпретации текста эссе «„Уллис“. Монолог». Но главным его трудом в этой области является статья «Психология и поэтическое творчество», в которой он решает кардинальные проблемы методологии психоанализа применительно к литературоведению.
Концепция Юнга основана на двух фундаментальных идеях.
1. Произведение художественной литературы является психологическим переживанием, поэтому оно на равных правах с литературоведением может быть объектом анализа психологии. Но литературоведение и психология различаются подходами к интерпретации литературного материала. Психология выводит свой предмет из каузальных предпосылок поэтического произведения к личности художника, в то время как наука о литературе рассматривает психологическое непосредственно в самом произведении и в творческой индивидуальности его создателя. Различия между психологией и литературоведением имеют место и в ценностном подходе к произведению. Психология чаще всего извлекает для себя материал из произведений, в которых «повествование строится на невысказанном психологическом основании», где нет того, что в литературоведении обычно подразумевается под «психологией». В психологическом романе, с которым имеет дело литературовед, автор дает специальные психологические разъяснения действий и мыслей своих героев, которые затемняют «душевную основу». Первую группу произведений Юнг относит к визионерскому типу творчества, вторую – к психологическому. «Психологический тип имеет в качестве своего материала такое содержание, которое движется в пределах досягаемого человеческого сознания ‹…›» Это так сказать «психология переднего плана». В визионерском типе произведений «материал, подвергающийся художественной обработке, не имеет в себе ничего, что было бы привычным ‹…› он выходит за пределы человеческого восприятия и ‹…› предъявляет художественному творчеству иные требования ‹…›»[29]
2. Применительно к литературному материалу перед психологией стоят две задачи, соответствующие двум предметам анализа – «психологической структуре произведения» и психологии художника слова. «В первом случае дело идет о „предумышленно“ оформленном продукте сложной душевной деятельности, во втором – о самом душевном аппарате ‹…› Хотя эти два объекта находятся в интимнейшем сцеплении и неразложимом взаимодействии, все же один из них не в состоянии объяснить другой».[30] Поэтому Юнг разделяет психологический анализ литературы на две самостоятельных области – изучение произведения поэтического искусства и анализ личности автора. Ценность художественного произведения тем выше, чем меньше в нем личного, авторского, ибо произведение искусства «говорит от имени духа человечества, сердца человечества и обращается к ним».
Юнг выделяет в писателе два начала с точки зрения психологии – человеческое и творческое. Оба эти начала находятся в нем в состоянии борьбы. Задача психоанализа – изучить личность художника в ее целостности. Личность художника лучше всего объяснять из его творчества, а не из тех конфликтов, которые он переживает как простой смертный. Как творческая личность писатель расходует больше психической энергии, что приводит к потерям на другом полюсе его личности. Но эта потеря несущественная для его искусства. Поэтому биография писателя, хотя и интересна, но в отношении к его творчеству несущественна.
Та невысокая оценка биографии писателя, которая принадлежит Юнгу, не нашла, однако, своих последователей в кругу психоаналитиков. Напротив, именно в это время зарождается направление в психоанализе, представители которого последовательно разрабатывают биографии гениев, преимущественно литературных и художественных. Неоценимая заслуга и приоритет в этом принадлежит Эрнсту Кречмеру (1888–1964). Он разработал методику анализа личности великих людей, среди которых особо выделял писателей. «Известное предпочтение, отдаваемое поэтам и вообще литературно продуктивным людям, – писал исследователь, – объясняется не их духовным превосходством над другими группами творцов, а очевидным специфическим богатством сохраняющихся во времени оригинальных психологических документов, дающих нам в руки прямые и косвенные самоизображения поэта, у которого манера письма намного более субъективно связана с личностью автора, чем у ученого, и намного легче трактуема, чем выразительные средства художника или музыканта».[31]
Психоанализ возник из практики лечения душевных патологий. И Кречмер рассматривал гениальных людей как носителей психопатического компонента. Из этой научной установки вырастает и специфическая методика анализа личности гения. Ее надо рассматривать целостно, как советовал Юнг, но в то же время в двояком аспекте «‹…› Чтобы правильно понять всю трагичность жизненного пути многих гениальных людей, нужно рассматривать обе стороны этой медали. На одной стороне – окружение, нормальный человек с его здоровой филистерской натурой, противящийся всякому беспокойству, и наивной завистью к ослепляющему его блеску необычайного, на другой стороне – гений, несколько психопатичный и исключительный человек со сверхчувственными нервами, с дурными аффективными реакциями, с малой способностью к приспособлению, с капризами и перепадами настроения, который ‹…› часто выказывает себя довольно раздражительным, обидчивым, бесцеремонным и надменным ‹…› затрудняет жизнь и истощает терпение тех, кто его искренне любит, поддерживает и хочет ему помочь».[32]
В отличие от Ч. Ломброзо, Кречмер не склонен видеть в каждом гении непременно психопата. Согласно его концепции и результатам исследований большого числа гениальных людей, психопатический компонент часто встраивается в здоровую целостную личность и служит своеобразным балансиром душевной жизни. Более того, «психопатический уклон почти исключительно помогает гению, сенсибилизируя личность до сверхутонченности, стимулируя, создавая контрасты, углубляя сознание, делая личность сложнее и богаче».[33]
Другая заслуга Кречмера заключается в классификации соматических конституций гениальных личностей и установлении их взаимосвязи с типами темпераментов. Кречмер описал периодику душевной жизни ряда писателей и ввел в научный оборот применительно к ним такое понятие, как циркулярное состояние. При его помощи стало проще объяснять периодические колебания творческих подъемов и душевных спадов в жизни и творчестве художников. Кречмер также обстоятельно обосновал роль наследственности в формировании высокоодаренных людей, которая (наследственность) является более важным условием их развития, чем внешний фактор влияния окружающей среды.
Параллельно типологическому исследованию Кречмера Карл Ясперс (1883–1969) проделал тематически близкую работу по изучению методом психоанализа двух гениальных личностей – Ю. А. Стриндберга и В. Ван Гога. Хотя его книга «Стриндберг и Ван Гог» посвящена психопатологии, Ясперс адресовал ее более широкому кругу читателей, чем специалистам, а именно: «исследователю человеческой психики как таковому».[34] В этот круг, естественно, попадали и литературоведы, занимающиеся писательской биографией.
Несмотря на приверженность Ясперса к философии экзистенциализма, его труд ни по содержанию, ни по стилю не принадлежит к экзистенциальному психоанализу, в отличие, например, от книги о Флобере его философского единомышленника Ж. П. Сартра. Интересен и подбор материала, на котором строит свое исследование немецкий психолог. Он делает акцент на автобиографических сочинениях Стриндберга. Рассмотренные в хронологическом порядке, они дают отчетливое представление, в интерпретации Ясперса, об исходных чертах личности шведского писателя, основных стадиях его болезни, перспективе ее развития и душевном угасании автора «Истории одной души».
Хотя Ясперс сосредоточен исключительно на душевной патологии героев своего исследования, они выступают в ней не как пациенты. Поэтому книга имеет большое практическое значение для всех занимающихся психоанализом литературы и, в частности, для биографов писателей. Она показательна с точки зрения метода: как отбирать и осмысливать материал, как использовать специфическую терминологию в ее применении к описанию душевной жизни художника, как вообще подходить к жизнеописанию писателя, страдающего патологией.
Эта последняя проблема стала центральной в монографии Жана-Поля Сартра (1905–1980) «Идиот в семье», посвященной личности Гюстава Флобера. Исследование Сартра – уникальное явление в мировом литературоведении. Его объем уже говорит о многом: в перечете на листаж обычного издания это четыре больших тома (на русский язык переведено приблизительно 40 % текста). Это философская антропология и одновременно – психоаналитическая биография писателя. В данном случае это экзистенциальный психоанализ. Метод диктовала сама биография писателя, очень бедная внешними событиями. Личность Флобера рассматривается Сартром как «универсальная единичность» эпохи, как созданная эпохой и одновременно воспроизводящая в себе универсальные признаки эпохи.
В книге Сартра детально описывается структура семьи Флобера как единство группы во главе с pater familias, ее культурная детерминированность; дается интерпретация внутреннего опыта будущего писателя в атмосфере отчуждения, приведшей к формированию невроза. Все это Флобер объективировал в своих книгах, и Сартр раскрывает эти объективации, но не через движение вперед, а в обратной последовательности, отыскивая в фактах будущей жизни объяснение предшествующих событий. «Во всяком исследовании, – резюмирует философ свой метод, – касающемся интериоризации, внутреннего мира, один из методических принципов заключается в том, чтобы начинать рассмотрение на крайней стадии изучаемого опыта, то есть когда он представляется самому субъекту во всей полноте своего развития – что бы ни случилось с ним впоследствии – то есть как тотализация, которая, без того чтобы ее можно было бы назвать законченной, не сможет уже быть продолженной».[35] Метод Сартра напрямую связан с практикой психоаналитической терапии и является ее философским выражением. Он напоминает работу психоаналитика с пациентом, который рассказывает о своих настоящих душевных проблемах, а тот старается истолковать их с позиций его прошлого душевного опыта.
Прежде чем сделать абрис русской психоаналитической традиции в литературоведении, необходимо остановиться на тех немногих авторах, труды которых непосредственно предшествовали возникновению этой традиции. Интерес к психологии писателя и анализу литературно-художественного произведения с позиций психологии зародился в русской науке в конце XIX столетия. Как и в истории с более поздним психоанализом, первоначально исследователи обратились к патологическим состояниям и личностям. Последних в русской литературе XIX века было немало. Первой крупной фигурой в этом ряду был К. Н. Батюшков. Его этиологией занялся в конце века безвестный энтузиаст Н. Н. Новиков, чья книга «К. Н. Батюшков под гнетом душевной болезни» так и не увидела света в течение более чем ста лет. Сегодня она интересна как первая робкая попытка приоткрыть завесу над болезненными душевными процессами поэта, которые привели его к безвременной душевной гибели и которые частично отразились в его творчестве. Книга Новикова интересна не только с точки зрения истории развития психологических подходов к литературе, но и тем, что человек, далекий от всякой науки, сумел сделать немало верных наблюдений и прийти к ряду важных выводов методологического характера.
В отличие от многих отечественных литературоведов, питавших (и питающих) органическую неприязнь к психоанализу в широком понимании этого термина Новиков (в конце XIX века!) сумел по достоинству оценить значимость этого метода в объяснении литературных явлений и особенно личности писателя. «Все существующее в поднебесной может и должно быть предметом литературного изучения, – писал он в своей книге о больном Батюшкове. – ‹…› злосчастное состояние душевнобольных людей должно быть внимательно изучаемо. Если видное место заслужил Батюшков в русской военной, литературной и общественной истории, то в ней же должно быть место и очеркам его жизни под бременем сгубившей его душевной болезни».[36]
Человек глубоко религиозный и весьма далекий от естественнонаучных увлечений своего времени, Новиков глубоко уразумел сущность научного подхода к проникновению в душевный мир писателя. Он считал нецелесообразным разделять две стороны его личности – творческую и человеческую и предлагал рассматривать их в единстве в процессе изучения его души. «Человеческая сущность его ‹Батюшкова› определилась ‹…› двумя силами: поэтически-творческого и болезнетворного».[37] В основании своей концепции Новиков выдвигает два требования, научно обоснованные в следующую эпоху психологией: искать истоки последующих душевных конфликтов Батюшкова в его наследственности и в его детстве. Истоки базального конфликта у Батюшкова восходят к семейной драме, которую ребенком он пережил в доме родителей. Эта мысль Новикова интересна с точки зрения темы нашего исследования. Он сопоставляет детские впечатления о семейной драме Лермонтова и Батюшкова: «‹…› в творческих замыслах своих Лермонтов ясно выразил свое убеждение, что семена и корни его неизбежной безвременной гибели таились в пережитом им сиротстве во младенчестве. Не та ли участь роила в тревожной и трепетной душе Батюшкова безысходные мрачные „предвещания“, истощившие его, как нескончаемая боль незаживающей мучительной язвы?»[38]
Своеобразие исследования Новикова заключается в том, что оно построено на изучении двух источников: художественного и эпистолярного наследия поэта, с одной стороны, и журнала клинических наблюдений лечащего врача Батюшкова – с другой. Такие удачные сочетания редко встречаются в литературоведческой, да, пожалуй, и психологической практике. Для непсихолога и неврача Новикова самопризнания Батюшкова в его письмах и поэтических творениях служат не менее авторитетным источником изучения душевной жизни, чем скрупулезные записи психиатра. Делая первоначальные выводы из своих наблюдений, Новиков как бы обращается к последующим поколениям литературоведов с призывом направить свои усилия именно в этом направлении. «То с досадою и ропотом, то с негодованием и гневом, то с чувством глубокой скорби высказывал он иной раз довольно прозрачные намеки на скрывавшиеся в его душе причины неудержимых волнений ‹…› повторявшиеся ряды таких ‹…› признаний в более или менее очевидных странностях не могли быть плодом одной ‹…› фантазии ‹…› Они были неясным откликом души на ‹…› из ее же глубины исходившие тревожные запросы ‹…› Они были неполным удовлетворением непроизвольных и не поднимавшихся до полного роста ‹…› глубоких и сильных душевных ее требований. Чем непроизвольнее вырывались они из души, тем больше значения могут ‹…› иметь ‹…› как явления, выясняющие сущность и свойства первичных заложений и задатков в душе Батюшкова.