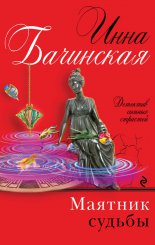Дом странных детей Риггз Ренсом
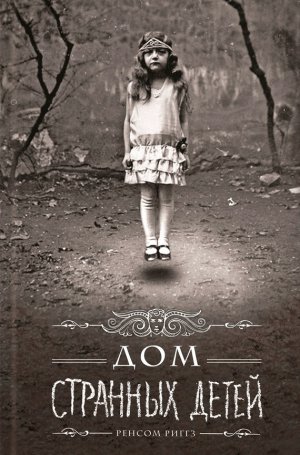
— Сколько у него было глаз?
— Два.
— Ясно, — кивнул он, как будто художникам-криминалистам вовсе не в новинку рисовать чудовищ.
Было совершенно очевидно, что они просто пытаются меня утихомирить. Он окончательно выдал себя, попытавшись вручить мне готовый рисунок.
— Разве вам это не нужно? Для материалов дела и все такое? — спросил я.
Он приподнял брови и переглянулся с полицейским.
— Ах, ну да. О чем я думаю?
Все это было неописуемо оскорбительно.
Мне не верил даже мой лучший и единственный друг Рики, а ведь он был там со мной! Он клялся и божился, что не видел в лесу никакого чудовища, хотя я светил фонариком прямо тому в лицо. Он так и сказал полицейским. Зато Рики слышал лай. Мы оба его слышали. Поэтому никто особенно не удивился заключению полиции, гласившему, что дедушку убила стая озверевших собак. Судя по всему, такую стаю видели неподалеку. Всего неделю назад она напала на женщину в Сенчури-Вудз. И это тоже произошло ночью.
— Именно тогда, когда этих чудовищ труднее всего разглядеть! — воскликнул я, обращаясь к Рики.
Но тот лишь покачал головой и пробормотал что-то насчет того, что мне нужен псих.
— Ты хочешь сказать, психиатр, — вздохнул я. — Как я рад, что ты меня понимаешь.
Мы сидели на плоской крыше моего дома, наблюдая закат солнца над заливом. Рики, как пружина, свернулся на смехотворно дорогом адирондакском[1] стуле, который мои родители привезли из поездки в края, населенные амишами[2]. Ноги он поджал под себя, а руки скрестил на груди и с видом угрюмой решимости беспрестанно курил сигареты. Мне всегда казалось, что у меня дома ему слегка не по себе. Но по тому, как он поспешно отводил глаза в сторону, не успевая даже задержать на мне взгляд, я видел, что сейчас его смущает не богатство моих родителей, а я сам.
— Думай что хочешь, но я тебе честно скажу, — вздохнул он. — Продолжай чесать о монстрах, и они тебя упекут. Вот тогда ты действительно станешь особенным мальчиком.
— Хватит меня так называть.
Он щелчком отбросил сигарету и выплюнул через перила огромный блестящий комок табака.
— Ты что, одновременно курил и жевал табак?
— А ты что, моя мамочка?
— А что, похоже, что я отсасываю дальнобойщикам за продуктовые талоны?
Рики был большим любителем шуточек о мамуле, но это оказалось чересчур даже для него. Он вскочил со стула и толкнул меня так сильно, что я чуть не упал с крыши.
— Проваливай отсюда! — заорал я, но он уже шагал прочь.
Прошло несколько месяцев, прежде чем я увидел его снова. Вот тебе и друзья.
В конце концов родители таки повезли меня к психотерапевту, сдержанному смуглому человечку по фамилии Голан. Я не сопротивлялся. Я знал, что нуждаюсь в помощи.
Я думал, что окажусь крепким орешком, но доктор Голан раскусил меня на удивление легко. Своим спокойствием и невозмутимостью он практически загипнотизировал меня. Ему хватило двух сеансов, чтобы убедить меня в том, что чудовище было не более чем продуктом моего перевозбужденного воображения. Смерть дедушки так меня потрясла, что я начал видеть то, чего на самом деле не было. Ведь изначально именно дедушка Портман поместил это существо в мое сознание, объяснял доктор Голан. Поэтому не было ничего удивительного в том, что, пережив самое жестокое в своей короткой жизни потрясение, я увидел то, чего всю жизнь боялся мой дед.
У этого состояния даже было название: острая стрессовая реакция.
— Это так тупо, — пошутила мама, услышав мой диагноз. — Не вижу в этом ничего острого.
Ее шутка оставила меня равнодушным. Все, что угодно, лишь бы не простой диагноз «помешательство».
Но то, что я больше не верил в чудовища, никак не улучшило моего состояния. По ночам я по-прежнему просыпался от кошмаров. Я вздрагивал и страдал от мании преследования. Я испытывал затруднения в общении с другими людьми, и мои родители наняли мне учителя, чтобы я мог учиться дома, а в школу ходить только тогда, когда чувствую в себе силы. Они также — наконец-то! — позволили мне бросить работу в «Смарт-Эйд». Я должен был поправиться, и это стало моей новой работой.
Очень быстро это занятие мне также надоело. Я решил добиться того, чтобы с этой должности меня тоже уволили. Как только стало ясно, что мое безумие временное, задача доктора Голана свелась к выписыванию рецептов. Тебе все еще снятся кошмары? У меня кое-что от этого есть. Паническая атака в школьном автобусе? Вот это тебе поможет. Не можешь уснуть? Давай увеличим дозу. От всех этих пилюль я толстел и тупел, но продолжал влачить жалкое существование и спал всего по три-четыре часа за ночь. Поэтому я начал лгать доктору Голану. Я делал вид, что все хорошо, в то время как мешки у меня под глазами были видны невооруженным глазом, а любой неожиданный звук заставлял меня нервно вздрагивать. В течение целой недели я придумывал сны, которые выглядели скучными и обыкновенными, как сны нормального человека. В одном из них я был на приеме у зубного врача, в другом летал. А однажды я сказал доктору Голану, что две ночи подряд мне снилось, что я пришел в школу полностью голым.
— Как насчет чудовищ? — оборвал он меня.
Я пожал плечами.
— Никаких чудовищ. Наверное, это означает, что я выздоравливаю?
Доктор Голан постучал ручкой по столу и что-то записал.
— Я надеюсь, ты не рассказываешь мне то, что, по твоему мнению, я хочу слышать.
— Конечно, нет, — заверил я его, скользя взглядом по развешанным на стенах дипломам, свидетельствующим о его профессионализме и компетенции в различных отраслях психологии и психиатрии, включая, разумеется, и умение понять, когда страдающий от острого стресса пацан лжет своему доктору.
— Давай начистоту. — Он отложил ручку. — Ты хочешь сказать, что за всю неделю тебе ни разу не приснился этот сон?
Я никогда не умел врать. Чтобы окончательно не опозориться, я решил уступить.
— Ну, может, только один раз, — пробормотал я.
На самом деле на этой неделе не было ни одной ночи, прошедшей без этого сна. Не считая незначительных подробностей, кошмар всегда был следующим. Я скорчился в углу дедушкиной спальни. В окнах угасает янтарный вечерний свет. В руках я сжимаю розовую пластмассовую винтовку и целюсь в дверь. Там, где должна стоять кровать, высится огромный торговый автомат. Только он набит не батончиками, а рядами острых, как бритва, тактических ножей и бронебойных пистолетов. Возле автомата стоит мой дедушка, одетый в старую британскую военную форму. Он скармливает автомату долларовые бумажки. Но пистолет стоит дорого, и мы, кажется, не успеваем. Наконец к стеклу движется сверкающий кольт, но вместо того, чтобы упасть дедушке в руки, он застревает в автомате. Дед изрыгает ругательство на идише, опускается на колени и просовывает внутрь руку, пытаясь схватить пистолет, но теперь застревает и его рука. Вот тут-то они и появляются. Их длинные черные языки скользят по окну снаружи, пытаясь пробраться внутрь. Я целюсь в них и нажимаю на спусковой крючок, но ничего не происходит. Тем временем дедушка Портман кричит, как сумасшедший: «Найди птицу! Найди петлю! Якоб, ну пашему ты не понимаешь?! Какой ше ты хлупый!» Потом окно лопается, стекло дождем сыплется на пол и черные языки опутывают нас с дедушкой. На этом месте я обычно просыпаюсь. Я обливаюсь потом, сердце пытается выскочить у меня из груди, а все внутренности скручиваются в тугой узел.
Хотя сон каждый раз повторялся и мы обсуждали его не меньше сотни раз, доктор Голан заставлял меня рассказывать его во время каждого сеанса. Он как будто пытался устроить перекрестный допрос моему подсознанию, чтобы найти какой-то ключ к разгадке, который упустил во время всех предыдущих сеансов.
— И что говорит твой дедушка во сне?
— То же, что и всегда, — отвечаю я. — Насчет птицы, петли и могилы.
— Он повторяет свои последние слова?
— Вот именно.
Доктор Голан складывает вместе кончики пальцев и прижимает эту похожую на палатку фигуру к подбородку, являя собой картину «Задумчивый психоаналитик».
— У тебя нет новых идей относительно того, что могут означать эти слова?
— Ага, есть. Бред собачий.
— Брось. Ты же так не думаешь.
Я пытался сделать вид, что мне нет дела до последних произнесенных дедушкой слов, хотя в действительности это было не так. Они не давали мне покоя почти так же, как и ночные кошмары. Мне казалось, что я не имею права отмахнуться от них, как от галлюцинаторного бреда, а доктор Голан был убежден, что, только поняв их значение, я смогу избавиться от своих жутких снов. Поэтому я старался.
Кое-что из того, что произнес дедушка, звучало вполне осмысленно. Например, то, что я должен поехать на остров. Он боялся, что чудовища придут за мной, и считал остров единственным местом, где я могу от них спастись, как это когда-то сделал он. Еще перед смертью он проговорил: «Я давно должен был все тебе рассказать». Но он уже не успевал ничего мне рассказать, что бы это ни было. Возможно, поэтому он и оставил след, который мог вывести меня к человеку, способному все мне объяснить, к человеку, знавшему его тайну. Мне казалось, что именно в этом заключается смысл той загадочной фразы о петле, могиле и письме.
Сначала я думал, что «петля» — это одна из улиц в Круговой деревне, являвшейся не чем иным, как сплетением похожих на петли дорог. А «Эмерсон» — это человек, с которым дедушка переписывался. Возможно, это был фронтовой товарищ деда, продолжающий поддерживать с ним отношения. Что, если этот Эмерсон живет в Круговой деревне, в одной из «петель» возле кладбища, и одно из написанных им писем датировано третьим сентября тысяча девятьсот сорокового года, и это именно то письмо, которое я должен прочесть? Я знал, что это звучит безумно, но я уже убедился в том, что в жизни случаются и более безумные вещи. Естественно, не найдя ничего в Интернете, я отправился в культурный центр Круговой деревни, где старики играли в шафлборд[3] и обсуждали свои болезни и операции. Я спросил у них, где находится кладбище и знает ли кто-нибудь мистера Эмерсона. Они смотрели так, будто у меня на плечах росло сразу две головы, не в силах поверить в то, что к ним обратился подросток. Впрочем, кладбища в Круговой деревне не было, как и жителя по фамилии Эмерсон. Не было и улиц, в названии которых фигурировало бы слово «петля». Короче, моя теория потерпела полное фиаско.
Но доктор Голан не оставлял меня в покое. Он предложил мне рассмотреть кандидатуру Ральфа Уолдо Эмерсона, якобы знаменитого в далеком прошлом поэта.
— Эмерсон написал множество писем, — сообщил он мне. — Может, твой дедушка говорил об одном из них?
Я подумал, что это как тыкать пальцем в небо, но Голан не отставал, и однажды днем я попросил папу завезти меня в местную библиотеку. Я быстро обнаружил, что Ральф Уолдо Эмерсон и в самом деле написал гору писем, большинство из которых были опубликованы. На целых три минуты мой пульс взволнованно участился, потому что мне показалось, что я близок к разгадке. Но потом мне стало ясно, что, во-первых, Ральф Уолдо Эмерсон жил и умер в девятнадцатом веке, а следовательно, не мог написать писем, датированных третьим сентября тысяча девятьсот сорокового года. А во-вторых, его творения были такими заумно-мистическими, что мой дедушка, который никогда не был книгоманом, просто не мог ими увлекаться. Я на себе испытал снотворные свойства творчества Эмерсона, уронив голову прямо на книгу, раскрытую на странице с эссе под названием «Уверенность в себе». И в шестой раз за эту неделю увидел сон про торговый автомат. Я проснулся с такими криками, что меня бесцеремонно выставили из библиотеки. Я покинул ее без сожаления, проклиная про себя и доктора Голана, и его идиотские теории.
Очередным ударом стало решение моей семьи продать дом дедушки Портмана. Прежде чем позволить потенциальным покупателям осмотреть его, дом следовало вычистить и вымыть. По совету доктора Голана, считавшего, что мне следует побывать на месте, где я получил психологическую травму, мне было поручено помогать папе и тете Сьюзи разбирать вещи. Какое-то время папа то и дело отводил меня в сторонку, чтобы убедиться, что со мной все в порядке. Как ни странно, я был спокоен, несмотря на обрывки полицейской ленты на кустах, хлопающую на ветру разорванную дверь веранды и мусорный контейнер, арендованный родителями и ожидающий возможности поглотить то, что осталось от жизни моего дедушки. Мне было грустно, но не страшно.
Как только стало ясно, что я не собираюсь с пеной у рта кататься по полу, мы приступили к делу. Вооружившись мусорными пакетами, мы решительно шагали по дому, опустошая полки и шкафчики, заглядывая во все уголки, покрытые слежавшейся за долгие годы пылью. Мы возводили пирамиды из вещей, которые можно было оставить себе или как-то использовать, и кучи, предназначенные для мусорного контейнера. Тетушка и отец не страдали сентиментальностью, и «мусорные» пирамиды всякий раз оказывались выше тех, других. Я несколько раз безуспешно пытался отвоевать у контейнера кое-какие вещи, например сваленную в углу гаража восьмифутовую стопку подмоченных дождем журналов «Нэшнл Джеографик». Я столько вечеров провел над ними, воображая себя среди папуасов Новой Гвинеи или открывая для себя приютившийся на краю пропасти древний замок, расположенный в Королевстве Бутан. Мне не позволили оставить даже дедушкину коллекцию рубашек для боулинга («Что за позорище?!» — заявил отец), его пластинки («Мы найдем для них хорошего покупателя») и содержимое массивного и все еще запертого оружейного сейфа («Ты ведь шутишь, правда? Я очень надеюсь на то, что ты шутишь»).
Я сказал отцу, что у него нет сердца. Тетушка сбежала, оставив нас наедине в кабинете, где мы сортировали гору старой финансовой отчетности.
— Я трезво смотрю на вещи, Джейкоб. То, что мы сейчас делаем, происходит всегда, когда люди умирают.
— Да? Значит, после твоей смерти мне можно будет сжечь все твои рукописи?
Он покраснел. Мне не следовало этого говорить. Упоминание о его неоконченных книгах было ударом ниже пояса. Но вместо того чтобы заорать на меня, он тихо произнес:
— Я взял тебя сегодня с собой, потому что считал тебя достаточно зрелым. Думал, что тебе это будет по плечу. Похоже, я ошибался.
— Ты ошибаешься, когда думаешь, что, избавившись от дедушкиных вещей, ты заставишь меня его забыть. У тебя ничего не выйдет.
Он вскинул руки.
— Знаешь что? Мне надоело об этом спорить. Оставляй все, что хочешь. — Он швырнул мне под ноги пачку пожелтевших листов бумаги. — Вот подробный перечень отчислений за тот год, когда был убит Кеннеди. Помести его в рамочку и повесь на стену!
Я пнул эту кипу ногой и выскочил из кабинета, громко хлопнув дверью. Я долго сидел в гостиной, ожидая, что он выйдет и извинится. Но когда услышал, что в кабинете зашумел шредер[4], понял, что этого не произойдет. Промчавшись через весь дом, я заперся в спальне. Меня окружил затхлый воздух, в котором стоял запах кожаной обуви и кисловатый аромат дедушкиного одеколона. Я прислонился к стене, глядя на вытоптанную на ковре дорожку, ведущую от двери к его кровати. Мутноватый солнечный луч выхватил из полумрака торчащий из-под покрывала край коробки. Я подошел к кровати, опустился на колени и извлек ее. Это была покрытая толстым слоем пыли старая коробка из-под сигар. Мне показалось, что дедушка специально положил ее так, чтобы я обязательно заметил.
Внутри были хорошо знакомые мне фотографии: невидимый мальчик, левитирующая девочка, силач с поднятым на вытянутой руке валуном, человек с нарисованным на затылке лицом. Снимки были хрупкими и шелушились. Они также казались намного меньше, чем я их запомнил. Глядя на них сейчас, много лет спустя, я поразился тому, какой откровенной подделкой было все это. Чтобы спрятать голову, «невидимому» мальчику достаточно было ловко извернуться. Огромный камень, удерживаемый на весу подозрительно тощим подростком, легко мог быть изготовлен из гипса или поролона. Но, конечно, эти соображения не могли прийти в голову шестилетнему ребенку, особенно если он хотел верить в то, что все это правда.
Под знакомыми фотографиями я обнаружил еще пять снимков, которые дедушка Портман никогда мне не показывал. Сначала я удивился, но, присмотревшись поближе, понял, что такую явную фальшивку распознал бы даже ребенок. Одна фотография являлась смехотворно-примитивным образцом двойной экспозиции и изображала девочку, «заключенную» в бутылку. На другой я увидел «левитирующего» ребенка, тоже девочку, удерживаемую на весу чем-то, скрытым в темном дверном проеме у нее за спиной. На третьей лицо мальчика было грубо «наложено» на собачье тело. Но последние две фотографии по своей причудливости значительно превосходили все остальные и напоминали воплощение мрачных фантазий Дэвида Линча. На одной из них печально-угрюмая маленькая гимнастка изогнулась назад, просунув голову у себя между ногами, как будто позвоночника у нее не было вовсе; на другой красовалась парочка жуткого вида близнецов, одетых в самые странные костюмы из всех, что я когда-либо видел. Даже мой дедушка, забивавший голову внука рассказами о чудовищах с щупальцами вместо языков, понимал, что от вида таких снимков ребенка будут преследовать ночные кошмары.
Стоя на коленях на пыльном полу дедушкиной спальни с загадочными фотографиями в руках, я вспомнил тот день, когда понял, что в рассказах деда нет ни крупицы правды. Тогда я почувствовал себя преданным. Сейчас мне стало совершенно ясно, что его последние слова были очередной хитростью, нацеленной на то, чтобы заразить меня кошмарами и параноидальными галлюцинациями, на борьбу с которыми уйдут годы психотерапии и лечения разрушительными для моего организма препаратами.
Я захлопнул коробку и принес ее в гостиную, где отец и тетя Сьюзи вытряхивали в огромный мусорный пакет полный ящик аккуратно вырезанных, но так и не использованных купонов.
Я протянул им коробку. Они не стали интересоваться ее содержимым.
— Так, значит, ты считаешь, что его смерть была бессмысленной? — спросил у меня доктор Голан.
Я лежал на кушетке, уставившись на расположенный в углу комнаты аквариум, в котором описывал медленные ленивые круги его единственный обитатель — золотая рыбка.
— А у вас есть идея получше? — поинтересовался я. — Какая-то сногсшибательная теория, о которой вы до сих пор мне ничего не сообщили? В противном случае…
— Что?
— В противном случае все это пустая трата времени.
Голан вздохнул и ущипнул себя за переносицу, как будто пытаясь унять головную боль.
— Я не имею права строить умозаключения относительно того, что могут означать последние слова твоего дедушки, — произнес он. — Имеет значение только то, что думаешь об этом ты.
— Мне надоел весь этот психотреп, — взвился я. — Какая разница, что я думаю? Имеет значение только то, что это означает на самом деле! Но я думаю, что мы этого никогда не узнаем. А значит, это не имеет вообще никакого значения. Накачайте меня таблетками, выпишите счет, и давайте с этим покончим.
Я хотел, чтобы он разозлился и начал спорить, настаивая на том, что я ошибаюсь. Вместо этого он сидел с непроницаемым лицом и барабанил ручкой по подлокотнику кресла.
— Похоже, ты сдался, — наконец произнес доктор. — Я разочарован. Мне казалось, ты из тех, кто борется до конца.
— Вы просто плохо меня знаете, — ответил я.
У меня не было ни малейшего желания устраивать вечеринку. Но я понял, что мне от нее не отвертеться, как только родители начали толсто намекать на то, какими скучными и унылыми обещают быть предстоящие выходные, в то время как все мы знали, что в субботу мне исполнится шестнадцать лет. Я умолял их обойтись в этом году без празднования, потому что, в числе прочих причин, я не знал ни одного человека, которого хотел бы пригласить. Но родителей беспокоило то, что я слишком много времени провожу в одиночестве. Они были уверены, что общение с людьми оказывает целительное воздействие на больную психику.
— Наравне с электрошоком, — напомнил я им.
Но мама не упускала ни одного, даже самого незначительного повода устроить вечеринку. Однажды она пригласила друзей на день рождения нашего попугайчика. Отчасти это объяснялось тем, что она очень гордилась нашим домом. С бокалом вина в руке она водила гостей из комнаты в комнату, пространно восхваляя гений архитектора и рассказывая страшилки о возведении этого шедевра («Мы несколько месяцев ждали, пока нам привезут из Италии эти канделябры»).
Мы только что вернулись домой после катастрофически безуспешного сеанса у доктора Голана. Я вслед за папой вошел в подозрительно темную гостиную, слушая, как он вполголоса бормочет:
— Как жаль, что мы не отмечаем твой день рождения… Хотя, кто мешает нам сделать это в следующем году?
И вдруг в комнате вспыхнул свет, открывая взору веселые спиральки серпантина, воздушные шары и разношерстное сборище тетушек, дядюшек, кузенов и кузин, с которыми я почти никогда не общался, — одним словом, всех, кого сумела заманить сюда моя мать. Я с удивлением отметил, что Рики тоже здесь. Он околачивался возле кувшина с пуншем и выглядел до смешного неуместно в своей кожаной куртке с заклепками. Когда толпа прекратила хлопать в ладоши и орать, а я перестал делать удивленное лицо, мама обняла меня за плечи и прошептала:
— Все нормально?
Я был измучен и расстроен. Все, чего мне хотелось, это поиграть на компьютере и, включив телик, забраться в постель. Но не могли же мы отправить всех гостей по домам.
— Все отлично, — кивнул я, а мама улыбнулась благодарной улыбкой.
— Кто хочет взглянуть на наше новое приобретение? — пропела она, прежде чем налить себе бокальчик шардоне и возглавить шествие родственников на второй этаж.
Мы с Рики обменялись кивками, безмолвно договорившись пару часиков потерпеть присутствие друг друга. С того дня, как он едва не столкнул меня с крыши, мы не разговаривали. Тем не менее мы оба понимали, как важно создать для присутствующих видимость нашей дружбы. Я уже хотел было с ним поговорить, как вдруг на меня налетел дядя Бобби, схватил меня за локоть и затолкал в угол. Он был крупным парнем, водил большую машину и жил в огромном доме. Вскоре ему предстояло покинуть этот мир в результате сердечного приступа, вызванного долгими годами неумеренного потребления фуа-гра и бургеров, и оставить бизнес моим тупоголовым кузенам и крошечной незаметной женушке. Они с моим дядей Лесом были сопрезидентами корпорации «Смарт-Эйд» и обожали заталкивать собеседников в угол с таким видом, будто организовывали переворот, а не предлагали похвалить хозяйку за изумительный гуакамоле[5].
— Я слышал, что ты уже почти преодолел эту… э-э… всю эту историю с дедушкой.
Историю с дедушкой. Никто не знал, как это называть.
— Острую стрессовую реакцию, — произнес я.
— Что?
— Так называется то, чем я страдал. Страдаю. Да Бог с ним.
— Вот и хорошо. Я ужасно рад. — Он помахал рукой, словно отметая все эти неприятности и оставляя их в прошлом. — Так вот, мы тут подумали с твоей мамой… Как ты смотришь на то, чтобы этим летом приехать в Тампу и посмотреть, как работает семейный бизнес? Вместе поломаем головы в нашей штаб-квартире, а? Или ты предпочитаешь раскладывать товар по полкам? — Тут он так громко расхохотался, что я невольно попятился. — Хотя ты мог бы вообще никуда не ходить. А по выходным мы бы ездили на рыбалку вместе с твоими кузенами.
Последующие пять минут он пространно описывал свою новую яхту, вдаваясь в мельчайшие до неприличия детали, как будто это могло заставить меня согласиться. Закончив, он ухмыльнулся и сунул мне руку, ожидая, что я ее пожму.
— Так что скажешь, Джей-дог?
Полагаю, он был уверен, что я не смогу отказаться от такого заманчивого предложения. А я скорее согласился бы провести лето в сибирском исправительно-трудовом лагере, чем в обществе дяди и его избалованных детишек. Что касается работы в штаб-квартире «Смарт-Эйд», я знал, что избежать этого мне, скорее всего, не удастся. Но я рассчитывал, что до того, как меня запрут в корпоративную клетку, в моем распоряжении будет еще не одно свободное лето и четыре года колледжа. Я замялся, пытаясь придумать благовидный предлог для отступления.
— Я не уверен, что мой психиатр одобрит эту идею. Во всяком случае сейчас, — в итоге брякнул я.
Дядя Бобби озадаченно сдвинул кустистые брови и неопределенно кивнул.
— Ну что ж, конечно, дружище. Тогда будем действовать по обстановке. Договорились?
И он отошел от меня, не дожидаясь ответа, сделав вид, что увидел кого-то, в чей локоть ему срочно необходимо было вцепиться.
Вскоре мать объявила, что пора разворачивать подарки. Она всегда настаивала, чтобы я делал это при всех. В итоге процесс каждый раз превращался в большую проблему, потому что, как я уже упоминал ранее, врать я не умею. Это также означает, что я не умею изображать благодарность за передаренные диски с рождественской музыкой или подписку на «Охоту и рыбалку», которую регулярно вручал мне дядя Лес, ошибочно считавший меня любителем упомянутых занятий. Но я честно принялся распаковывать свертки, усиленно улыбаясь гостям и предоставляя им возможность полюбоваться очередным подарком. И вот от горы пакетов и коробок на столе почти ничего не осталось.
Я потянулся к самому маленькому из трех оставшихся свертков. Внутри оказались ключи от родительского четырехлетнего седана представительского класса. Мама объяснила, что они решили купить новую машину, а значит, старая переходит ко мне. Мой первый автомобиль! Все принялись ахать и охать, но я почувствовал, что заливаюсь краской. Мне казалось, что я хвастаюсь, принимая такой роскошный подарок в присутствии Рики. Родители как будто пытались заставить меня придавать значение деньгам, хотя на самом деле мне было на них наплевать. С другой стороны, легко говорить, что тебе наплевать на деньги, когда у тебя их много.
Следующим подарком оказался цифровой фотоаппарат, который я выпрашивал у родителей все прошлое лето.
— Вау! — произнес я, взвешивая подарок на ладони. — Обалдеть можно!
— Я замышляю новую книгу о птицах, — сообщил папа. — И подумал, может, ты сделаешь для нее фотографии?
— Новая книга! — воскликнула мама. — Феноменальная идея, Фрэнк. Кстати, о книгах. Что случилось с последней из них, над которой ты работал?
Мне стало ясно, что она перебрала вина.
— Я дорабатываю кое-какие детали, — тихо ответил отец.
— Ах, ну да, — фыркнул дядя Бобби.
— Итак! — громко заявил я, протягивая руку к последнему подарку. — Это от тети Сьюзи.
— Вообще-то, — произнесла тетя, когда я начал разворачивать сверток, — это от твоего дедушки.
Я замер. В комнате воцарилась гробовая тишина. Все смотрели на тетю Сьюзи с таким выражением, будто она попыталась вызвать какого-то злого духа. Папа выпятил вперед нижнюю челюсть, а мама опрокинула в горло остатки вина из бокала.
— Разверни, и ты все поймешь, — добавила тетя.
Я сорвал остатки обертки и увидел старую книгу, безбожно зачитанную и давным-давно утратившую суперобложку. Это были «Избранные сочинения» Ральфа Уолдо Эмерсона. Я смотрел на книгу, словно пытаясь проникнуть взглядом сквозь обложку, и не понимал, как она очутилась в моих дрожащих руках. Никто, кроме Голана, не знал о дедушкиных последних словах, а доктор несколько раз обещал мне, что все, о чем мы беседуем в его кабинете, останется между нами, если только я не соберусь выпить бутылку «Драно»[6] или исполнить сальто с моста Саншайн Скайвэй.
Я перевел взгляд на тетю, ожидая ответа на вопрос, который не в силах был задать вслух. Она слабо улыбнулась и пояснила:
— Я нашла это в столе твоего дедушки, когда мы приводили в порядок его дом. Он написал на первой странице твое имя. Я подумала, это означает, что книга предназначается тебе.
Благослови Господь тетю Сьюзи. Все-таки у нее есть сердце.
— Ничего себе! Я не знала, что твой дедушка увлекался чтением, — защебетала мама, пытаясь разрядить возникшее в комнате напряжение. — Какая ты умница, Сьюзан.
— Да, — сквозь стиснутые зубы подтвердил папа, — спасибо, Сьюзан.
Я открыл книгу. На титульной странице и в самом деле была надпись, сделанная дрожащей рукой моего деда.
Я встал, чтобы выйти, опасаясь, что сейчас расплачусь у всех на виду. Из книги что-то выскользнуло и упало на пол.
Я нагнулся, чтобы подобрать этот предмет. То было письмо.
Эмерсон. Письмо.
Кровь отхлынула от моего лица. Мама наклонилась ко мне и драматическим шепотом поинтересовалась, не подать ли мне стакан воды. На мамином языке это означало: Соберись. На тебя все смотрят.
— Мне немного не по себе… — пробормотал я и, прижав руку к животу, бросился бежать в свою комнату.
Письмо было написано от руки на гладкой нелинованной бумаге. Почерк был причудливым, изобилующим завитушками, почти каллиграфическим. Оттенок чернил то и дело менялся, как если бы писали старинной чернильной ручкой. Я начал читать.
В конверте лежала обещанная автором письма старая фотография. Я поднес ее к лампе, пытаясь рассмотреть хоть какие-то детали в черном силуэте женского лица, но ничего не увидел. Это был очень странный снимок, хотя он ничем не напоминал фотографии, которые показывал мне дедушка. Здесь не было подделки. Это была просто женщина. Женщина, курящая изогнутую трубку, очень напоминающую любимый аксессуар Шерлока Холмса. Я не мог отвести глаза от ее фотографии.
Возможно, это именно то, о чем говорил дедушка? — спрашивал я себя. И отвечал: — Да. Иначе и быть не может. Речь шла не о письмах самого Эмерсона, но о письме, вложенном между страниц этой книги. Но кто эта директриса? Эта женщина со странной фамилией Сапсан? Я осмотрел конверт в поисках обратного адреса, но нашел только выцветшую марку, на которой значилось Cairnholm Is., Cymru, UK.
UK означало Британию. Из атласов, которые я изучал в детстве, я знал, что Cymru — это Уэльс. Cairnholm Is. Должно быть, это остров, который упоминает в своем письме госпожа Сапсан. Неужели это тот самый остров, где в детстве жил мой дедушка?
Девять месяцев назад он велел мне «разыскать птицу». Девять лет назад он клялся, что детский дом, где он жил, оберегала «птица, которая курит трубку». В семилетнем возрасте я воспринял это заявление буквально, но директриса на снимке курила трубку, и ее фамилия была Сапсан. Сапсан — это одна из разновидностей сокола. Что, если птица, которую я должен был найти по дедушкиной просьбе, на самом деле является спасшей его женщиной — заведующей детским домом? Возможно, она все еще живет на этом острове. Разумеется, теперь она стара как мир, но ее, должно быть, содержат ее бывшие воспитанники, которые давно выросли, но остались при ней.
Впервые последние слова дедушки начали обретать некий смысл. Он хотел, чтобы я поехал на остров и нашел эту женщину. Если кто и был посвящен в тайну его детства, так это она. Но марка была приклеена на конверт пятнадцать лет назад. Может ли быть, что госпожа Сапсан до сих пор жива? Я произвел в уме быстрые подсчеты. Предположим, что в 1939 году, когда она уже заведовала детским домом, ей было лет двадцать пять. В этом случае сейчас ей далеко за девяносто. В принципе, это было вполне возможно. В Инглвуде были люди и постарше. Они не только жили совершенно самостоятельно, но и водили автомобиль. Впрочем, даже если мисс Сапсан и отошла в мир иной за те пятнадцать лет, что истекли с момента написания письма, на Кэрнхолме все еще могли оставаться люди, способные мне помочь. Люди, которые знали дедушку Портмана в детстве. Люди, которые знали его тайны.
Она написала мы. Те немногие, кто здесь еще остался.
Как вы, наверное, догадываетесь, уговорить моих родителей позволить мне провести часть каникул на крохотном островке у побережья Уэльса было нелегко. Они, и особенно мама, привели множество убедительных фактов, указывающих на бредовость этой затеи: стоимость поездки, тот факт, что я должен был провести лето с дядей Бобби, обучаясь премудростям управления фармацевтической империей, а также то, что сопровождать меня было некому, поскольку ни одного из моих родителей поездка не интересовала, а поехать сам я, конечно, не мог. У меня же не было ни одного веского довода для возражений. Я не мог обосновать свое желание предпринять столь дальнее путешествие, заявив: «Мне кажется, я должен это сделать», поскольку не хотел выглядеть в их глазах еще более сумасшедшим, чем они уже меня считали. Я не собирался передавать родителям ни последние слова дедушки Портмана, ни письмо, ни фотографию. Тем самым я лишь окончательно подписал бы себе приговор. Единственными разумными аргументами в пользу поездки были заявления вроде «Я хочу поглубже изучить семейную историю» и «Чад Крамер и Джош Белл этим летом едут в Европу. Почему мне нельзя?» Но, увы, это звучало совершенно неубедительно. Я произносил эти фразы как можно чаще, при этом стараясь все же не злоупотреблять ими, чтобы не вызвать подозрений. А однажды даже прибег к чему-то вроде шантажа. «Если бы у вас не было денег, я бы не настаивал, а так…» Впрочем, я немедленно пожалел об этой тактике. Как бы то ни было, все это не работало.
А потом произошло несколько событий, которые резко повысили мои шансы на успех. Во-первых, дядя Бобби вдруг охладел к идее моей летней стажировки с проживанием у него дома. Ну кто же захочет жить под одной крышей с психом? Поэтому у меня внезапно появилось много свободного времени. Потом папа узнал, что остров Кэрнхолм является сверхважным ареалом обитания множества видов птиц, в том числе половины мировой популяции какой-то там птицы, приведшей его в орнитологический экстаз. Папа начал без конца говорить о своей гипотетической новой книге. Всякий раз, когда он затрагивал эту тему, я делал вид, что мне ужасно интересно, и лез из кожи вон, чтобы его подбодрить. Но самым весомым фактором стало поведение доктора Голана. Мне и уговаривать его почти не пришлось. Он удивил нас всех не только тем, что немедленно поддержал мою идею, но и тем, что повлиял на моих родителей, убедив их отпустить меня в Уэльс.
— Это может быть для него важно, — сказал он моей матери после одного из сеансов. — Речь идет о месте, которое его дед окружил всевозможными мифами. Посещение острова будет способствовать развенчиванию этих мифов. Он увидит, что это вовсе не волшебный, а совершенно обычный остров, каких много. В итоге все остальные фантазии тоже утратят силу. Чтобы победить мистификации, необходимо противопоставить им реальность.
— Но я думала, что он уже не верит во все эти сказки, — растерялась мама. — Ты ведь не веришь в них, Джейк?
— Конечно, не верю, — заверил ее я.
— Он не верит в них на сознательном уровне, — покачал головой доктор Голан. — Но в настоящий момент мы имеем проблему с его подсознанием. Именно там коренятся его сны и страхи.
— И вы в самом деле считаете, что поездка на этот остров может ему помочь? — спросила мама, прищурив глаза, как будто готовясь услышать ничем не прикрытую правду и принять окончательное решение, отпускать меня или нет.
Слово доктора Голана было законом.
— Да, я так считаю, — кивнул он.
Этого оказалось достаточно.
Дальше все сложилось с ошеломляющей скоростью. Были куплены билеты на самолет и четко выстроены планы. Нам с папой предстояло отправиться туда в июне и провести там целых три недели. Мне казалось, что это слишком долго, но отец заявил, что это время необходимо ему для того, чтобы тщательно изучить птичьи колонии острова. Я думал, мама будет возражать — целых три недели! Но по мере приближения даты отъезда она приходила в состояние все более возбужденное. Было видно, что она очень за нас рада.
— Мои мужчины, — сияя, говорила мама, — отправляются навстречу неизведанному.
Ее энтузиазм казался мне очень трогательным, пока я случайно не подслушал мамин разговор по телефону с кем-то из подруг. Не скрывая своего облегчения, она делилась большой радостью.
— Представляешь, — говорила она, — я целых три недели буду жить своей собственной жизнью! С моих плеч свалится забота о двух малолетних и совершенно беспомощных детях!
Я тоже тебя люблю, — хотелось заявить мне, вложив в эти слова как можно больше ядовитого сарказма. Но она меня не заметила, и я промолчал. Я ее, конечно же, любил, но в основном потому, что любовь к матери считается обязательной, а не потому, что она мне очень понравилась бы, встреть я ее на улице. Впрочем, встретить ее на улице я и не смог бы. Только бедняки ходят по улицам пешком.
Окончание занятий в школе и начало путешествия разделяли три недели. Я попытался использовать это время, чтобы убедиться в том, что госпожа Алма Ле Фэй Сапсан все еще пребывает среди живых. Поиски в Интернете оказались бесплодными. Я решил допустить, что она еще жива, и раздобыть ее номер телефона. Это позволило бы мне хотя бы предупредить ее о своем прибытии. Однако я очень быстро выяснил, что у жителей Кэрнхолма вообще нет телефонов. На всем острове существовал только один номер. Его я и набрал.
Соединение заняло почти минуту. На линии шипело, щелкало, стихало и снова шипело, что позволило мне прочувствовать то огромное расстояние, которое отделяло меня от моего неизвестного абонента. Наконец я услышал характерные европейские гудки — ваап-ваап… ваап-ваап… после чего в трубке раздался голос человека, который, судя по всему, находился в состоянии глубокого опьянения.
— Гнойник мошенников! — заорал он.
Из трубки доносился невообразимый шум — глухой рев, какой бывает только в разгар буйной вечеринки. Я попытался представиться, но он меня, кажется, не услышал.
— Гнойник мошенников! — снова заорал он. — Кто это? — Прежде чем я успел что-либо ответить, он завопил куда-то в сторону: — Я сказал, заткнитесь, вы, пьяные ублюдки, я говорю по…
На этом связь оборвалась. Я долго сидел, растерянно прижимая трубку к уху, а потом положил ее на рычаг. Перезванивать я не стал. Если единственный телефон Кэрнхолма был подключен к обители зла под названием «Гнойник мошенников», то чего еще можно было ожидать от этого острова? Неужели свое первое путешествие в Европу я потрачу на попытки избежать встречи с пьяными маньяками и наблюдение за птицами, гадящими на скалы каменистых пляжей? Возможно, — отвечал себе я. Но я был готов на все, лишь бы разгадать тайну, окутывающую жизнь и смерть моего дедушки. Ну а после можно продолжить свое неприметное существование.
Глава третья
Нас окружала непроницаемая стена тумана. Когда капитан объявил, что мы почти на месте, я подумал, что он шутит. С покачивающейся палубы парома я не видел ничего, кроме бесконечной серой завесы. Я стискивал поручень, вглядываясь в зеленоватые волны, и размышлял о том, что еще немного — и мой завтрак достанется рыбам. Рядом со мной в рубашке с короткими рукавами дрожал отец. Впервые в жизни я наблюдал такой холодный и сырой июнь. Я отчаянно надеялся на то, что тридцать шесть мучительных часов, которые ушли на то, чтобы забраться в такую даль, себя окупят. Наш перелет включал три лайнера, две пересадки и бесконечное ожидание вылета. Потом мы по очереди дремали на скамейках неопрятных вокзалов и в конце концов очутились на этом выворачивающем все внутренности пароме.
— Смотри! — вдруг закричал отец.
Подняв голову, я увидел, как из пелены тумана, угрожающе нависая над нами, возникла громадная скала.
Это и был остров моего дедушки. Зловещий и унылый, окутанный лохмотьями тумана, охраняемый миллионами галдящих птиц, он походил на античную крепость, сооруженную неведомыми гигантами. При виде обрывистых утесов, вершины которых исчезали в призрачных облаках, мысль о том, что этот остров волшебный, уже не казалась мне нелепой.
Тошнота тоже как будто отступила. Папа бегал по палубе, как ребенок вокруг рождественской елки, пожирая взглядом кружащих над нами птиц.
— Джейкоб, ты только посмотри на это! — кричал он, тыча пальцем в рой каких-то крапинок. — Да это же буревестник обыкновенный!
Паром приблизился к утесам, и под самой поверхностью воды стали различимы какие-то странные очертания. Кто-то из членов экипажа заметил, как я свесился через поручень, вглядываясь в волны, и остановился рядом.
— Впервые видишь обломки кораблекрушения?
— Вы серьезно? — обернулся я к нему.
— Это кладбище кораблей. В старину капитаны так и говорили: «Мыс Хартленд-Твикст и залив Кэрнхолм — могила моряков, разрази нас гром!»
В этот момент мы проплывали мимо корабля, который находился так близко к поверхности воды, что я явственно различил очертания его позеленевшего корпуса, и мне показалось, что он, подобно зомби, вот-вот всплывет из своей неглубокой могилы.
— Видишь это судно? — спросил моряк, указывая на воду. — Его затопила подводная лодка.
— В здешних водах были подводные лодки?
— Полно. Ирландское море кишело немецкими субмаринами. Если бы можно было поднять все затопленные ими корабли, мы получили бы целый военный флот.
Он театрально приподнял одну бровь и, расхохотавшись, зашагал прочь.
Я помчался вдоль борта на корму, неотрывно глядя на исчезающий в нашем кильватере затонувший корабль. Я успел подумать, что для того, чтобы попасть на остров, нам понадобится альпинистское снаряжение, но тут мы обогнули мыс и вошли в изогнутую полумесяцем гавань. Вдали виднелась небольшая бухта, пестревшая разноцветными рыбацкими лодками, а дальше, в зеленой чаше долины, разлегся городок. Лоскутное одеяло полей, усеянных движущимися точками овец, укрывало холмы, поднимающиеся к высокому горному кряжу, который, подобно ватному парапету, обрамляла стена облаков. Эта драматичная красота не походила ни на что из виденного мной ранее. Паром медленно приближался к берегу, а я ощущал, что мной завладевает дух первооткрывателя, как если бы я увидел землю там, где на картах значилась лишь безбрежная синева.
Паром пришвартовался, и мы потащились со своими сумками в городок. Присмотревшись повнимательнее, я решил, что вблизи он далеко не так привлекателен, как издали. Вдоль мощенных грязноватым гравием дорог выстроились ряды домиков, которые можно было бы назвать необычными и даже хорошенькими, если бы не спутниковые тарелки, неизменно венчающие их крыши. Из-за удаленности и экономической незначительности Кэрнхолма тянуть сюда линии электропередач не стали, в результате чего на каждом шагу подобно сердитым осам жужжали дурно пахнущие дизельные генераторы, шум которых сливался с рычанием тракторов. Последние, видимо, являлись единственным транспортным средством острова. На окраине города стояли древнего вида заброшенные дома без крыш, свидетельствуя о том, что население тает. Как и везде, дети отказывались продолжать вековые традиции предков, занимавшихся фермерством и рыбной ловлей; они покидали родные места в надежде на то, что в больших городах их ожидают большие возможности.
Мы тащились с вещами по городу в поисках чего-то под необычным названием «Родник Священников», где папа забронировал для нас комнату. Я представлял себе старую церковь, переоборудованную под гостиницу. Ничего особенного, просто место, где мы сможем спать и отдыхать в перерывах между наблюдением за птицами и расследованием дедушкиных тайн. Мы то и дело обращались за помощью к местным жителям, которые лишь растерянно смотрели на нас и спешили прочь.
— Они говорят по-английски или как? — вслух поинтересовался папа.
Моя рука уже начала болеть от нереального веса чемодана, но тут мы увидели церковь. И подумали было, что нашли свое пристанище, но, войдя внутрь, убедились, что церковь действительно переоборудовали, но не в гостиницу, а в маленький, неопрятного вида музей.
Мы нашли его хранителя в небольшой комнате, увешанной рыбацкими сетями и ножницами для стрижки овец. Увидев нас, он просиял, но тут же помрачнел, поняв, что мы всего лишь заблудились.
— Я так думаю, вам нужен «Тайник Священников», — вздохнул он. — Больше на нашем острове снимать комнаты негде.
Хранитель музея начал объяснять нам дорогу, а я вслушивался в его певучее произношение, показавшееся мне необыкновенно забавным. Речь валлийцев пришлась мне по душе, несмотря на то, что половина из того, что они говорили, оставалась для меня загадкой. Папа поблагодарил хранителя и повернулся, чтобы уйти. Но мне так понравился этот добродушный человек, что я решил задать ему еще один вопрос.
— Где находится старый детский дом?
— Старый что? — прищурившись, переспросил хранитель.
Мелькнула ужасная мысль, что мы прибыли не на тот остров или, хуже того, детский дом — это лишь очередная выдумка моего дедушки.
— Это был детский дом для детей-беженцев, — уточнил я. — Во время войны. Такое большое здание.
Мужчина пожевал нижнюю губу, с сомнением глядя на меня. Казалось, он решал, помочь мне или умыть руки и не связываться. В конце концов он сжалился надо мной и произнес:
— Не знаю я никаких беженцев, но думаю, что мне известно место, о котором вы говорите. Это далеко, на другой стороне острова, за болотом и лесом. Хотя на вашем месте я не ходил бы туда один. Шаг в сторону от тропинки, и больше о вас никто ничего не услышит. Помешать вам сорваться в пропасть могут только мокрая трава да овечьи шарики.
— Спасибо, что предупредили! — воскликнул папа, пристально глядя на меня. — Пообещай мне, что не пойдешь туда сам.
— Ну, хорошо, хорошо.
— А чем он вас заинтересовал? — спросил хранитель. — Я не слышал, чтобы он находился в путеводителе для туристов.
— Небольшое генеалогическое исследование, — быстро ответил папа, приостановившись возле двери. — Мой отец провел там несколько лет, когда был ребенком.
Я видел, что он любой ценой хочет избежать упоминания о психиатрах и мертвых дедушках. Он еще раз поблагодарил мужчину и вытолкал меня за дверь.
Следуя указаниям хранителя музея, мы двинулись обратно, туда, откуда пришли, пока не дотопали до мрачного вида статуи, высеченной из черного камня. Это был мемориал под названием Ждущая Женщина, посвященный ушедшим в море и не вернувшимся домой жителям острова. С горестным выражением лица она простирала руки к раскинувшейся вдали бухте, но прежде всего к расположенному через дорогу «Тайнику Священников». Я не знаток по части гостиниц. Но одного взгляда на выцветшую вывеску мне хватило, чтобы понять — это не четырехзвездочный отель. В верхней части вывески гигантские буквы гласили: ВИНО, ПИВО, ВИСКИ. Ниже виднелась надпись поскромнее: Вкусная еда. В самом низу от руки, выражая чью-то запоздалую мысль, было приписано: Комнаты для ночлега. Хотя буква «ы» вытерлась и стала напоминать «а». В итоге слово «Комнаты» обрело единственное число — «Комната». Пока мы тащили сумки к двери, отец беспрестанно клял мошенников и лживую рекламу. Я оглянулся на Ждущую Женщину, и мне показалось, что она ждет, когда кто-нибудь угостит ее кружкой эля. Протиснувшись вместе со своим багажом в узкий дверной проем, мы замерли, моргая в неожиданной полутьме паба. Когда мои глаза привыкли к мраку, я понял, что название «тайник» очень удачно описывает это помещение. Крошечные окошки в свинцовых рамах едва пропускали свет. Впрочем, освещения хватало, чтобы найти кран с пивом, не натыкаясь по дороге на столы и не переворачивая стулья. Столы были такими старыми и расшатанными, что казалось разумнее использовать их в качестве дров для камина. Несмотря на то что все еще было утро, заведение наполовину заполняли мужчины на разных стадиях опьянения. Они сидели за столами, молитвенно склонив головы и удрученно уставившись на бокалы с жидкостью янтарного цвета.
— Вы, должно быть, насчет комнаты, — произнес человек за барной стойкой, подходя к двери, чтобы пожать нам руки. — Я Кев, а это ребята. Ребята, поздоровайтесь.
— Привет, — произнесли ребята, кивая своим бокалам.
По узкой лестнице мы поднялись вслед за Кевом в наши комнаты (во множественном числе!), обстановку которых можно было бы с натяжкой описать как базовую. Тут имелись две спальни (на более просторную тут же предъявил права отец) и комната, исполняющая тройную функцию — кухни, столовой и гостиной. Меблировка последней исчерпывалась столом, побитым молью диваном и газовой плиткой. Ванная комната, как заявил Кев, «по большей части работает. Но если она начнет выделываться, можно воспользоваться старым проверенным заведением». Он привлек наше внимание к расположенному позади здания биотуалету, прямо на который выходило окно моей комнаты.
— Ах да, вам понадобится еще вот это. — Он извлек из шкафа две керосиновые лампы. — В десять часов генераторы вырубаются, потому что завозить сюда бензин чертовски дорого. Поэтому вы либо ложитесь спать пораньше, либо привыкаете к свечам и керосину. — Он ухмыльнулся. — Добро пожаловать в Средневековье!
Мы заверили Кева, что туалет во дворе и керосин нас вполне устраивают. Более того, нам не терпится все это испытать. Да это же настоящее приключение, сэр! После этого он повел нас вниз, чтобы покончить с осмотром нашего нового обиталища.
— Подкрепляться можете здесь, — пояснил он, обводя рукой зал. — Думаю, что так вы и поступите, поскольку делать это больше просто негде. Если захотите позвонить, у нас есть телефон. Вон там, в углу. Правда, иногда к нему выстраивается очередь. Дело в том, что мобильный прием у нас «гуляет», а перед вами единственный стационарный телефон на весь остров. Да, да, это все у нас — еда, ночлег и телефон. Единственное место на острове, где все это есть!