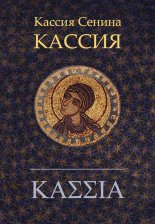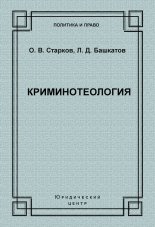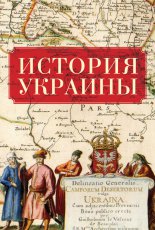Экономика и культура Тросби Дэвид

ECONOMICS AND CULTURE
DAVID THROSBY
ISBN 0-521-58639-9 (англ.)
Перевод с английского ИННЫ КУШНАРЕВОЙ
Издательский дом Высшей школы экономики МОСКВА, 2013
Составитель серии ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ
Дизайн серии ВАЛЕРИЙ КОРШУНОВ
Научный редактор АРТЕМ СМИРНОВ
© Published by the Press Syndicate of the University of Cambridge, 2001
© David Throsby, 2001
© Перевод на рус. яз., оформление. Издательский дом Высшей школы экономики, 2013
Предисловие
Около десяти лет назад я читал лекцию под названием «Искусство и экономика» на симпозиуме по культурной политике, проводившемся в Канберре. Представляя тему аудитории, состоявшей из неспециалистов, я вообразил, как могли бы выглядеть оба объекта моей лекции, если бы приняли человеческий облик. Будучи экономистом, я имел право слегка поиздеваться над собственной профессией, поэтому предположил, что если бы экономика превратилась в человека, это наверняка был бы мужчина, полноватый, склонный к ипохондрии, воинственный и, скорее всего, пренебрегающий личной гигиеной – короче говоря, не тот человек, рядом с которым вам бы захотелось сидеть во время долгого авиаперелета. По той же логике, продолжил я, искусство оказалось бы женщиной, блестящей, непредсказуемой и немного загадочной. Метафора, кажется, пришлась слушателям по душе; возможно, всем нравится подшучивать над экономистами, или же идея искусства как тайны, загадки, которую не так легко раскрыть, более притягательна, чем мы могли подумать. Затем я перешел в своей лекции к следующему вопросу: представьте, что два этих человека случайно встретились на вечеринке, проявят ли они друг к другу хоть какой-то интерес, а если да, то поладят ли они? Если поладят, спросил я, то какого рода отношения сложатся между ними?
В некотором смысле эта фривольная аллегория положила начало этой книге. Очевидно, что экономика и искусство – или, в более широком контексте, экономика и культура – существуют как отдельные сферы человеческих интересов и в качестве учебных дисциплин, и в более прозаическом контексте повседневной жизни человека. Заботы и об экономике, и о культуре в какой-то момент имеют важное значение для большинства, если не для всех из нас – лишь немногих затрагивает только одна из проблем, если такое вообще бывает. Следовательно, попытка рассматривать их вместе может показаться интересным проектом. К тому же подобное предприятие – не новость. Исследователи культуры многие поколения обращались к экономическим вопросам того или иного рода в своих попытках понять роль культуры и культурных практик в обществе. Говоря более конкретно, ряд экономистов пытались, эксплицитно или имплицитно, понять то, что можно назвать «культурным контекстом» экономической деятельности еще с тех пор, как Адам Смит заложил основы современной экономической науки в конце XVIII в.
Но в конце XX в., по мере дальнейшего усовершенствования и специализации инструментов неоклассической экономики и углубления понимания культуры как ряда дискурсов от социологии до лингвистики, между двумя этими областями стала расти пропасть. Когда в середине 1970-х я начал работать над экономикой искусства, некоторые коллеги рассматривали «экономику культуры» как не более чем дилетантский интерес, обреченный на то, чтобы всегда оставаться за рамками серьезного экономического анализа. Их, похоже, не убедил даже тот факт, что на раннем этапе ряд уважаемых экономистов красноречиво писали о различных вопросах, объединяющих экономику, искусство и культуру. Среди них Джон Мейнард Кейнс, Лайонелл Роббинс, Алан Пикок и Марк Блауг по одну сторону Атлантики, Джон Кеннет Гэлбрейт, Уильям Баумоль, Тибор Скитовски, Кеннет Боулдинг и Торстейн Веблен – по другую.
Впоследствии экономика искусства и культуры выросла в признанную и уважаемую специальную область внутри экономики и сейчас привлекает все больше практикующих специалистов, чем 20 или даже 10 лет назад. Но даже в этом случае нельзя сказать, что мысли о культуре зажигают воображение современных экономистов в более широком смысле или что экономика искусства и культуры рассматривается как особо важный элемент в общей картине современной политической экономии. Даже легитимность экономики культуры как раздела экономики признается профессионалами как-то неохотно; в тематическом указателе «Journal of Economic Literature» экономика культуры оказывается в категории Z1, в максимальной удаленности от остальной экономики, какую только может дать указатель, составленный по алфавитному принципу. И к тому же объем исследований и научных работ, для которых все-таки нашлось место в JEL, все еще относительно мал.
Хотя признание культуры внутри экономики очень медленно завоевывает место, есть свидетельства того, что в мире в целом развивается широкий интерес к отношениям между экономическими и культурными феноменами. Как я утверждаю в последней главе этой книги, появление на мировом рынке мощных сил создает почву для более острого столкновения между экономическими и культурными проблемами современного общества. Две недавние встречи, как представляется, подтверждают факт роста политического и институционального интереса к отношениям между экономикой и культурой в настоящее время. Одна прошла в Стокгольме в апреле 1998 г., когда представители приблизительно 150 правительств всего мира согласились, что культуру следует вывести с периферии формирования экономической политики и больше учитывать ее в этом процессе. Другая встреча прошла во Флоренции в октябре 1999 г., когда Всемирный банк, один из ведущих финансовых институтов на международной арене, заявил, что культура является важнейшим компонентом экономического развития и что с этого момента она будет все больше определять и влиять на экономическую деятельность Банка.
По всем этим причинам я надеюсь, что книга, пытающаяся соединить этих столь маловероятных партнеров, экономику и культуру, окажется своевременной. Моя задача имеет два разных, хотя и взаимосвязанных, аспекта. С одной стороны, я хочу рассмотреть отношения между экономикой и культурой как отдельные области интеллектуальной деятельности – в частности, подумать о том, каким образом экономика как социальная наука обращается или пытается обращаться с культурой, приняв более широкий взгляд на «культуру», чем тот, который до сих пор характеризовал труды в области экономики культуры. С другой стороны, что еще важнее, я также хочу рассмотреть связь между экономической и культурной деятельностью, т. е. между экономикой и культурой как признанными проявлениями человеческой мысли и действия, наблюдаемыми в макро– и микроконтексте. Эта книга написана как работа по экономике, но я постарался сделать ее доступной для более широкого круга читателей. В частности, я надеюсь, что не только экономисты, но и специалисты по целому ряду культурных дисциплин, а также любой, кто занят в культурном производстве или занимается разработкой культурной политики, заинтересуется подходом одного экономиста к вопросам культуры.
Я хочу поблагодарить ряд организаций и отдельных людей. Во-первых, академические ученые часто принимают как должное те возможности, которые создают для них учебные заведения, являющиеся важнейшим компонентом инфраструктуры научной жизни. Большая часть этой книги была написана в Библиотеке Фишера Сиднейского университета, чьи великолепные фонды и идеальная атмосфера для исследований внесли огромный вклад в мою работу. Кроме того, я хочу поблагодарить за помощь и находчивость штат библиотеки моего собственного университета, Университета Макуэри в Сиднее. Также короткие периоды времени я работал над рукописью в библиотеках Лондонской школы экономики и политических наук и в Институте экономики и статистики в Университете Оксфорда. Как человек, находящий утешение в библиотеках, почти как тот, кто ищет прибежища в храмах и монастырях, я могу только надеяться на то, что этот рай для научного труда выживет и во времена новой технологической утопии как место для реальных (в отличие от виртуальных) книг и для людей, которые их читают и пишут.
В 1999 г. я получил возможность месячного пребывания в Центре исследований и конференций Фонда Рокфеллера на вилле Сербеллони в Белладжо, Италия. Мой проект там был посвящен экономике креативности, и его итогом явилась шестая глава этой книги. Еще важнее, что во время пребывания на вилле Сербеллони я смог свести воедино, заново обдумать и переписать практически всю рукопись этой книги, над которой я работал урывками в течение нескольких лет. Великолепные условия работы в Белладжо и интеллектуальные стимулы, получаемые от небольшой группы находившихся там ученых, внесли большой вклад в успешное завершение моего проекта. Я выражаю благодарность Фонду Рокфеллера и Джанне Челли и ее сотрудникам на вилле Сербеллони, подарившим мне этот период интенсивной работы и удовольствия.
Наконец, ряд людей внесли свой вклад в обсуждение предмета этой книги на этапе ее подготовки и/или выдвинули замечания и критику. Я выражаю благодарность Марку Блаугу, Тони Брайэнту, Бруно Фрею, Майклу Хаттеру, Арьо Кламеру, Крейгу Макмиллану, Грэхэму Мэддену, Рэндоллу Мейсону, Терри Смиту, Майклу Тума и Рут Тоузи. Я также приношу свою благодарность Джудит Риордан, которая в течение всей подготовки рукописи демонстрировала целеустремленность и неизменное чувство юмора.
Дэвид Тросби
Сидней, апрель 2000
Благодарности
Некоторые части этой книги охватывают темы, о которых я уже писал в предыдущих работах. В нескольких разделах я использовал материал из этих более ранних работ и благодарен следующим издателям, давшим мне разрешение на то, чтобы в отредактированной форме использовать некоторые короткие отрывки из указанных работ: Американскую экономическую ассоциацию за отрывки из статьи «Производство и потребление искусства: взгляд на экономику культуру» (The Production and Consumption of the Arts: A View of Cultural Economics // Journal of Economic Literature. 1994. No. 32. P. 1–29); Австралийский главный центр культурной и медийной политики за отрывки из работы «Отношения между экономической и культурной политикой» (The Relationship between Economic and Cultural Policy // Culture and Policy. 1987. No. 8. P 25–36); Институт Гетти по сохранению культурного наследия за отрывки из статьи «Экономическая и культурная стоимость в труде творческих работников» (Economic and Cultural Value in the Work of Creative Artists // Values and Heritage Conservation / E. Avrami et al. (eds). 2000. P 26–31) и из неопубликованной работы «Культурный капитал и концепция устойчивости в экономике культурного наследия» (Cultural Capital and Sustainability Concepts in the Economics of Cultural Heritage, 1999); Harwood Academic Publishers GmbH за отрывки из статьи «Устойчивость и культура: некоторые теоретические вопросы» (Sustainability and Culture; Some Theoretical Issues // International Journal of Cultural Policy. 1997. No. 4. P 7-20); Kluwer Academic Publishers за отрывки из статьи «Культура, экономика и устойчивость» (Culture, Economics and Sustainability // Journal of Cultural Economics. 1995. No. 19. P 199–206) и из работы «Культурный капитал» (Cultural Capital // Journal of Cultural Economics. 1999. No. 23. P 3-12); Macmillan Press Limited и St Martin's Press за отрывки из работы «Семь вопросов по экономике культурного наследия» (Seven Questions in the Economics of Cultural Heritage // Economic Perspective on Cultural Heritage / M. Hutter, I. Rizzo (eds). 1997. P. 13–30); и ЮНЕСКО за отрывки из «Роль музыки в международной торговле и развитии» (The Role of Music in International Trade and Development // World Culture Report. 1998. No. 1. P. 193–209).
I. Введение
Дж. Байрон, «Дон Жуан», Песнь IV[1]
- Поэму начинать бывает трудно,
- Да и кончать задача нелегка.
Вопросы определений
Фермер Николас Сноуи из «Лорны Дун», повинуясь озарению, которыми в викторианских романах награждают простых сельских жителей, сказал: «Сначала установим предварительные условия, потом поймем, куда идти»[2]. В таком предприятии, как наше, установление предварительных условий неизбежно включает вопросы определений, а значит, два главных интересующих нас предмета – экономику и культуру.
Кажется, что с первым из них можно разобраться быстро. Действительно, похоже, что среди современных экономистов существует так мало разногласий по поводу объема и содержания их дисциплины, что вводные главы большинства современных учебников по экономике фактически идентичны. В описании «экономической проблемы» всегда подчеркивается дефицит, так что решение, с которым сталкиваются действующие лица в экономической драме, касается того, как распределить ограниченные средства между конкурирующими друг с другом целями. У индивидуальных потребителей есть потребности, которые нужно удовлетворять, производственные предприятия имеют технологии, обеспечивающие товары и услуги для удовлетворения этих нужд, а процессы обмена связывают одну сторону рынка с другой. Большая часть экономики, которая сегодня преподается студентам в университетах и колледжах во всем западном мире, занята вопросами эффективности этих процессов производства, потребления и обмена и гораздо меньше озабочена вопросами равенства или справедливости в работе экономических систем. В результате проблемы справедливого перераспределения играют второстепенную роль в мышлении множества молодых профессиональных экономистов, если вообще их беспокоят.
Во вводных учебниках также повсеместно приводится стандартное разграничение между изучением микроповедения индивидуальных единиц в экономике – потребителей и фирм – и макроповедения самой экономики. Тем самым эти тексты заложили фундамент для овеществления экономики, процесса, который накладывает глубокий отпечаток на популярное восприятие экономики и на построение общественной политики в настоящий момент. Растущее доминирование макроэкономики как основания национальной и международной общественной экономической политики в последние десятилетия привело к тому, что экономика стала восприниматься как наделенная своей собственной идентичностью и трансцендирующая образующие ее элементы. Ирония заключается в том, что такой взгляд может показаться параллелью к концепции обладающего самостоятельным существованием государства, которой стремилась избегать модель либертарианского индивидуализма, занимающего центральное место в современной экономике. В некоторых случаях овеществление экономики (в средствах массовой информации и не только) достигает почти что олицетворения: мы говорим об экономике «сильной» и «слабой», «динамичной» и «медлительной», о «больной» экономике, нуждающейся в лечении и особых лекарствах, которые вернули бы ей здоровье.
Если мы считаем, что эти тексты дают определение области применения и методам современной экономики, мы должны обязательно учитывать, что они главным образом отражают современную неоклассическую парадигму, которая господствует в экономике большую часть века и за последние три десятка лет была доведена до высокого уровня теоретического и аналитического совершенства. Эта парадигма обеспечила всеобъемлющий и связный аппарат для представления и анализа поведения индивидов, фирм и рынков, а также дала целый ряд поддающихся проверке гипотез, ставших предметом тщательного эмпирического изучения. Более того, диапазон явлений, которые она охватывала, постоянно расширялся; модель утилитарного рационального принятия решений, действующая на конкурентных рынках, за последние годы находила применение во все более расширяющемся массиве областей поведения человека, включая брак, преступления, религию, семейную динамику, развод, филантропию, политику и юриспруденцию, а также производство и потребление искусства.
Однако, несмотря на свой интеллектуальный империализм, неоклассическая экономика, на самом деле очень ограниченная в своих допущениях, стеснена своей собственной механикой и обладает ограниченной способностью к объяснению. Она подвергалась активной критике как изнутри, так и извне. Более того, ее господство можно будет оспорить, если избрать более широкий взгляд на дискурс экономики. Как и другие важные области приложения человеческих усилий, экономика состоит не из одной какой-то парадигмы, а из нескольких школ мысли, предлагающих альтернативные или спорные способы анализа функционирования экономики или действий индивидуальных экономических агентов. В данном случае вполне вероятно, что мы найдем такие альтернативные подходы полезными для осмысления культурных феноменов.
Но если с определением экономики в данный момент можно разобраться относительно легко, определение культуры – совершенно другая история. Рэймонд Уильямс описывает культуру как «одно из двух или трех самых сложных слов английского языка»[3]. Роберт Борофски указывает, что попытки определить культуру «сродни попыткам загнать ветер в клетку»[4]; эта живописная метафора передает протеистическую природу культуры и подчеркивает, как трудно быть точным в отношении того, что обозначает данный термин. Причины найти нетрудно. «Культура» – слово, повсеместно используемое в самых разных смыслах, но без ощутимого или общепринятого основного значения. На уровне науки она тем или иным образом соотносится с концепциями и идеями, встречающимися во всех гуманитарных и социальных науках, но часто используется без четкого определения и по-разному внутри одной дисциплины и в разных дисциплинах[5].
Как всегда, этимологический анализ может пролить некоторый свет на эволюцию значения. Изначальное значение слова «культура», конечно, отсылает к обработке почвы. В XVI в. это буквальное значение переносится на культивирование ума и интеллекта. Подобное метафорическое значение до сих пор активно нам служит: мы называем того, кто подкован в искусстве и литературе, «культурным» человеком, а словом «культура» часто по умолчанию обозначается то, что, строго говоря, следовало бы называть продуктами и практиками «высокого» искусства. Но с начала XIX в. термин «культура» использовался в более широком смысле для описания интеллектуального и духовного развития как цивилизации в целом, так и конкретных обществ, таких как национальные государства. Со временем эта гуманистическая интерпретация культуры была заменена более широкой концепцией, согласно которой культура охватывала не только интеллектуальную деятельность, но весь образ жизни народа или общества.
Все эти значения в той или иной форме сохранились до наших дней. Как тогда нам найти новое, аналитически и функционально полезное определение культуры? Некоторые значения настолько узкие, что могут исключить ряд феноменов, представляющих для нас закономерный интерес; другие, такие как всеохватное общественное определение, когда, в сущности, все является культурой, становятся аналитически пустыми и функционально бессмысленными. Несмотря на эти трудности, весь ряд определений можно свести к двум, и именно в таком двояком смысле термин «культура» употребляется в этой книге.
Первое значение, в котором мы будем использовать слово «культура», задается широкой антропологической и социологической рамкой, позволяющей описывать ряд позиций, убеждений, нравов, обычаев, ценностей и практик, свойственных любой группе. Группа может определяться с точки зрения политики, географии, религии, этнической принадлежности или некоторых других характеристик, что дает возможность отнести ее, например, к мексиканской культуре, культуре басков, еврейской культуре, азиатской культуре, феминистской культуре, корпоративной культуре, молодежной культуре и т. д. Характеристика, определяющая группу, может субстантивироваться в форме знаков, символов, текстов, языка, артефактов, устной и письменной традиции и т. д. Одна из критических функций этих проявлений групповой культуры – создавать (или по крайней мере участвовать в создании) отличительную идентичность группы, которая позволила бы членам этой группы проводить различие между собой и членами других групп. Такая интерпретация культуры особенно полезна для изучения роли культурных факторов в экономических показателях и отношений между культурой и экономическим развитием.
Второе определение «культуры» имеет более функциональную ориентацию, обозначая некоторые виды деятельности, которые выполняются людьми, и продукты такой деятельности, имеющие отношение к интеллектуальным, моральным и художественным аспектам жизни человека. «Культура» в этом смысле относится к деятельности, опирающейся на просвещение и воспитание разума, а не на приобретение чисто технических или профессиональных навыков. В таком употреблении это слово чаще бывает прилагательным, чем существительным[6], например «культурные товары», «культурные институты», «культурные индустрии» или «культурный сектор экономики». Чтобы прояснить второе определение, давайте предположим, что коннотации слова «культура» в этом значении можно считать производными от некоторых более или менее объективно определяемых особенностей подобной деятельности. Предлагаются три таких особенности:
• подобная деятельность включает некоторую форму креативности в своем производстве;
• она касается порождения и передачи символического смысла;
• продукт этой деятельности воплощает, по крайней мере потенциально, некоторую форму интеллектуальной собственности.
Конечно, любой такой список предполагает дальнейший набор определений, такие слова, как «креативность», «символическое значение» или даже «интеллектуальная собственность», требуют более тщательной разработки, к которой мы со временем вернемся. Пока давайте примем стандартную интерпретацию этих терминов, позволяющую нам перейти к рабочему определению культуры, в этом функциональном смысле.
В общих чертах обладание всеми тремя характеристиками должно рассматриваться как достаточное условие для того, чтобы к конкретному виду деятельности было приложимо подобное определение культуры. Поэтому, например, традиционным образом определяемые виды искусства – музыка, литература, поэзия, танец, драма, визуальные искусства и т. д. – хорошо подходят под это определение. Кроме того, данное значение термина «культура» будет включать такие виды деятельности, как кинопроизводство, рассказывание историй, фестивали, журналистику, издательское дело, телевидение и радио и некоторые аспекты дизайна, поскольку в каждом из этих случаев требуемые условия более или менее удовлетворяются. Но такая деятельность, как, например, научные инновации, уже не подходит под это определение, поскольку, хотя инновации и предполагают креативность и могут привести к появлению продукта, на который можно поставить копирайт или запатентовать, обычно они направлены на рутинную утилитарную цель, а не на сообщение смысла[7]. Точно так же и дорожные знаки передают символическое значение в буквальном смысле слова, но по другим критериям не подходят под определение культурных продуктов. Достаточно двусмысленное положение занимает организованный спорт. Хотя спорт удовлетворяет всем трем критериям, некоторым людям все равно сложно воспринимать его в качестве культурной деятельности, особенно если считать, что он воплощает не креативность, а только техническое мастерство. Тем не менее не приходится сомневаться, что спорт является элементом культуры в первом указанном выше значении, т. е. в качестве ритуала или обычая, выражающего общие ценности, и как средство утверждения и консолидации групповой идентичности[8].
Хотя этих трех критериев, приведенных выше, вполне достаточно для того, чтобы дать функциональное определение культуры и культурной деятельности, они могут оказаться недостаточными, когда речь заходит об определении культурных благ и услуг как отдельного вида товаров в целях экономического анализа. Среди экономистов были некоторые споры о том, существует ли класс товаров под названием «культурные блага», который может неким фундаментальным образом отличаться от «обыкновенных экономических благ»[9]. Указанные выше критерии можно рассматривать как полезный первый шаг к выработке такого определения; они даже могут сами по себе служить достаточно точным определением для некоторых целей. Однако в других контекстах может понадобиться более строгое определение, требующее обращения к вопросам культурной ценности, к которым мы вернемся в гл. II.
Нужно заметить, что ни одно из этих двух определений культуры не может претендовать на универсальность. Некоторые явления, которые те или иные люди считают культурой, могут оказаться за их рамками. Более того, эти определения ни в коем случае не являются взаимоисключающими, но, наоборот, пересекаются во многих важных отношениях – функционирование художественных практик в определении групповой идентичности, например[10]. К тому же могут быть выдвинуты контрпримеры и указаны аномалии. Но как основа для дальнейшего движения эти определения могут хорошо послужить нашей цели.
Некоторые оговорки
Три аспекта этих определений нуждаются в дальнейшей разработке. Первый связан с тем фактом, что, хотя под культурой обычно подразумеваются положительные, благородные и улучшающие жизнь явления, есть одно омрачающее обстоятельство: культура в первом из приведенных выше значений нередко используется как инструмент агрессии и угнетения. Советская официозная культура, навязываемая таким художникам, как Шостакович, культурные основы нацизма, религиозные войны, этнические чистки, «культура коррупции» внутри полиции или организации, культура банд, царящая на улицах больших городов, и другие подобные феномены также можно рассматривать как пример общих ценностей и идентификации с группой и интерпретировать как проявления культуры в том смысле, о котором речь шла выше.
Один из подходов к темной стороне культуры – игнорировать ее, не делать оценочных суждений касательно того, хороша она или плоха, и просто анализировать культурные феномены так, как они предстают перед нами, буквально. Альтернативой будет признать возможность этического стандарта, который по всеобщему соглашению поставит вне закона некоторые характеристики, повсеместно считающиеся неприемлемыми. Подобный стандарт может включать такие понятия, как честность, демократия, права человека, свобода слова и свобода от насилия, войн и угнетения, в качестве базовых человеческих ценностей. Принятие такого стандарта может исключить все негативные примеры, перечисленные выше, из претендентов на звание культуры и помешать тому, чтобы некоторые варварские и жестокие практики находили себе оправдание на основании того, что они являются частью культурной традиции определенной группы. Можно заметить, что такое разрешение проблемы негативных проявлений культуры само по себе может быть интерпретировано в культурных терминах. Предположим, что можно согласовать минимальный этический стандарт, который принимал бы в качестве аксиоматически желательных такие концепции, как индивидуальные права, демократия, защита меньшинств, мирное разрешение конфликтов и поддержка гражданского общества11. В таком случае можно утверждать, что [11] ценности, восхваляемые в качестве универсальных, могут рассматриваться как включающие в себя символы, определяющие цивилизованное человеческое существование, и интерпретироваться в данном качестве как ключевые элементы всеохватной человеческой культуры, превосходящей другие формы культурной дифференциации.
Второй вопрос, требующий некоторого осмысления, касается того, является ли культура вещью или процессом. В приведенных выше определениях мы подчеркивали первое, установив набор характеристик, которые описывают, что такое культура, а не кто ее делает или решает, как ее использовать. Когда берется идея культуры как процесса, встают вопросы об отношениях между теми, кто сам оказывает воздействие, и теми, кто подвергается воздействию[12]. В этих обстоятельствах культура может стать спорным феноменом, а не зоной согласия и гармонии. Так, например, становится возможным говорить о господствующей культуре, которую намеренно навязывает какая-то группа элиты противящемуся или же ничего не подозревающему населению. Также встает вопрос об определении «популярной культуры», области, которая рассматривается в современной культурологии как противостоящая гегемонии и ограничительным практикам «высокой культуры». Более того, концепция культуры, объединяющей разные области, подчеркивает, что культура не гомогенна и не статична, но является эволюционирующим, меняющимся, разнообразным и многогранным феноменом. Смысл этих размышлений не в том, чтобы отвергнуть или заменить концепцию культуры как набора объектов и практик, но в том, чтобы показать, что набор этот становится неустойчивым, а его содержание спорным, когда учитывается динамика культурных процессов и властные отношения, которые из них следуют.
Третий аспект, требующий прояснения, – вопрос о том, насколько определения культуры, предложенные выше, пересекаются с идеями об обществе, которыми занимается социология. Определение культуры, основанное на выявлении отличительных характеристик групп, – это своего рода параллель к пониманию этих групп как общества или социальных единиц внутри общества. Таким образом, например, сказать, что традиции, обычаи, нравы и убеждения составляют культуру группы, означает просто описать набор переменных, которые с точки зрения социолога определяют основу для обеспечения социальной связности и социальной идентичности группы. Тем не менее, хотя какое-то размывание границ между культурным и социальным, а также между культурой и обществом неизбежно, можно провести достаточно четкое различие между этими областями, как это сделал Рэймонд Уильямс в своей важной работе «Культура и общество»: в самом ее названии подобное различие представлено в кристаллизированном виде[13]. Если культура в обоих указанных выше смыслах охватывает интеллектуальные и художественные функции человечества (даже если они осуществляются бессознательно, как, например, при использовании языка), ее источник может быть отделен от процессов социальной организации, как намеренной, так спонтанной.
Свободна ли экономика от культуры? Культурный контекст экономики
Формальная точность современной экономики с ее теоретической абстракцией, математическим анализом и опорой на беспристрастный научный метод для проверки гипотез о том, как ведут себя экономические системы, может создать впечатление, что экономика как дисциплина не имеет культурного контекста, что она действует в мире, который не определяется культурными феноменами и сам их не создает. Но подобно тому как радикальная критика современной экономики утверждала, что вышеописанный вид экономики сам не может быть свободен от ценностей, точно так же можно предположить, что и экономика как интеллектуальная деятельность не может быть свободной от культуры.
Начать с того, что очевидно: многие школы экономической мысли, образующие в совокупности экономическую науку в том виде, в каком она получила развитие в последние два столетия, включают ряд отдельных культур или субкультур, каждая из которых определяется как набор убеждений и практик, связывающих эту школу воедино. Подобно тому как общие правила обеспечивают основу для разного рода культурных идентичностей в мире в целом, так и в ограниченном мире интеллектуального дискурса экономики мы можем интерпретировать как культурный процесс формирование школ мысли, будь то марксистская, австрийская, кейнсианская, неоклассическая, новая классическая, старая институциональная, новая институциональная или любая другая школа. Однако воздействие культуры на мышление экономистов идет дальше, потому что культурные ценности, которые они наследуют или приобретают в процессе обучения, оказывают глубокое и порой непризнанное влияние на их восприятие и отношение. Конечно, утверждение о том, что культурные соображения влияют на то, как экономисты занимаются своим ремеслом, – это просто продолжение известного аргумента о влиянии идеологической точки зрения наблюдателя на его восприятие мира и о невозможности объективности в социальных науках, поскольку даже выбор объекта исследования сам по себе является субъективным процессом. Признавая это в настоящем контексте, мы должны, например, спросить, является ли очевидное принятие преобладающим большинством современных западных экономистов господствующей интеллектуальной парадигмы в их дисциплине – веры в эффективность конкурирующих рынков, фундамента, на котором построена политическая система капитализма, – продуктом интеллектуального убеждения или просто неосознаваемой культурной предрасположенности, сформированной ценностями их профессии.
Более того, культурный контекст экономики как дисциплины имеет отношение не только к ограничениям, с которыми сталкиваются те, кто ею занимается, но также и к методологии экономического дискурса. Процессы, благодаря которым идет порождение, обсуждение, оценка и передача экономических идей, стали предметом исследования сквозь призму подходов таких теоретиков литературного и критического анализа, как Деррида и Фуко. Обращение к текстуальной природе экономического знания и к функционированию риторики в дискурсе экономики рассматривалось такими экономистами, как Дейдра Макклоски, в качестве открытия новых «разговоров» в философии экономики[14]. Аргументация, убеждение и другие процессы, задействованные в разговоре экономистов друг с другом и с другими, имеют четкие культурные коннотации, как, например, указывалось в работах Арьо Кламера о росте, передаче и распространении экономического знания[15]; возможно, это не случайное совпадение, что Кламер занимает кафедру экономики искусства и культуры в Университете Эразма Роттердамского.
Перейдем теперь от культурного контекста экономики как системы мысли к культурному контексту экономики как системы социальной организации. Тот факт, что экономические агенты живут, дышат и принимают решения внутри культурной среды, нетрудно заметить. Равно как и то, что эта среда оказывает некоторое влияние на формирование их предпочтений и регулирование их поведения, будь то поведение на уровне индивидуального потребителя или фирмы или на совокупном уровне макроэкономики. Однако в своей формальной аналитике мейнстримная экономика была склонна пренебрегать этим влиянием, рассматривая поведение человека как проявление универсальных характеристик, полностью охватываемых индивидуалистической моделью рационального выбора и максимизации полезности, и считая, что рыночное равновесие применимо к любым обстоятельствам, независимо от исторического, социального или культурного контекста[16]. В самом деле, когда неоклассическое моделирование пытается анализировать культуру, оно может делать это только в своих категориях. Так например, Гвидо Коцци интерпретирует культуру как социальный актив, который включается в производительные функции единиц трудовой эффективности как вклад общественных благ в рамках межпоколенческой модели[17]. Хотя подобные попытки могут передать некоторые характеристики культуры в абстрактной экономике, они по-прежнему далеки от широких проблем культуры и экономической жизни в реальном мире.
При этом важно заметить, что долгое время существовал возникший в рамках нескольких школ экономической мысли интерес к изучению роли культуры как значимого фактора в ходе экономической истории. Вероятно, самый прославленный вклад в эту область – анализ Максом Вебером влияния протестантской трудовой этики на подъем капитализма[18]. Там культурные условия, в которых происходит экономическая деятельность, напрямую связаны с экономическими результатами. Приводилось и множество других примеров исторического влияния культуры на экономическое развитие. Например, присущий англосаксонской культуре дух индивидуализма, впервые отмеченный Адамом Смитом при обсуждении разделения труда, а затем всесторонне описанный великими представителями политической экономии, особенно Джоном Стюартом Миллем, может рассматриваться в качестве условия, способствовавшего распространению индустриальной революции в Британии и почти параллельно в Соединенных Штатах[19]. Ближе к нашему времени появилось много спекулятивных предположений о том, чем объясняется послевоенное «азиатское экономическое чудо», начавшееся с феноменального промышленного роста в Японии и продолжившееся феноменальными темпами роста в Южной Корее, на Тайване, в Гонконге и Сингапуре. Мы вернемся к этим вопросам в гл. IV.
Культура как экономика: экономический контекст культуры
Экономический дискурс и работа экономических систем идет внутри культурного контекста; но верно и обратное. Культурные отношения и процессы сами могут существовать внутри экономической среды и интерпретироваться с экономической точки зрения. Рассмотрим в этом свете обе вышеизложенные концептуализации культуры – широкое антропологическое определение и более специфическая функциональная интенция культуры.
Если культуру можно представить как систему убеждений, ценностей, обычаев и т. д., разделяемых определенной группой, тогда культурные взаимодействия между членами этой группы или между ними и другими группами могут моделироваться как трансакции, или обмен символическими и материальными благами в рамках экономики. Антропологи характеризовали примитивные и не очень примитивные общества таким образом, что идеи рынка, меновой стоимости, валюты, цены и т. д. приобретали культурное значение. Одна специфическая зона интересов была создана вокруг предположения, что все культуры приспособлены к своему материальному окружению и могут быть объяснены через него. Эволюция различных культур будет обусловлена не идеями, которые они воплощают, но их успехом во взаимодействии с окружающим материальным миром. Подобный «культурный материализм» имеет четкое соответствие в экономике, в особенности в старой школе институциональной экономики, где культура лежит в основе всей экономической деятельности. Действительно, Уильям Джексон рассматривает культурный материализм как средство реинтеграции культуры в тот же самый материальный, природный мир, частью которого является экономика[20].
Более того, рассмотрение роли культуры в экономическом развитии стран третьего мира вписывает культурные традиции и устремления бедняков в экономические рамки как средство для того, чтобы найти способы улучшить их материальное положение, не нарушая их культурную целостность. По сути, как это не раз заявляла Всемирная комиссия ООН по культуре и развитию (1995), концепция культуры и концепция развития неразрывно связаны в любом обществе. Таким образом, например, проекты по развитию в бедных странах, подобные тем, что финансировались международными агентствами, НГО, программами иностранной помощи, могут поднять уровень жизни в таких странах, только если признают, что культура того или иного сообщества является фундаментальным выражением его бытия и что эта культура помещается в экономический контекст, который определяет размах и степень возможного материального прогресса. Мы подробнее разбираем эти вопросы в гл. IV.
Обращаясь теперь к интерпретации культуры в функциональных категориях, мы снова обнаруживаем понимание культуры как экономики, как существующей внутри экономической среды. Возможно, наиболее очевидной исходной точкой будет положение о том, что культурное производство и потребление могут быть вписаны в промышленные рамки и что производимые и потребляемые блага и услуги могут рассматриваться как товары точно так же, как и любые другие товары, производящиеся в экономической системе. Термин «культурная индустрия» был запущен в оборот Максом Хоркхаймером и Теодором Адорно, представителями Франкфуртской школы, в 1947 г. в знак отчаянного осуждения коммодификации, присущей массовой культуре. Они видели, как культура трансформируется под воздействием технологии и идеологии монополистического капитализма; для них экономическая интерпретация культурных процессов была свидетельством катастрофы[21]. С тех пор понятие культурной коммодификации развивалось по нескольким разным направлениям, указывая на различную контекстуализацию культуры внутри обширной области экономики.
Одно из таких направлений, приведших к современной культурологии, признает, что культурные феномены насквозь пронизывают повседневную жизнь, и исследует популярную культуру с точки зрения экономических и социальных отношений в современном обществе (в основном «слева», хотя и не только)[22]. Другое направление развития ведет к постмодернистским мыслителям, таким как Жан Бодрийяр, который располагает культуру в меняющемся универсуме осязаемых и неосязаемых социальных и экономических феноменов. Стивен Коннор указывает на характерные для Бодрийяра утверждения о том, что «больше невозможно отделить экономическую область или область производства от области идеологии или культуры, поскольку культурные артефакты, образы, репрезентации, даже чувства и психические структуры стали частью мира экономики»[23]. Произошло стирание границ между образом или «симуляцией» и реальностью, которую он представляет («гиперреальностью»). Так, например, Бодрийяр утверждает, что Диснейленд более реален, чем «реальные» Соединенные Штаты, которые он имитирует[24].
Еще одна линия развития идет внутри культурной экономики. Она сосредоточивается на производстве и потреблении культуры (главным образом, искусства), характеризуемой как чисто экономические процессы. Предмет культурной экономики прочно укоренен в экономике и может считаться отдельной легитимной областью специализации с собственными международными ассоциациями, конгрессами и академическим журналом «Journal of Cultural Economics» и собственной классификацией согласно «Journal of Economic Literature», этому арбитру таксономии экономического дискурса. Корни культурной экономики – в первых работах Джона Кеннета Гэлбрейта по экономике и искусству[25], хотя важнейшая идентифицирующая ее работа – книга Баумоля и Боуэна «Исполнительские искусства: экономическая дилемма» (1966). С тех пор появился ряд специализированных изданий, а также продолжает расти количество теоретической и прикладной литературы по культурной экономике в академических журналах[26] и не только. В этой традиции культурные индустрии интерпретируются с использованием традиционного инструментария экономического анализа, хотя и с инновационными отклонениями и адаптацией к особенностям художественного спроса и предложения. Так, например, считается, что работа художников происходит в рамках рынка труда, для анализа которого могут быть привлечены знакомые экономистам концепции, такие как уравнения предложения труда и функции заработка; но предсказания поведения этого рынка могут противоречить ожиданиям из-за особых свойств художников как класса работников. Рассматриваемые таким образом культурные индустрии легко интегрировать в широкую модель экономики, например, модель «затраты – выпуск», в которую могут быть вписаны отношения культуры и других отраслей. Коммодификация культуры, подразумеваемая этим подходом, не отменяет других толкований культурного производства, в том числе представление о том, что культура может быть рационализирована только в автореферентных категориях. Скорее, этот экономический взгляд на культуру принимает в качестве дескриптивного факта то, что производство и потребление культурных благ и услуг внутри экономической системы обычно подразумевает экономические трансакции, что такая деятельность может быть некоторым образом описана, а то, что окажется внутри этого описания, может быть названо индустрией и соответствующим образом проанализировано. Мы вернемся к этой интерпретации культуры как индустрии в гл. VII.
Индивидуализм и коллективизм
Наш обзор области, которой посвящена данная книга, в этой вводной главе отсылает к идее о том, что экономическая мысль в своем развитии на протяжении последних двух столетий основывалась на индивидуализме[27], тогда как понятие культуры, по крайней мере в значении, определенном выше, является проявлением группового или коллективного поведения. В завершение этого введения полезно систематизировать различие между экономикой и культурой как основу для дальнейшего рассмотрения взаимосвязей между ними. Мы сделаем это, выдвинув следующее предположение: экономический импульс – индивидуалистический, культурный импульс – коллективный.
Согласно этому предположению, во-первых, существует поведение, которое может быть обозначено термином «экономическое», отражающее индивидуальные цели и описываемое в стандартной модели экономики, в которую включены эгоистические индивидуальные потребители, стремящиеся к максимизации своей собственной полезности, и эгоистические производители, стремящиеся максимизировать свои выгоды. Первая часть предположения верна для экономики, где в производственном секторе преобладают крупные корпорации, поскольку они всего лишь предоставляют средства, при помощи которых владельцы и менеджеры могут более эффективно преследовать своей собственный эгоистический экономический интерес. В стандартной неоклассической модели экономики рынки существуют для того, чтобы сделать возможным взаимовыгодный обмен; согласно теории общего равновесия, при определенных допущениях такие рынки ведут к максимизации социального благосостояния, определяемого с точки зрения участвующих в экономике индивидов и с учетом исходного распределения доходов.
Конечно, в такой экономике может происходить коллективное действие. Если происходит провал рынков или если их не существует, может потребоваться добровольное или принудительное коллективное действие для достижения оптимальных социальных результатов. Например, такие общественные блага, как национальная оборона или закон и порядок, которые не могут финансироваться напрямую через индивидуальный спрос, должны обеспечиваться государством или посредством добровольного сотрудничества. Другие формы кооперативного поведения возникают в индивидуалистской экономике. Но все эти проявления коллективного действия можно свести к индивидуальному спросу и, в рамках экономической модели, к эгоистическому интересу агентов-участников. Даже альтруизм определяется в такой модели как выражение индивидуальной максимизации полезности.
Во-вторых, согласно этому предположению, существует так называемое культурное поведение, не совпадающее с экономическим; такое поведение отражает коллективное как отличное от индивидуалистических целей и вытекает из природы культуры как выражающей верования, устремления и идентификации группы. Таким образом, культурный импульс может рассматриваться как желание, нацеленное на групповой опыт, коллективное производство или потребление, и не сводимое к желаниям образующих группу индивидов. Эти желания распространяются на многие виды деятельности, но в качестве иллюстрации мы можем использовать искусство. Многие художественные товары и услуги производятся благодаря деятельности группы, где результат – коллективное усилие, признаваемое участниками как имеющее ценность или смысл, выходящий за рамки того, что может быть просто приписано совокупности усилий участвующих индивидов[28]. Точно так же потребление искусства – например, в театрах и концертных залах – часто является коллективной деятельностью, в которой опыт группы превосходит сумму индивидуальных потребительских реакций. Конечно, здесь снова могут быть приведены контрпримеры. Большая часть искусства производится в результате индивидуальной деятельности, более того, в одиночестве, и человек, читающий роман или слушающий музыку у себя дома, занят исключительно индивидуальным потреблением. Тем не менее художники, работая в одиночку, обычно ожидают, что их произведение станет средством коммуникации с другими людьми, а одинокие потребители искусства тяготеют к созданию более обширных человеческих связей. Таким образом, каковы бы ни были производимые и потребляемые художественные продукты, процессы их производства и потребления могут рассматриваться не только как индивидуальное предприятие, но и как выражение коллективной воли, которая превосходит волю индивидуальных участников этих процессов.
Подводя итог, мы бы указали на то, что в контексте данной гипотезы экономический импульс может рассматриваться как выражение индивидуальных желаний членов общества в отношении себя, а культурный импульс – как коллективное желание группы или групп внутри данного общества, направленное на выражение через культуру в разных формах. Это предположение дает полезную основу для различения экономического и культурного на протяжении всего последующего обсуждения в этой книге.
Обзор книги
Можно предположить, что на каком-то глубинном уровне концептуальные основания, на которых покоятся и экономика, и культура, имеют дело с понятием ценности. Конечно, теории ценности играли центральную роль в развитии экономической мысли со времен Адама Смита, и какой бы ни была исходная дисциплинарная точка для рассмотрения культуры, будь то эстетика или современная культурология, вопросы ценности здесь также занимают центральное место. Глава II, таким образом, закладывает основы для рассмотрения понятия ценности в экономике и культуре, того, как они систематизируются и оцениваются. Тогда следующий шаг – предложить способы репрезентации культуры, которые помогут перекинуть мост через пропасть, разделяющую культуру и экономику, т. е. предложить способ концептуализации культуры в форме, выражающей ее основные характеристики, но при этом также поддающейся экономическому манипулированию и анализу. Этот шаг предпринимается в гл. III, в которой выдвигается понятие «культурного капитала» как способа репрезентации как материальных, так и нематериальных проявлений культуры. Определение культурного капитала вытекает из проделанного нами анализа экономической и культурной ценности и позволяет дать характеристику культурных товаров и услуг, культурной деятельности и других явлений таким образом, чтобы признать их экономическое и культурное значение. Учитывая долгосрочные рамки, внутри которых в практических целях должна оцениваться культура, мы продолжаем рассматривать межвременные характеристики культурного капитала: как его получают в качестве наследия прошлого, как с ним имеют дело в настоящем, и как он передается будущему. Такого рода проблематика может быть объединена под рубрикой «устойчивости» по аналогии с понятием природного капитала в экологическом контексте.
В гл. IV и V анализируются два специфических аспекта при обсуждении понятий ценности, культурного капитала и устойчивости. В гл. IV мы рассматриваем роль культуры в экономическом развитии: сначала мы исследуем культурные детерминанты экономических показателей, а затем переходим к анализу роли культуры как способа репрезентации целого круга явлений человеческой жизни как в развивающихся, так и в промышленно развитых странах. Проблема устойчивости здесь важна не только из-за значения долгосрочной перспективы в анализе экономического развития, но и из-за потребности поддерживать культурные системы как неотъемлемые элементы процесса развития. В гл. V рассматривается экономика культурного наследия: это, пожалуй, самое очевидное проявление культурного капитала, область, в которой принципы устойчивости находят наилучшее объяснение и применение.
В гл. VI мы обращаемся к процессу креативности как главному двигателю культурного роста и развития. Экономисты уже давно проявляли интерес к креативности как мотивационной силе инноваций и технологических изменений, но все их попытки осмыслить истоки творческого порыва и понять, каким образом стимулы и ограничения влияют на его выражение у индивидуальных творцов, ограничивались, как правило, слишком обобщающим выводом, что главным стимулом для инноваций является перспектива получения прибыли. И снова вопросы ценности занимают центральное место в нашем рассуждении: охарактеризовав труд художников, мы сможем идентифицировать производство экономических и культурных ценностей в создании и размещении их произведений.
В гл. VII мы возвращаемся к понятию культурных индустрий как способа репрезентации культурной деятельности в экономических категориях. В контексте толкования искусства как индустрии рассматривается и обсуждается подход, ставший центральным в культурной экономике за последние 30 лет. Далее мы рассматриваем культурные индустрии в более общей перспективе, уделив внимание роли культуры в городском развитии, туризме и торговле. Мы также обсудим потенциал культурных индустрий как вклада в экономическое развитие развивающегося мира, используя в качестве конкретного примера музыкальную индустрию.
Если интерпретировать культурную деятельность в категориях индустрии, это означает, что культурные индустрии имеют отношение к экономическому производству и создают рабочие места, а стало быть, правительства, которые не волнует культура как таковая, начнут проявлять к ней интерес. Это подводит нас к гл. VIII, в которой мы поднимаем более общий вопрос о том, каким образом может происходить вмешательство государства, тем или иным образом влияющее на культуру. Способ такого вмешательства – культурная политика, совсем недавно возникшая специфическая область деятельности правительства. Учитывая, что в современном мире большая часть политики занимается экономическими явлениями, неудивительно, что культурная политика очень прямо ставит вопросы об отношениях между экономикой и культурой. Культурная политика также имеет значимые политические последствия. Мы сосредоточим внимание на том, как культурная и экономическая политика дополняют друг друга и конфликтуют между собой: вопросы экономической и культурной ценности имеют решающее значение для разметки территории и принятия решений.
Наконец, в заключительной гл. IX делается попытка соединить все нити и указать направление движения. Могут ли экономика и культура рассматриваться в современном мире, где мы наблюдаем противоречивую динамику экономической глобализации и культурной дифференциации, как два организующих принципа современного общества, одинаково предопределяющих масштаб и ограничения цивилизационного прогресса в третьем тысячелетии?
II. Теории ценности
Иван: Конечно, это логично, ты просишь меня угадать цену, ты прекрасно знаешь, что цена зависит от того, насколько моден художник…
Марк: Я не прошу тебя применять весь набор критических стандартов, я не спрашиваю у тебя профессиональной оценки, я спрашиваю, сколько ты, Иван, отдашь за белую картину с несколькими грязно-белыми полосами?
Иван: Ни шиша.
Яшина Реза, «Art»[29]
Введение: почему ценность?
В своем фундаментальном значении ценность – это исток и мотивация всего экономического поведения. Идеи ценности пронизывают также и сферу культуры, но в другой перспективе. В экономической области ценность имеет отношение к полезности, цене и стоимости, которую индивиды или рынки приписывают товарам. Культурная ценность содержится в некоторых аспектах культурных феноменов, выражаемых либо в специфических терминах – например, тональная ценность музыкальной ноты, ценность цвета на картине, либо в более общих терминах – указание культурного достоинства или значимости произведения, объекта, опыта. Конечно, экономика и культура как области человеческой мысли и действия связаны с ценностями во множественном числе, т. е. с верованиями и моральными принципами, которые образуют рамку нашего мышления и бытия. Но, хотя мы должны признать влияние ценностей на человеческое поведение в целом и на интеллектуальную деятельность в социальных и гуманитарных науках в частности, нас в настоящем контексте интересует ценность в единственном числе.
В обеих интересующих нас областях, экономике и культуре, понятие ценности, несмотря на различное его происхождение, может рассматриваться как выражение стоимости не только в статическом и пассивном смысле, но также в динамическом и активном, как согласованный или трансакционный феномен. Таким образом, можно предположить, что ценность – это исходная точка в процессе установления связи между двумя этими областями, фундамент, на котором может строиться совместное рассмотрение экономики и культуры. Закладка этого фундамента – задача данной главы. Мы рассматриваем по отдельности происхождение теории ценности в экономике и в культуре (в той мере, в которой мы можем ее здесь идентифицировать), а затем выясняем, как эти концепции могут быть приложены к экономической и культурной оценке культурных благ. Завершается глава анализом в свете этих идей такого явления, как художественный музей.
Теория ценности в экономике
Подходящая отправная точка для рассмотрения теорий ценности (value) в экономике, как и в случае большинства вопросов в истории экономики, – «Богатство народов» Адама Смита (1776). Смит первым стал различать ценность товара в потреблении, т. е. способность удовлетворять потребности человека, и ценность при обмене, т. е. количество других товаров и услуг, с которым кто-то готов расстаться, чтобы приобрести единицу товара. Смит и политические экономисты, пришедшие ему на смену в XIX в., выдвигали теории ценности, основанные на стоимости производства. Эти авторы, по сути, предлагали рассматривать законы, регулирующие распределение доходов, на основе ценности объекта, определяемой затратами на исходные материалы, используемые для его производства. Таким образом, например, Смит, а позднее Рикардо и Маркс, сформулировали трудовые теории, в которых ценность определяется количеством труда, воплощенном в товаре. Для Маркса вознаграждение, связанное с другими факторами (прибылями, дивидендами, рентой, процентом), было ценностью, прибавочной по отношению к ценности труда. Таким образом, его теория ценности была теорией распределения, вытекающего из классовых отношений в обществе; в анализе Маркса ценность труда в виде заработной платы идет рабочему классу, а оставшаяся прибавочная ценность – правящим классам.
Важным элементов дебатов по поводу ценности в XVIII–XIX вв. была идея «естественной ценности», набора цен, определяемых условиями производства и затрат. Естественная ценность рассматривалась как центр притяжения, к которому тяготели реальные цены, свободные от краткосрочных искажений. В наши дни мы называем их ценами, полученными при долгосрочном равновесии. Идея естественных цен возникла еще до Адама Смита, ее можно отыскать в еще более ранних сочинениях Джона Локка, Уильяма Петти и др.[30] За этим просматривается тенденция к рассмотрению естественной стоимости как отражения действия «естественных» сил, определяющих цены посредством упорядоченного процесса наподобие тех, что регулируют исходы в природном мире.
С этим связана концепция абсолютной или внутренне присущей ценности, являющейся числом или мерой, которая может быть приписана товарной единице независимо от какого бы то ни было обмена через покупку или продажу и которая будет инвариантом во времени и пространстве. Смит определял внутреннюю ценность в категориях трудовой теории ценности, то же самое делал Рикардо[31]. В своих более поздних работах Рикардо пошел еще дальше в различении между абсолютной и относительной ценностью. Но идеи абсолютной ценности, которые в то время выдвигали он и другие, например, Мальтус, подверглись серьезной критике со стороны Сэмюэля Бейли (1825), а позднее и со стороны других авторов[32], которые высмеяли идею о том, что существует какое-то естественное или воспроизводимое мерило ценности, заложенной в товарах. Схожим образом классическую теорию стоимости жестко критиковал Джон Рёскин, хотя и с несколько иных позиций. Для Рёскина, как и для Карлейля, идея того, что ценность товара может определяться рыночными процессами и измеряться в денежном эквиваленте, была нарушением принципов внутренней ценности, на основе которых должна определяться стоимость предметов, в особенности предметов искусства. Вместо этого он связывал ценность с расширяющим жизненные возможности трудом работника, производившего товар; работник не только сам получал удовольствие от своих усилий, но и частично наделял этим благом того, кто пользовался продуктом. Рёскин применил эту теорию к объяснению того, почему некоторые произведения искусства обладают большей ценностью, чем другие, утверждая, что творческий производственный процесс наделяет картину или скульптуру ценностью, которая оказывается включена в само произведение или внутренне ему присуща[33]. В конце XIX в., однако, произошла маржиналистская революция[34], которая заменила теории ценности, основанные на стоимости производства, моделью экономического поведения, построенной на индивидуальной полезности. Джевонс, Менгер и Вальрас рассматривали индивидов и их предпочтения как «предельные атомы» процесса обмена и рыночного поведения[35]. Они объясняли меновую стоимость в категориях паттернов предпочтения потребителями товаров, способных удовлетворить их индивидуальные потребности. Однако идея полезности, которую сформулировали неоклассические экономисты, в действительности была не нова. Первоначально термин «полезность» использовал Бентам для описания внутренне присущих товару свойств, которые «производят выгоду, преимущество, благо или счастье»[36]; позднее он перенес его значение на понятие удовольствия, связанного с актом потребления товара, – интерпретация, которая в дальнейшем разрабатывалась Джевонсом (1988) и была принята за основу маржиналистской теории.
Отсюда теория полезности, лежащая в основе теории потребительского поведения в современной экономике. Предполагается, что индивиды обладают иерархией установленных предпочтений по отношению к товарам, так что они могут четко сказать, что они предпочитают данное количество одного товара данному количеству другого (или выбор между одним и другим товаром им безразличен). При обоснованных допущениях, касающихся природы этих иерархий, включая допущение о том, что предельная полезность уменьшается по мере роста потребления товара, может быть выведена теория спроса, которая сама по себе поддается проверке и может занять место рядом с теорией предложения для того, чтобы дать модель ценообразования на конкурентных рынках. Людям не требуется задавать никаких вопросов, почему их иерархии предпочтений таковы. Истоки желания (биологические, психологические, культурные, духовные или какие-то еще) не имеют значения; всего лишь требуется, чтобы ранжирование предпочтений было произведено упорядоченным способом.
Несмотря на то что многие экономисты считают теорию ценности исчерпывающей с точки зрения универсальности и элегантности, анализ предельной полезности часто подвергался критике. Для наших задач наибольший интерес представляет направление атаки, утверждающее, что стоимость является социально сконструированным явлением и что определение стоимости и, соответственно, цен не может быть изолировано от социального контекста, в котором эти процессы происходят[37]. Разработка социальной теории стоимости ассоциируется с именами таких экономистов, как Торстейн Веблен, Джон Р. Коммонс и другие экономисты «старой» институциональной школы, хотя эта линия уходит еще глубже, к Джону Бейтсу Кларку в конце XIX в. и еще раньше. Критике подвергаются прежде всего основания теории предельной полезности, т. е. положение о том, что потребитель может сформулировать упорядоченные предпочтения, основываясь исключительно на индивидуальных потребностях, на которые не оказывает влияния институциональное окружение и социальное взаимодействие и процессы, управляющие и регулирующие обмен. Как таковая эта критика может рассматриваться как часть более широкой критики неоклассической экономики, на которую мы указывали в гл. I.
Изобретение предельной полезности могло разрешить так называемый «парадокс стоимости»[38], но едва ли избавило от потребности в теории стоимости. Верно, что неоклассический маржинальный анализ дает объяснение ценообразованию на конкурентных рынках, которое до сих пор принимается, и что внутри этой модели цены могут рассматриваться как средства, при помощи которых рыночная экономика координирует множественные оценки индивидуальных акторов в системе, придавая упорядоченность хаосу разнообразных человеческих потребностей и желаний. В результате для многих современных экономистов теория цены стала теорией ценности, и больше говорить не о чем. Тем не менее можно утверждать, что рыночные цены в лучшем случае несовершенный индикатор стоящей за ними ценности. Они редко свободны от временных помех, которые иногда трудно отличить от более долгосрочных тенденций: возникает проблема, как установить, где заложено долгосрочное равновесие цен. Но даже без таких преходящих аберраций искажение цен может произойти во множестве других случаев, например, из-за не идеально конкурентных рынков, неполной информации и т. д. К тому же цены не отражают добавочное потребительское удовольствие, испытываемое при покупке товара. Таким образом, можно сказать, что цены в лучшем случае являются индикатором ценности, но совершенно не обязательно мерой ценности, и теория цены разрабатывает теорию ценности, но является заменой для нее в экономике.
Экономическая оценка культурных товаров и услуг
Теперь мы рассмотрим, как понятия экономической ценности могут применяться к культурным товарам и услугам. Для этого мы должны различать частные культурные блага, для которых хотя бы потенциально существует набор рыночных цен, и общественные блага, для которых цены не установлены. При этом нельзя забывать, что многие культурные блага обладают смешанными характеристиками и частных, и общественных благ. Картина Ван Гога, например, может продаваться и покупаться как предмет искусства, чья ценность в качестве частного блага существует только для тех, кто ею владеет; в то же время картина как элемент истории искусства приносит общественную пользу историкам, любителям искусства и публике в целом. Принципы оценки, обсуждаемые ниже, применимы к обоим аспектам таких благ.
Индивидуальное потребление частных культурных благ
Обратившись сначала к частным культурным благам, мы легко можем измерить, чем готовы пожертвовать потребители, чтобы приобрести такие блага, и мы можем построить функции спроса для таких благ, которые будут выглядеть почти так же, как функции спроса для любого другого товара. Если поместить эти функции спроса рядом с функциями предложения, отражающими предельные цены, затрагивающие производство благ, можно увидеть, что частный рынок достиг равновесия. Однако, как отмечалось в предыдущем разделе, способность цены быть настоящим показателем ценности в лучшем случае ограничена для любого товара. Для культурных благ есть дополнительные оговорки. Со стороны спроса на культурных рынках на смену простому вневременному потребителю, максимизирующему полезность, приходит индивид, вкус которого накапливается, а следовательно, зависит от времени. Как мы увидим далее в гл. VII, культурное потребление может считаться процессом, который вносит вклад как в удовлетворенность в настоящем, так и в накапливание знаний и опыта, ведущих к будущему потреблению. Таким образом, влияние спроса на цены должно выходить за рамки непосредственной оценки указанного блага.
В то же время с точки зрения предложения стандартные условия ценообразования на конкурентных рынках не обязательно выполняются на рынках культурных благ. В частности, как мы еще увидим в дальнейших главах, производители (в особенности художники) могут не быть максимизаторами прибыли, и ожидаемая цена может играть только второстепенную роль – или же вообще не играть никакой роли – в их решениях по размещению ресурсов. Вдобавок могут наблюдаться значительные экстерналии и в производстве, и в потреблении.
В целом можно сделать вывод, что цена будет всего лишь ограниченным индикатором экономической ценности частных культурных товаров при рыночных исходах, отчасти из-за недостатков цены как меры ценности любого экономического блага, а отчасти из-за дополнительных характеристик, присущих именно культурным благам и услугам. Тем не менее в большинстве эмпирических ситуаций, когда нам требуется оценка экономической ценности частного культурного блага, его рыночная цена, вероятнее всего, окажется единственным доступным индикатором. Поэтому большие усилия были затрачены на то, чтобы собрать оценки ценности различных культурных благ и услуг в рыночных экономиках всего мира. Например, идет постоянный мониторинг цен на рынке изобразительного искусства, и совокупная стоимость продаж за любой период рассматривается в качестве индикатора экономических масштабов этого рынка. Торговая статистика может использоваться как средство оценки экономической стоимости международных потоков культурных благ, например, музыкальных прав, фильмов, телевизионных программ и т. д. Экономическое влияние культурных организаций на местную, региональную, национальную экономику оценивается с отсылкой к рыночным ценам и объему произведенной продукции – кассовым сборам для театральных трупп, доходам от входных билетов для музеев и галерей и т. д. На более общем уровне размеры культурного сектора и его вклад в экономику оцениваются во многих странах путем суммирования добавочной стоимости или валовой стоимости выпущенной продукции с учетом ее различных компонентов. Короче говоря, несмотря на теоретические ограничения, которые призывают к некоторой осторожности при использовании рыночных цен как индикаторов экономической ценности культурных благ и услуг, использование данных, полученных непосредственно от рыночных трансакций, для таких целей широко распространено и общепризнанно.
Коллективное потребление общественных культурных благ
В случае общественных культурных благ возможно применение стандартных процедур экономического измерения. За последние годы в экономике был достигнут большой методологический прогресс в оценке нематериальных феноменов, на которые есть спрос у потребителя (например, дружелюбная среда); при этом используются такие техники, как, например, методы условной оценки. Мы будем подробнее рассматривать эти методы в гл. V в контексте оценки культурного наследия; пока достаточно сказать, что метод условной оценки и связанные с ними техники пытаются приписать экономическую ценность экстерналии или общественному благу, рассчитав, какой была бы функция спроса, если бы спрос мог выражаться через нормальные рыночные каналы. В результате накопления оценок по разным потребителям получается итоговая цена спроса, которую можно сравнивать с затратами на обеспечение разных уровней данного блага, чтобы определить, гарантировано или нет предложение, и если да, то насколько.
Эти подходы пытаются имитировать рынок для указанных феноменов, и поэтому на полученных в результате ценах сказываются те же ограничения, что и на интерпретации обычных рыночных цен для частных благ. Кроме того, при оценке спроса на общественные блага возникают некоторые дополнительные проблемы из-за недостаточности и предвзятости самих технологий измерения. Так, хотя теория методов условной оценки добилась такого значительного прогресса за последние годы, что даже получила сдержанное одобрение независимой конференции, которую возглавляли два скептических нобелевских лауреата по экономике[39], остаются методологические трудности, не позволяющие в полной мере интерпретировать полученные с помощью этих методов результаты как «истинную» экономическую ценность. Например, скорее всего всегда будет существовать озабоченность гипотетической природой создаваемых рынков, несмотря на экспериментальные свидетельства конгруэнтности поведения на реальных и симулированных рынках. Несмотря на то что классическую «проблему безбилетника» можно контролировать, ее итоговое значение при определении готовности платить остается неясным.
Тем не менее, несмотря на трудности в интерпретации цен как экономической ценности, экономистам, работающим над оценкой спроса на общественные культурные блага (или на общественную составляющую в смешанных благах на культурной арене), ничего не остается, кроме как применять стандартные методы и принимать полученные оценки как наилучшие из имеющихся оценок экономической ценности данного блага. Так, например, мы с Гленном Уиверсом[40] провели оценки готовности австралийских потребителей отдавать часть своих налоговых отчислений на общественную составляющую искусства. Из-за диапазона допущений, на которых может базироваться любая такая оценка, мы не стали торопиться с выявлением единой «цены спроса». Тем не менее мы считали, что можем с достаточной степенью уверенности заключить, что средняя экономическая ценность, приписываемая австралийскими налогоплательщиками внерыночным выгодам, полученным, по их мнению, от искусства в 1983 г., превышала размер налогов, необходимых для финансирования государственной поддержки австралийского искусства. Уильям Моррисон и Эдвин Вест в своем исследовании получили в целом похожие результаты в Канаде[41]. В гл. V мы вернемся к дальнейшим методам условной оценки культурных благ и услуг. Пока скажем лишь, что, несмотря на теоретические и практические ограничения, для оценки общественных культурных благ могут использоваться традиционные методы и что полученные таким образом результаты были приняты в качестве показателей ценности таких благ.
Культурная ценность
Как мы заметили в начале данной главы, думать о культуре в любом из определенных ранее значений – это значит думать о ценности. Стивен Коннор описывает ценность в культурном дискурсе как то, «от чего некуда деться». Речь идет не только о самой идее ценности, но и о процессах установления, приписывания, модификации, утверждения и даже отрицания ценности, одним словом, о процессах оценки… Нас повсюду преследует потребность в ценности в таком активном, трансакционном смысле [42].
Таким образом, в вопросе ценности и оценки теоретик культуры поразительным образом сходится с экономистом.
Однако происхождение ценности в культурной сфере совершенно отличается от ее происхождения в экономике, и способы репрезентации ценности с точки зрения культуры будут, скорее всего, отличаться от тех, что используются в экономике. Какова природа ценности, которую сообщество приписывает традициям, символизирующим его культурную идентичность? Что мы имеем в виду, когда говорим, что оперы Монтеверди или фрески Джотто имеют ценность для истории искусства? В обоих случаях апелляция к индивидуальной пользе или цене не кажется адекватной. Вопросы культурной ценности укоренены в дискурсе культуры, хотя моделью для методов ее оценки могут послужить методы экономической мысли.
Идентификация ценности внутри широкого культурного контекста исходит из базового принципа, согласно которому ценность представляет позитивные, а не негативные характеристики, ориентацию на то, что хорошо, а не на то, что плохо. Она может быть поставлена в один ряд с принципом удовольствия, которым человек руководствуется в своем выборе. Но в то же время отождествление ценности с простым гедонизмом может оказаться недостаточным или неадекватным. Например, формирование ценностей происходит в моральном или социальном универсуме, который транслирует использование принципа удовольствия в качестве критерия, что может сказаться на интерпретации ценности[43], как мы увидим ниже.
Долгая традиция культурной мысли вплоть до культурного модернизма видит истинную ценность произведения искусства в присущих ему качествах эстетической, художественной или более широкой культурной значимости. Подобный гуманистический взгляд на культурную ценность подчеркивает универсальные, трансцендентные, объективные и безусловные характеристики культуры и предметов культуры. Суждения, конечно, будут варьироваться от индивида к индивиду, но консенсус относительно культурной значимости самых важных вещей гарантирует им попадание в культурный «канон». Музей и академия становятся хранилищем этой «высокой» или «элитарной» культурной ценности. Со временем могут произойти изменения, так что произведения, некогда бывшие оппозиционными по отношению к истеблишменту, например, живопись Пикассо, музыка Стравинского, проза Джойса, драматургия Брехта или поэзия Элиота, постепенно входят в канон; но наряду с этим всегда существуют вечные свойства абсолютной культурной значимости. Можно сказать, что концепция абсолютной ценности предметов культуры соответствует идеям внутренней, естественной или абсолютной ценности, выдвигавшимся в ином контексте классическими политическими экономистами, о которых мы писали выше.
В эпоху постмодернизма в последние два-три десятилетия новая влиятельная методология, позаимствованная у социологии, лингвистики, психоанализа, поставила под сомнение традиционные идеалы, согласно которым в основе культурной ценности лежат гармония и правильность, и создала новую, изменчивую и гетерогенную, интерпретацию ценности – на место абсолютизма пришел релятивизм. Однако постмодернизму с его более свободными представлениями о ценности все же не удалось предложить удовлетворительное объяснение того, как может восприниматься и оцениваться ценность[44]. Из-за возникшей в связи с этим неопределенности многие авторы ссылаются на «кризис ценности» в сегодняшней теории культуры.
Современные теоретики культуры, вынужденные выбирать между политически консервативным абсолютизмом и левым релятивизмом в поисках истины культурной ценности, – это слишком упрощенная картина, едва ли не пародия. Однако в такой пародии есть доля правды. Может ли идеологически непредвзятый наблюдатель найти выход из этого положения? Возможно, прогресса удастся достичь, если принять следующие положения. Во-первых, необходимо ввести различие между эстетикой (за неимением более подходящего термина) и социологией культуры[45]. Иными словами, должна быть возможность отделить область чистого, самореферентного и внутренне непротиворечивого эстетического суждения от более широкого социального и политического контекста, в котором выносится такое суждение. Если даже такие суждения обусловливаются контекстом, нельзя отрицать существование индивидуальной эстетической реакции. Во-вторых, при достаточной регулярности индивидуальных реакций возможно прийти к согласию относительно конкретных случаев, которые интересны сами по себе. Возможно, что люди приходят к согласию по «неправильным» причинам, будучи безнадежно ограничены своей социальной средой или какой-то другой внешней силой, но вполне вероятно и то, что их консенсус возникает из какого-то более фундаментального процесса, при помощи которого порождается и передается ценность. Действительно, можно сказать, что, по каким бы причинам это ни происходило, представляет интерес сам факт согласия относительно культурной ценности в конкретных случаях. В-третьих, будет нетрудно согласиться с тем, что культурная ценность – множественная и меняющаяся вещь, которая не может быть понята изнутри одной какой-то области. Иными словами, ценность отличается разнообразием видов и в то же время сама по себе изменчива. В-четвертых, некоторые из явлений могут не поддаваться измерению в соответствии со знакомыми количественными или качественными стандартами. Например, Терри Смит указывает, что культурная оценка обычно плохо поддается измерению по внутренней или по внешней шкале, потому что она «она возникает в потоке: ее модусы – порождение, концентрация, возникновение каналов, струн, иногда цепочек оценки»[46].
Если в целях данного обсуждения приняты указанные общие положения, возможный выход – попытаться разбить концепцию культурной ценности на несколько образующих ее компонентов. Таким образом, не претендуя на исчерпывающее объяснение, можно будет описать произведение искусства как обладающее рядом характеристик культурной ценности.
1. Аутентичная ценность. Не пытаясь еще больше деконструировать и без того неуловимое понятие эстетического качества, мы можем, по крайней мере, рассматривать свойства красоты, гармонии, формы и другие эстетические характеристики произведения как признанный компонент его культурной ценности. Сюда могут быть добавлены элементы эстетической интерпретации произведения, на которую влияют стиль, мода и хороший или плохой вкус.
2. Духовная ценность. Эта ценность может интерпретироваться в формальном религиозном контексте, например, когда произведение имеет особое культурное значение для людей одной веры, одного племени или одной культурной группы; или же у нее может быть разделяемая всем человечеством светская основа, связанная с внутренними качествами произведения. Благотворное влияние, оказываемое духовной ценностью, включает понимание, просвещение и озарение.
3. Социальная ценность. Произведение может передавать ощущение связи с другими людьми, а также вносить вклад в понимание общества, в котором мы живем, и укреплять чувство идентичности и места.
4. Историческая ценность. Важным компонентом культурной ценности произведения искусства могут быть его исторические взаимосвязи: как оно отражает условия жизни в то время, когда было создано, и как освещает будущее, обеспечивая чувство связи с прошлым.
5. Символическая ценность. Произведения искусства и другие предметы культуры существуют как хранилища и проводники смысла. Если индивидуальное прочтение произведения искусства включает извлечение смысла, тогда символическая ценность произведения включает природу смысла, содержащуюся в произведении, и его ценность для потребителя.
6. Ценность подлинности. Эта ценность отсылает к тому факту, что произведение искусства является реальным, оригинальным и уникальным. Не приходится сомневаться в том, что подлинность и целостность произведения сами по себе имеют очевидную ценность, дополнительную по отношению к вышеперечисленным видам ценности[47].
Подобный набор критериев может быть предложен независимо от того, является ли их оценочная шкала фиксированной или подвижной, объективной или субъективной. Следовательно, независимо от того, является ли ведущий принцип абсолютным или относительным, представляется, что можно достичь некоторого прогресса, выявив объем концепции культурной ценности путем разбора ее на составляющие.
Тем не менее проблема оценки остается независимо от того, стоит ли перед нами задача оценки любого из вышеперечисленных компонентов или же ведется поиск единой меры, или индикатора, культурной ценности в конкретном случае. Несколько методов может быть использовано при определении культурной ценности с опорой на ряд специальных методов оценки, использующихся в социальных и гуманитарных науках. Среди них можно назвать следующие методы.
1. Картографирование (mapping). Первой стадией может быть прямой контекстуальный анализ объекта исследования, в том числе физическое, географическое, социальное, антропологическое картографирование, для того чтобы установить общую рамку, которая оказывает влияние на оценку каждого компонента культурной ценности.
2. Подробное описание (thick description). Этот метод относится к средствам интерпретативного описания культурного объекта, среды или процесса, которое рационализирует до тех пор необъяснимый феномен, раскрывает действие культурных систем, лежащих в его основе, и углубляет понимание контекста и смысла наблюдаемого поведения[48].
3. Анализ отношения (attitudinal analysis). Под этой рубрикой могут быть объединены различные техники, в том числе методы социального исследования, психометрические измерения и т. д., а также различные техники получения ответа (eliciting)[49]. Подобные подходы скорее всего окажутся полезны для оценки социальных и духовных аспектов культурной ценности. Они могут применяться на индивидуальном уровне, чтобы выяснить индивидуальную реакцию, или на общем уровне для выяснения отношения групп или для выявления паттернов консенсуса.
4. Контент-анализ. Эта группа техник включает методы, направленные на идентификацию и классификацию смысла, подходящие для измерения различных интерпретаций символической ценности произведения или других изучаемых процессов.
5. Экспертная оценка. Вклад экспертизы в различные дисциплины, вероятно, является самым важным компонентом в оценке культурной ценности, в особенности в случае суждений об эстетической, исторической и аутентичной ценности, где отдельные навыки, специальное образование и опыт ведут к получению более информированных оценок. Некоторая проверка таких суждений путем сравнения с принятыми профессиональными стандартами в процессе взаимного партнерского рецензирования в некоторых случаях может оказаться желательной для того, чтобы сократить процент непродуманных, предвзятых и оторванных от реальности мнений.
Перечисленные методы могут обеспечить некоторую перспективу измерения аспектов культурной ценности в отдельных случаях. Но в других случаях оценка терпит неудачу не только из-за отсутствия измерительной шкалы, но из-за многогранной природы самих явлений. Рассматривая список критериев культурной ценности, Терри Смит указывает на «удвоение» некоторых характеристик, когда в них одновременно присутствуют и тезис, и антитезис[50]. Так например, он считает, что характеристики эстетической ценности вращаются вокруг концепции красоты и гармонии, но в другой ценностной цепочке – вокруг концепций возвышенного и хаоса; также он полагает, что духовная ценность сосредоточена вокруг понимания и просвещения, но при этом на необходимом фоне непонимания и отчуждения.
В заключение скажем, что, возможно, в современной теории культурной ценности и наблюдается кризис, но это не должно отвращать нас от попыток определить, что такое культурная ценность и как она формируется. Радикальная критика, конечно, поставила под вопрос методологию и идеологическую основу традиционных позиций и вынудила произвести переоценку общепринятого образа мышления. Но из этого не следует, как предполагают более строгие ее адепты, что ситуация безнадежна. Интеллектуальное сближение, несомненно, возможно на самых разных позициях[51]. Один из подходов, предлагаемый здесь, – попытаться разобраться в понятии культурной ценности, разложив его на составляющие элементы, для того чтобы более четко артикулировать его многогранную природу. Если такой подход сумеет прояснить понимание материала, из которого образуется культурная ценность, это облегчит дальнейшую операционализацию концепции культурной ценности и позволит утвердить ее значение наряду со значением экономической ценности.
Мы вернемся к этим проблемам, включая вопрос измерения, в более прагматичном ключе в гл. V, в которой рассматривается культурная ценность наследия.
Может ли экономическая ценность охватить культурную ценность?
Каков бы ни был окончательный приговор относительно возможностей идентификации и измерения культурной ценности, на материале этих двух глав видно, что понятия экономической и культурной ценности выступают как различные концепции, которые следует разделять при рассмотрении оценки культурных благ и услуг в экономике и в обществе. Такой вывод может показаться противоречащим общепринятой экономической теории, основанной на индивидуальных предпочтениях. Нам могут возразить, что все элементы, которые мы идентифицировали в качестве культурной ценности, с тем же успехом осмысляются через экономическую теорию индивидуальной полезности. Поскольку неоклассическая теория ничего не говорит про источник индивидуальных предпочтений, такие предпочтения вполне могут возникнуть у человека благодаря внутреннему процессу культурной оценки, на которую влияют любые культурные критерии или нормы, считающиеся важными для внешнего окружения и оценивающиеся в соответствии со шкалой культурных ценностей собственного изобретения. Таким образом считается, что если этот индивид ставит объект А выше в эстетическом, духовном или другом смысле, чем объект В, он будет готов больше заплатить за объект А, чем за объект В, при прочих равных условиях. Тогда разница в цене спроса может интерпретироваться как мера различия в культурной ценности.
Предположение о том, что готовность платить охватывает весь спектр того, что мы предложили в качестве культурной ценности, и что в связи с этим отдельная концепция культурной ценности избыточна для экономического анализа, нуждается в серьезном дальнейшем изучении.
Есть основания утверждать, что готовность платить является неадекватным или неподходящим показателем культурной ценности. Самое очевидное – представление о том, что культурная ценность заложена в предметах или других культурных явлениях, существующих независимо от реакции на эти предметы со стороны потребителя. Если бы это было так, то для существования ценности не требовался бы опыт переживания этой ценности индивидом, и поэтому независимо от того, готов ли индивид поступиться другими благами и услугами, чтобы приобрести данный объект, это не будет иметь никакого отношения к наличию культурной ценности объекта. Конечно, может случиться, что признание индивидом внутренней культурной ценности может побудить его заплатить больше за предметы, содержащие ее, но ценность эта будет существовать вне зависимости от того, сделает ли он это или нет.
Однако нет необходимости постулировать внутреннюю или абсолютную ценность для того, чтобы установить существование культурной ценности независимо от экономической ценности. Отложим в сторону абсолютистский аргумент и будем исходить из того, что культурная ценность вносит несомненный вклад в индивидуальную полезность, но с некоторой характерной особенностью. По ряду причин культурную ценность невозможно идентифицировать посредством индивидуальной готовности платить. Во-первых, недостаточное владение информацией о культурном предмете или процессе лишает возможности сформулировать надежное суждение о готовности за него платить. Если такая недостаточная информированность оказывается широко распространенной, это может поставить под сомнение использование предпочтений индивидов как основы для суждений о культурной ценности данного предмета или процесса. Во-вторых, некоторые характеристики культурной ценности не могут быть выражены в категориях предпочтений. О некоторых качествах, имеющих первоочередное значение для какого-нибудь аспекта культурной ценности, информированный индивид высказывается не как о лучших или худших, но только как о качественно разных – например, красная, а не синяя картина, абстрактная, а не фигуративная. В-третьих, некоторые характеристики культурной ценности могут измеряться, если вообще это возможно, по шкале, не переводимой в денежный эквивалент: например, индивид не получает никакой выгоды или пользы от данной ценности, и поэтому готовность платить отсутствует. Однако индивид может признавать культурную ценность рассматриваемого феномена – художественного произведения, музыкального исполнения, фильма или исторической достопримечательности – и способен сформулировать суждение о его культурной значимости в соответствии с подходящими критериями. При таких обстоятельствах индивид определенным образом ранжирует предметы с точки зрения культуры, но будет ранжировать их иначе с точки зрения готовности платить. Наконец, некоторые проблемы могут возникнуть при использовании индивидуальной готовности платить в качестве показателя культурной ценности, когда рассматриваемый феномен (например, культурный опыт) возникает благодаря тому, что индивид – член группы. Здесь мы имеем в виду не стандартные проблемы безбилетничества в случае готовности платить за общественные блага, но скорее те случаи, когда индивиды получают выгоды только как члены группы – например, преимущества национальной идентичности, чувства причастности или принадлежности к группе, которое, скажем, может возникнуть в театральном зале. Такие преимущества могут в пределе существовать в некотором коллективном смысле, будучи зависимыми от существования группы; их нельзя полностью выносить за скобки для тех индивидов, из которых состоит группа; стало быть, сумма индивидуальных готовностей платить за предполагаемую выгоду может оказаться неадекватным отражением ее культурной ценности.
Мы обсуждали эти отличительные характеристики концепции культурной ценности с точки зрения формирования и выражения индивидуальных предпочтений. Положения, выдвинутые выше, остаются релевантными, даже если мы расширим понятие формирования ценностей в трансакциональном контексте, где оценка культурной ценности производится на основе переговорного процесса, включающего взаимообмен и взаимодействия между индивидами. Люди формируют суждения о культурной ценности не только при помощи интроспекции, но и в процессе обмена с другими людьми. Мы вернемся к этому вопросу в гл. VI, где рассматривается образование стоимости произведений искусства.
Остается еще один вопрос: может ли экономическая ценность включать культурную ценность? Экономист, вполне охотно признавая, что существуют разные концепции культурной ценности, может возразить, что это неважно для экономики и не имеет отношения к функционированию экономических систем. Однако, как мы уже указывали, взгляд на экономику, исключающий культурный аспект деятельности индивидуальных экономических агентов и институтов, в которых они участвуют, скорее всего будет страдать от серьезных недостатков в объяснении и понимании поведения. Если интерес к культурной ценности действительно оказывает некоторое воздействие на принятие решений на микро– и макроуровне, каким-то образом влияя на распределение ресурсов, его нельзя игнорировать при экономическом анализе.
Таким образом, мы продолжаем настаивать на необходимости рассмотрения экономической и культурной ценности как разных сущностей: каждая из них по-своему важна для понимания стоимости любого культурного товара. Если это так, полезно спросить, как два этих типа ценности соотносятся между собой. Для упрощения нашей дискуссии предположим, что культурную ценность, как и экономическую, можно свести к единой независимой статистике, определяемой в отношении отдельных культурных товаров как консенсуальное суждение, суммирующее различные элементы, из которых состоит культурная ценность. Возьмем в качестве примера два произведения искусства. Если одно ценится выше, чем другое, на основе предложенных нами критериев и получает больше очков на постулируемой единой шкале культурной ценности, можно ожидать, что оно будет иметь большую цену на рынке (благодаря более высокой готовности платить) и, следовательно, более высокую внешнюю экономическую ценность. Экстраполирование этого соотношения на большее количество работ может подсказать некоторую корреляцию, возможно, даже высокую, между очками по экономической и культурной шкале; и действительно, такие корреляции демонстрировались (с использованием очень ограниченной интерпретации культурной ценности) в отношении современного искусства[52].
Но такая позитивная корреляция едва ли будет идеальной по рассмотренным выше причинам, в силу которых культурная ценность является весьма своеобразным феноменом. Не только некоторые компоненты культурной ценности потеряются в этом разделении, но также и внутренние связи между компонентами окажутся противоречивыми. Более того, в некоторых случаях общие отношения между экономической и совокупной культурной ценностью будут лежать в отрицательной области. Иными словами, независимо от того, какой критерий культурной ценности считается применимым – единый или множественный, мы будем сталкиваться с контрпримерами, в которых высокая культурная ценность ассоциируется с низкой экономической ценностью, и наоборот. Например, при наличии норм «высокой культуры» (консервативной, элитарной, господствующей, абсолютистской) атональная классическая музыка окажется примером товара с высокой культурной, но низкой экономической ценностью, а телевизионная «мыльная опера» – товаром высокой экономической/низкой культурной ценности. В контексте исторического наследия можно выявить множество примеров активов с низкой экономической и высокой культурной ценностью; так, Натаниэль Личфилд пишет:
бывшие прядильные фабрики имеют значительную культурную ценность для археологии промышленности, но не имеют рыночной ценности как собственность, поскольку больше не могут использоваться в своей исходной функции[53].
Применение: случай художественного музея
Чтобы проиллюстрировать концепции, рассматриваемые в данной главе, обратимся к реальному культурному феномену, случаю художественного музея[54] и посмотрим, как можно применять на практике некоторые аспекты теории.
Музеи могут представлять для разных людей разные вещи: для художников это витрина для демонстрации их работ; для историков искусства – важнейшее хранилище предметов их профессионального интереса; для музейного работника они выполняют жизненно важную функцию по передаче информации сообществу об искусстве и культуре; для урбаниста они являются мекками культурного туризма и отдыха; для архитектора представляют прекрасную возможность прославления традиций прошлого или изобретения новых традиций; и, наконец, для экономиста они являются некоммерческими фирмами, мотивированными сложной и многоаспектной объективной функцией, и предметом разнообразных экономических и не экономических ограничений[55]. Рассмотрим теперь разные способы, которыми художественные музеи вносят свой вклад в экономическую и культурную ценность[56]. В последующих разделах мы будем рассматривать экономическую и культурную оценку по отдельности.
Предвосхищая более подробный анализ культурного капитала в гл. III, мы можем здесь сказать, что экономическая ценность художественного музея складывается из стоимости активов, представленных зданием и его содержимым, и потока услуг, предоставляемых этими активами.
Что касается стоимости активов, здесь нетрудно концептуализировать и подсчитать стоимость недвижимости, принадлежащей музею, хотя такие расчеты могут оказаться чисто номинальными, если музей располагается в здании большого исторического и культурного значения, которое вряд ли когда-нибудь будет выставлено на рынке. Однако гораздо больше проблем возникает с интерпретацией экономической ценности или учетной стоимости содержимого музеев, когда к произведениям искусства, археологическим ресурсам и т. д. пытаются применить стандартные методы оценки активов и процедуры бухгалтерского учета[57]. Но каковы бы ни были практические трудности коцептуализации и измерения в отдельных случаях, в целом нетрудно допустить, что содержимое художественных музеев имеет учетную цену, измеряющую заложенную в них экономическую ценность. В таком контексте можно считать, что приобретение и выведение произведений из активов ведет к изменению объема запасов, что сказывается в дальнейшем на притоке наличности и балансе института.
Что касается потока услуг, предоставляемых художественным музеем, их можно разделить их с экономической точки зрения на исключаемые частные блага, неисключаемые общественные блага и полезные экстерналии и рассматривать экономическую ценность каждой группы по очереди[58].
1. Частные блага.
Музеи производят целый ряд частных благ и услуг, доступных непосредственному потреблению индивидами или же каким-либо образом вносящих вклад в дальнейшее экономическое производство. Главное среди них, с точки зрения взаимодействия музея с публикой, – прямая ценность потребительского опыта посетителей. Экономическая потребительская ценность музея для его посетителей может измеряться общей ценностью доходов от входных билетов (средняя цена за билет, умноженная на количество посетителей за определенный промежуток времени) вместе с прибавочной ценностью, полученной посетителями. Если вход в музей бесплатный, то прямая потребительская ценность измеряется только прибавочной ценностью для посетителей. Посетители также могут покупать товары в магазине при музее, и тогда прибавочная ценность для музея, за вычетом расходов на поставку таких товаров, также включает отчисления по добавленной стоимости в выработке музея.
Кроме того, музей, как правило, производит другие услуги, которыми пользуются частные лица и чья стоимость является частью экономической стоимости, производимой институтом. Например, формальная образовательная деятельность музея – обучение групп школьников и т. д. – приносит одновременно и частные, и общественные выгоды; если количество человеческого капитала, связанного с индивидами, прошедшими подобное обучение, увеличивается, они могут получить частные экономические выгоды в будущем в форме более высокой продуктивности, более высоких заработков и других потребительских преимуществ. Кураторские услуги и услуги по хранению, предоставляемые музеем другим организациям или индивидам, например, коллекционерам, также могут создавать экономическую ценность, которая может найти, а может и не найти реализацию через денежные средства, поступающие на счета музея. Более того, музей может приносить непосредственные выгоды художникам через свою функцию, в соответствии с которой он демонстрирует их произведения публике.
Последний пункт, имеющийся в этом не претендующем на полноту списке частных благ и услуг, предоставляемых музеем, – это материальные и нематериальные награды, которые он может давать непосредственно тем, кто его поддерживает материально и не только. Хотя щедрость у таких людей может быть мотивирована альтруизмом или чувством социальной или культурной ответственности, в результате увеличивается полезность для них самих, и это находит реальное экономическое выражение.
2. Общественные блага.
В ряду коллективных выгод, обеспечиваемых музеем, самая очевидная – польза для общества от существования данного музея. «Общество» может определяться на местном, региональном, национальном и/или международном уровне, в зависимости от размера и важности данного музея: от муниципальной галереи небольшого города, которую ценят только местные жители, до музеев Прадо, Лувра, Уффици и разнообразных музеев Гугенхайма, которые ценят и местные, и не местные жители. Под этой рубрикой можно объединить следующие выгоды, которые предоставляет художественный музей:
• вклад, который музей вносит в публичное обсуждение искусства, культуры и общества;
• роль, которую музей играет в определении культурной идентичности, как в специфических категориях, так и в более общем смысле;
• стимулы, которые музей создает для творческого труда профессиональных и непрофессиональных художников;
• ценность, которую индивиды извлекают из возможности посещения музея, которой они могут воспользоваться в будущем ради себя или ради других;
• испытываемое людьми чувство, что музей и его содержимое имеют ценность как наследие для будущих поколений;
• польза для общества от формальных и неформальных образовательных услуг, предоставляемых музеем;
• связь с другими культурами, которую художественный музей обеспечивает либо гражданам в своей стране, либо тем, кто пришел извне и хочет больше узнать о культуре места, в котором находится;
• выгода, которую люди извлекают из самого существования такого института как художественный музей, т. е. знание о том, что в культурном ландшафте существует такой элемент, независимо от того, посещает данный индивид этот музей или нет.
Экономическая ценность всех этих выгод от общественных благ поддается измерению по отдельности или (с большей легкостью) в совокупности как готовность платить, выраженная бенефициарами, получающими эти выгоды, оцениваемая с использованием таких методов, как описанные выше методы условной оценки. Полученная в результате экономическая ценность музейных общественных благ может быть уникальным образом атрибутирована данному институту, если оценки получены путем сравнения ситуаций с музеем и без музея, т. е. как приращение производства общественных благ, вызванное наличием музея.
Еще один тип неисключаемых общественных благ может быть произведен художественным музеем, если он занимается исследовательской работой. Если вклад исследований в теорию искусства, историю искусства, хранение, кураторство и т. д. оказывает влияние на общественную сферу, на других исследователей и действующих художников, а также способствует приросту знания в целом, тогда эти исследования имеют экономическую ценность. Но общественные выгоды от научных исследований, как известно, оценить очень трудно, в теории можно выявить последствия и назначить цену, но на практике эти выгоды часто измеряются, если вообще измеряются, только как через затраты, вложенные в их создание.
3. Экстерналии.
Наконец, художественные музеи могут породить экстерналии, непреднамеренные побочные или внешние эффекты, которые, тем не менее, могут оказаться благотворными (или дорогостоящими) для тех, кто с ним сталкивается. Например, присутствие музея в городской зоне может создавать рабочие места и доход, а также другие экономические последствия для окружающих предприятий и живущих поблизости семей. Такие последствия могут сыграть важную роль при экономической оценке местной или региональной экономики и часто используются директорами музеев в качестве оправдания для увеличения финансирования музея соответствующими государственными структурами. Однако, хотя чистая оценка внешних эффектов в принципе является важной составляющей общей экономической ценности такой структуры, как художественный музей, имеются концептуальные трудности измерения, связанные именно с тем, настолько «чистой» можно считать измеренную ценность. Например, так называемый «коэффициент», или эффекты «второго порядка» от проекта по государственному финансированию музея могут просто не учитываться при оценке затрат и выгод, поскольку точно такие же выгоды может дать другой похожий проект, на который будет выделен инвестиционный капитал.
В соответствии с многогранной концепцией культурной ценности мы можем считать, что культурная ценность художественного музея возникает из множества различных источников. В целях данного анализа составляющие культурной ценности могут быть разделены на две категории, те, что содержатся внутри и порождаются произведением искусства, хранящимся и/или выставляемым музеем, и те, что возникают в связи с институциональной средой в целом, т. е. благодаря музею как таковому. Рассмотрим эти два источника различных составляющих культурной ценности.
Произведения искусства, составляющие коллекцию художественного музея, могут рассматриваться как сосредоточение разного рода культурной ценности. Те, кто принимает понятие внутренней, или присущей ценности, полагают, что культурная ценность некоторым образом хранится в произведении искусства, как вино в бутылке; его можно пить время от времени, но оно каким-то образом постоянно пополняется, так что его количество с возрастом увеличивается. Конечно, такая трактовка произведений искусства как хранилищ ценности слишком буквальна; и все же можно допустить, что их культурная ценность некоторым образом вездесуща, хотя оценка, которой они подвергаются в качестве артефактов, может существенно варьироваться от индивида к индивиду и с течением времени. Независимо от того, какой точки зрения придерживаться, можно сказать, что роль художественного музея в хранении, реставрации и сохранении произведений искусства, находящихся в его ведении, действительно указывает на природу произведения искусства как вместилища культурной ценности и что такая ценность потенциально содержит любую из составляющих или же все разом (эстетические, духовные, исторические и т. д.).
Более того, экспонирование произведений, как входящих в коллекцию, так и привезенных на выставки, дает музею возможность для реализации культурной ценности произведений как непрерывного процесса во времени, посредством которого транслируются послания и информация, создается смысл и обеспечивается просвещение и развлечение. Критерии для оценки создаваемых таким образом культурных ценностей, судить ли о них с точки зрения индивидуального зрителя или с точки зрения общества, могут быть извлечены из разных дискурсов, соответствующих источникам или составляющим культурной ценности, обсуждавшимся выше. Так, например, через экспонирование произведений искусства художественный музей вносит свой вклад в формирование культурной ценности, определяемой по эстетическим критериям (критическая оценка и реакция на сами произведения в соответствии с положениями науки об эстетике); историческим критериям (место произведения в истории искусства); социальным критериям (связь произведений с обществом и транслируемое ими сообщение об организации общества, властных отношениях, политических структурах и процессах) и т. д.
Помимо того, что выставленные произведения искусства создают культурную ценность в индивидуальном порядке или как некоторая значимая совокупность произведений, художественный музей также создает культурную ценность через сам факт своего существования и работы в качестве института. Прежде всего он делает это, создавая особую среду, в которой можно наслаждаться искусством. Это нечто большее, чем просто физическая инфраструктура, которую он предоставляет, хотя комфортабельное, уютное и дружелюбное окружение тоже очень важно. Но важнее всего то, каким образом художественный музей может выразить целесообразность и значимость искусства и культуры в связи с тем местом, которое он занимает в индивидуальном и социальном опыте. Например, воздействуя на индивидуальную реакцию, музей может укрепить чувство общих ценностей, эгалитарный, в отличие от элитарного, подход к искусству[59]. В этом широком социальном контексте музей может повлиять на формирование культурной ценности (или ценностей) в сообществе через участие в дебатах об искусстве, обществе, культуре, политике. Он может делать это с позиций, считающихся консервативными или радикальными, правыми или левыми, буржуазными или пролетарскими, традиционными или инновационными, или же может стремиться к некоторой нейтральности. Какова бы ни была его позиция, функционирование художественного музея в качестве потенциального локуса формирования и обеспечения культурной ценности (в более широком смысле – культуры), отрицать нельзя.
Художественные музеи как культурные институты могут также вносить вклад в культурную ценность совершенно иным образом, а именно в качестве архитектуры, в особенности как инструмент, позволяющий современным архитекторам практиковать свою профессию. Список возведенных за последнее время художественных музеев, выступающих в качестве архитектурных «шедевров», с каждым часом растет. Особый вызов, связанный с необходимостью создать пространство, предназначенное для того, чтобы демонстрировать произведения искусства, но в то же время обладающее пластическими и пространственными характеристиками, делающими произведением искусства само это здание, ценится современными архитекторами, а также находит отклик у публики. Посетители недавно построенных музеев, кажется, в равной мере мотивированы и желанием побывать в самих зданиях, и желанием посмотреть работы, которые в них хранятся. Таким образом, некоторые художественные музеи вносят вклад в создание и передачу культурной ценности способом, независимым от более частных культурных целей[60].
Путь вперед
Случай художественного музея показывает на конкретном примере, что и экономическая, и культурная ценность являются многогранными феноменами, которые необходимо разобрать на составляющие для лучшего понимания. В случае экономической ценности различные составляющие могут быть объединены благодаря общей основе для их оценки. Но для культурной ценности таких единиц измерения не существует, и сложные проблемы представления суммированных или совокупных суждений остаются. Необходимо показать, каким образом экономическая ценность и культурная ценность, будучи идентифицированы по отдельности, участвуют в процессе принятия агентами решений, имеющих и экономические, и культурные последствия. Мы еще вернемся к этим вопросам и, в частности, рассмотрим проблемы идентификации и измерения экономической и культурной ценности проектов по сохранению культурного наследия в гл. V, создание экономической и культурной ценности в творчестве художников в гл. VI и влияние различных типов ценности на политическую арену в гл. VIII.
Выводы
В этой главе мы утверждали, что вопрос о ценности имеет фундаментальное значение для понимания отношений между экономикой и культурой и что экономическая и культурная ценность должны рассматриваться по отдельности как разные концепции в любом теоретическом конструировании ценности в экономическом и культурном дискурсе. Возможно, фундаментальные идеи о предпочтениях и выборе, возникающие и в экономической, и в культурной теории, сумеют дать общую исходную точку формирования ценности. Но при выработке понятия ценности и трансформации ценности либо в экономическую цену, либо в какую-то оценку культурной значимости эти две области начинают расходиться. Экономисты занимаются самообманом, когда считают, что экономика может полностью вобрать в себя культурную ценность и что методы экономической оценки способны поймать в свои сети все релевантные аспекты культурной ценности. В многосторонних дебатах о культуре в современной экономической среде необходимо бороться с тенденцией к доминированию экономической интерпретации мира, чтобы не упустить из виду важные элементы культурной ценности. Если мы хотим создать завершенную теорию, эффективную для процесса принятия решений, жизненно необходимо, чтобы культурная ценность была поставлена наравне с экономической при рассмотрении совокупной ценности культурных благ и услуг.
III. Культурный капитал и устойчивость
Нина. Единственная живая жизнь в прошлом и будущем… настоящее – только интерлюдия… странная интерлюдия, в которой мы призываем прошлое и будущее в свидетели того, что мы живем.
Юджин О'Нил, «Странная интерлюдия»[61]
Введение
Один из способов преодоления пропасти между экономикой и культурой – подход, отражающий важнейшие характеристики культурных феноменов в контексте как экономического, так и общекультурного дискурса. Таким подходом может стать концепция «культурного капитала». Хотя этот термин используется в социологии для описания индивидуальных характеристик, в экономике он получает распространение в несколько иной форме, гораздо более близкой к той идее капитала, которая долгое время была стандартом для экономической мысли. Как мы увидим ниже, концепция культурного капитала в экономическом смысле позволяет артикулировать и материальные, и нематериальные проявления культуры как долгосрочные запасы ценности и источники выгод для индивидов и групп. Подобные атрибуты культуры должны стать узнаваемыми как для теоретиков культуры, так и для экономистов; в таком случае концепция культурного капитала может дать общее основание, от которого может отталкиваться анализ экономических и культурных аспектов культурных благ, услуг, поведения и других явлений.
В этой главе мы выдвигаем идею культурного капитала, показывая, как ему можно дать определение наряду с другими формами капитала в экономике и как с теоретической точки зрения он встраивается в экономический и культурный универсум. Его долговременные характеристики, отражающие преемственную или эволюционную природу культуры, могут рассматриваться в рамках, задаваемых концепцией устойчивости – областью анализа, в которой особенно выделяется межпоколенческая проблематика. Поскольку нет единичного определения, способного передать диапазон характеристик, охватываемых понятием устойчивости, мы предлагаем ряд принципов или критериев, при помощи которых можно судить об устойчивости применительно к культурным феноменам. В целом идеи, разрабатываемые в данной главе, дадут полезную основу для обсуждения роли культуры в развитии и для обсуждения культурного наследия (гл. IV и V соответственно[62]).
Что такое «культурный капитал»?
Рассмотрим вначале интуитивный подход к этому вопросу. Из определения культуры, предложенного в гл. 1, вытекает, что многие проявления культуры могут считаться культурными активами. Когда культура выражается в материальной форме, например, как произведение искусства или историческое здание, понятие культуры как актива легко принять. Точно так же и более обширные культурные феномены, такие как традиции, язык, обычаи и т. д., рассматриваемые как нематериальные активы, которыми обладает группа, могут быть вписаны в подобную рамку. В гл. II в качестве ключевого элемента при разделении культурных и экономических явлений мы выявили формирование ценностей. Таким образом, мы можем отделять культурный капитал от «обычных» экономических активов, апеллируя к разного рода ценностям, которые они создают. Культурный капитал создает и культурную, и экономическую ценность, «обычный» капитал – только экономическую. Как эта концепция сочетается с традиционными интерпретациями капитала в экономике? Современный экономический анализ выявляет три главные формы капитала[63]. Во-первых, физический капитал, т. е. запас реальных благ, таких как завод, машины, здания и т. д., которые используются для создания новых благ, обсуждался в экономике с самого начала. Не так давно Гэри Беккер и другие выявили второй тип капитала, человеческий капитал: идея о том, что воплощение навыков и опыта в людях представляет собой запас капитала, который точно так же важен для производства продукта в экономике, как и физический капитал[64]. Позднее, по мере осознавания воздействия проблем окружающей среды на экономическую деятельность у экономистов получил признание феномен природного капитала: запас возобновляемых и невозобновляемых ресурсов, которые дает природа, в том числе экологические процессы, управляющие их существованием и использованием. Хотя идея «природы» как источника услуг, как может показаться, происходит из интереса классических политэкономистов к земле как фактору производства (а также была важна для Маршалла и неоклассицистов, как показывает Салах Эль Серафи), формальный анализ природного капитала – совсем недавнее явление, лежащее в основе новой дисциплины экологической экономики[65]. Культурный капитал, которому мы сейчас дадим более точное определение, может быть описан как четвертый тип капитала, безусловно отличающийся от трех других.
Исходя из толкований экономической и культурной ценности, разработанных в гл. II, мы можем определить культурный капитал как актив, воплощающий, хранящий или обеспечивающий культурную ценность в дополнение к любой экономической ценности, которой он может обладать. Как и в случае с другими видами капитала, важно различать запасы и потоки. Запас культурного капитала, указанный в общем или конкретном виде, отсылает к количеству такого капитала, существующему в данный момент, измеряемому в любых подходящих расчетных единицах, таких как физические количества или совокупная оценка. Этот запас капитала со временем порождает поток услуг, которые могут потребляться или использоваться для производства последующих благ и услуг.
Как указывалось выше, культурный капитал существует в двух формах. Во-первых, он может быть материальным, принимающим форму зданий, мест, достопримечательностей, территорий, произведений искусства, таких как картины и скульптуры, артефактов и т. д. Он включает материальное культурное наследие, не ограничиваясь им. Такой капитал может иметь по большей части сходные характеристики с физическим капиталом: он создается деятельностью человека; длится некоторый период времени; может прийти в упадок, если не заниматься его поддержанием; может увеличиться благодаря инвестиции текущих ресурсов в его производство; как правило, его можно покупать и продавать; и он обладает финансовой ценностью, которая поддается измерению. Его культурная ценность в качестве запаса или потока может быть в свою очередь установлена с использованием индикаторов или критериев культурной ценности, о которых мы говорили выше.
Во-вторых, культурный капитал может быть нематериальным, принимая форму интеллектуального капитала в виде идей, практик, верований и ценностей, которые разделяет группа в соответствии с интерпретацией культуры, изложенной в гл. I. Интеллектуальный капитал тоже существует в форме произведений искусства, таких как музыка и литература, которые возникают как общественные блага. Запас интеллектуального капитала может прийти в упадок из-за невнимания или увеличиться благодаря новым инвестициям. Он тоже порождает со временем поток услуг. Поддержание существующего интеллектуального капитала, как и создание нового, требует ресурсов.
Подводя итог всему сказанному на данный момент, мы можем рассматривать и материальный, и нематериальный культурный капитал, существующие в данное время, как запас капитала, оцениваемый с экономической и с культурной точки зрения как актив. Этот запас порождает поток капитальных услуг, который может напрямую попадать к конечному потребителю или же в сочетании с другими материалами использоваться для производства дальнейших благ и услуг, имеющих экономическую и культурную ценность. Эти последующие блага и услуги могут сами становиться частью конечного потребления или сочетаться с другими исходными материалам и т. д. На любой стадии этой производственной последовательности культурные блага и услуги могут приплюсовываться к запасу капитала, увеличивая его уровень или ценность на старте нового периода. Точно так же запас капитала может со временем приходить в упадок и требовать затраты ресурсов на свое поддержание. Чистый эффект всех этих добавлений и извлечений из запаса капитала в течение данного периода времени указывает на чистое сальдо инвестиций/дизинвестиций в культурном капитале за этот период, измеряемое как в экономических, так и в культурных единицах, и определяет начальную ценность запаса в начале следующего периода.
Теперь рассмотрим пристальнее экономическую и культурную ценность и связь между ними в контексте культурного капитала. Возьмем единицу материального культурного капитала, как он определялся выше, например историческое здание. Этот актив может иметь экономическую ценность, возникающую из самого его физического существования в качестве здания и не зависящую от его культурной ценности. Но эта экономическая ценность, скорее всего, существенным образом возрастет благодаря культурной ценности. Так, мы видим причинную связь: культурная ценность порождает экономическую ценность. Например, индивиды, возможно, захотят заплатить за воплощение культурного содержания этого актива, предложив за него более высокую цену, чем та, которую они заплатили бы только за его физическую сущность. Иными словами, историческое здание может воплощать в себе «чистую» культурную ценность, в соответствии с той или иной шкалой, предложенной ранее, и в то же время иметь экономическую ценность в качестве актива, порождаемую его физическим и культурным содержанием. Номинальная стоимость других форм материального культурного капитала будет интерпретироваться аналогичным образом, хотя значение компонентов может различаться. Большая часть экономической ценности произведения искусства, например картины, вытекает из его культурного содержания, так как их чисто физическая стоимость (куски холста, куски древесины) в основном не имеет значения. Нечто подобное можно сказать об экономической и культурной ценности потока благ и услуг, который обеспечивают основные активы материального культурного капитала.
Нематериальный культурный капитал, с другой стороны, характеризуется иными отношениями между культурной и экономической ценностью. Например, запас существующей музыки и литературы, запас культурных нравов и убеждений или запас языка имеют огромную культурную ценность, но не имеют экономической, поскольку не могут продаваться как активы, за исключением того, что могут продаваться и покупаться права на будущие доходы (например, отчисления по авторским правам на музыку или литературу). Скорее потоки услуг, порождаемые этими запасами, создают культурную и экономическую ценность активов. Опять-таки, часть экономической ценности таких потоков существует в чисто физических или механических категориях как общественные блага, необходимые по чисто экономическим причинам, – например, утилитарная функция языка или использование фоновой музыки в холлах и лифтах гостиниц. Но экономическая ценность потока услуг, связанных с этими культурными активами, скорее всего, возрастет с учетом их культурной ценности.
Из этих рассуждений следует, что, поскольку культурная и экономическая ценность определяются независимо друг от друга, но одна оказывает влияние на другую, ранжирование индивидуальных или коллективных оценок активов культурного капитала (или потока услуг, который они обеспечивают) с точки зрения культурной и экономической ценности дадут сходные, но ни в коем случае не идентичные иерархии предпочтений. Иными словами, как мы уже отмечали выше, скорее всего будет наблюдаться корреляция между культурной и экономической ценностью единиц культурного капитала, но отношение между ними ни в коем случае не будет идеальным[66].
Другие значения термина «культурный капитал»
В обиходном словоупотреблении наиболее вероятный контекст, в котором можно будет услышать фразу «культурная столица» (омоним «культурного капитала» в английском языке, cultural capital. – Примеч. пер.), – это претензии различных городов на выдающееся место или особый культурный статус. Так, Флоренция видит себя культурной столицей Тосканы, а возможно, и всей Италии, а Лондон или Нью-Йорк могут претендовать на титул культурной столицы мира в жанре живых выступлений и т. д. Но обратившись к научному значению термина, мы увидим, что он с меньшей или большей степенью строгости используется в нескольких разных дискурсах. Как отмечалось во введении к данной главе, наиболее устоявшееся употребление этого термина, вероятно, имеет место в социологии и культурологии, вслед за Пьером Бурдье утверждающей, что индивиды обладают культурным капиталом, если могут компетентно судить о «высокой» культуре. Согласно Бурдье, данный вид культурного капитала существует в трех состояниях: инкорпорированном, т. е. в форме длительных диспозиций ума и тела индивида; объективированном, когда культурный капитал обращен в культурные блага, вроде «картин, книг, словарей, инструментов, машин и т. д.)»[67]; и институционализированном, когда инкорпорированный культурный капитал признается, например, в форме академического резюме. Для Бурдье инкорпорированная форма – самая важная. Он отмечает, что большинство свойств культурного капитала можно вывести из того факта, что в своем фундаментальном состоянии он связан с телом и предполагает инкорпорирование[68]. Таким образом, ясно, что концепция культурного капитала в том виде, в каком ее разработал Бурдье, в своей индивидуалистической форме практически идентична понятию человеческого капитала в экономике.
Идеи Бурдье получили распространение в ряде смежных областей, таких как литературоведение, где его концепция культурного капитала привлекалась для выявления литературного «канона». Схожим образом из концепции производства культурных товаров у Маркса была выведена интерпретация культурного капитала, затронувшая важные области социологии и политической экономии. Так, например, марксистский взгляд на транснациональные корпорации предполагает, что они создают капитал из культуры[69]. Кроме того, идея культуры общества как некоторым образом включающей запасы капитала давно уже получила хождение в антропологических исследованиях, как это явствует, например, из анализа коммодификации и оценки примитивного искусства[70].
Большая часть эмпирического тестирования социологической концепции культурного капитала апеллирует к совокупному воздействию образования и предложенного Бурдье понятия «габитус» на экономические и социальные исходы. На этом уровне, когда затрагиваются отношения между индивидами и группами в обществе, идея культурного капитала оказывается тесно связанной с идеей социального капитала, как его определял не только Бурдье, но и другие социологи, например Джеймс Коулман[71]. Этой концепции не так просто дать определение, но в основном она зависит от существования социальных сетей и отношений доверия между гражданами[72]. В своем знаменитом исследовании Роберт Патнэм показал, как такая социальная инфраструктура внесла свой вклад в экономический рост в некоторых сельских областях Италии[73]. Хотя ясно, что феномены, которые охватывает идея социального капитала, достаточно реальны и оказывают воздействие на экономическое поведение способами, поддающимися идентификации, есть некоторые сомнения относительно того, должен ли социальный капитал рассматриваться как форма капитала или как нечто иное. Элинор Остром указывает на ключевые различия между физическим и социальным капиталом, а именно на то, что социальный капитал исчерпывается не при использовании, а при отсутствии использования, его трудно увидеть и измерить и вряд ли можно выстроить путем целенаправленного вмешательства[74]; она рассматривает социальный капитал как важнейшее дополнение к физическому и человеческому капиталу. Такие экономисты, как Кеннет Эрроу и Роберт Солоу, с другой стороны, считают, что такого рода различия указывают на то, что социальный капитал в действительности и вовсе не является капиталом; Эрроу предлагает отказаться от метафоры капитала в данном контексте, отчасти на том основании, что социальный капитал не подразумевает сознательного жертвования настоящим ради выгоды в будущем[75].
В конце концов, концепция культурного капитала у Бурдье, а также некоторые интерпретации социального капитала относятся к характеристикам индивидов и в этом качестве приближаются к идее человеческого капитала в экономике. Так, например, когда Ричард Цвайгенхафт, изучая влияние культурного и социального капитала на показатели, которые демонстрируют студенты Гарварда, использует термин «культурный капитал» для обозначения различных форм знания и навыков, а «социальный капитал» – для обозначения знакомства с нужными людьми, создания сетей и т. д., получается почти полная параллель с человеческим капиталом[76]. Тем не менее, учитывая тесную связь между культурным капиталом, как он понимается в социологии, и человеческим капиталом, как он понимается в экономике, полезно спросить, работает ли эта связь в обратную сторону, т. е. до какой степени человеческий капитал в понимании экономистов охватывает культуру. Иногда определение человеческого капитала в рамках экономики эксплицитно включает в себя культуру как одну из составляющих. Так, например, Роберт Костанца и Херман Дьюли говорят о человеческом капитале как о «запасе образования, навыков, культуры и знания, заключенных в самих людях»[77]. Некоторые экономисты открыто расширили понятие человеческого капитала, включив в него культуру, в поисках эмпирических объяснений различных явлений. Например, изучая разницу в оплате труда эмигрантов и рабочих-американцев на американском рынке труда, некоторые авторы именно «культуре» приписали необъяснимый разрыв в доходах, оставшийся после учета всех остальных переменных, связанных с человеческим капиталом. Рецензируя некоторые из этих исследований, Стивен Вудбери, однако, утверждает, что подобное стремление запихнуть культуру в рамки человеческого капитала лишает теорию ее эмпирического содержания, потому что становится невозможной любая независимая оценка «культуры»[78].
В заключение нашего короткого обзора существующих значений термина «культурный капитал» мы рассмотрим предположение, выдвинутое Фикретом Беркесом и Карлом Фольке. Эти авторы рассматривают отношения между природным и физическим капиталом в системной перспективе и утверждают, что требуется «третье измерение» для объяснения того, как природный капитал может использоваться для создания физического капитала[79]. Беркес и Фольке используют термин «культурный капитал» для обозначения способностей людей адаптироваться и менять свою природную среду. Концепция имеет моральные, этические и религиозные обертоны. Несмотря на то что данная работа не ссылается на человеческий капитал как таковой, может показаться, что представление авторов о культурном капитале имеет хотя бы некоторое сходство с этим феноменом, поскольку описывает врожденные и/или приобретенные характеристики людей, воздействующие на их производительные способности и в качественном, и в количественном аспекте. Возможно, вместо термина «культурный капитал», которым у Беркеса и Фольке обозначаются исключительно отношения человека с окружающей средой, следовало бы использовать альтернативный термин «адаптивный капитал», даже если он хуже подходит для системной перспективы, в которой они работают. В конце концов, предпочтительнее приписать термину «культурный» более широкий спектр значений.
Параллели между культурным и природным капиталом
Определение культурного капитала имеет много общего с определением природного капитала на схожей стадии его развития. Мы дадим краткий очерк этого определения в контексте литературы по экологической экономике.
Представление об окружающей среде как о капитале берет свое начало у политических экономистов XIX в., таких как Давид Рикардо и Томас Мальтус, которых интересовал вклад сельскохозяйственных земель в производство товаров и услуг в экономике. Но современная формулировка концепции природного капитала для описания «свободных даров природы» восходит к концу 1980-х годов и появлению подраздела экологической экономики в 1990-е. По общему мнению, природный капитал включает четыре составляющие[80]: а) возобновляемые природные ресурсы, такие как запасы рыбы и леса; б) невозобновляемые ресурсы, такие как нефть и полезные ископаемые; в) экосистемы, поддерживающие качество земли, воздуха и воды; г) поддержание широкого генетического фонда, то, что называют биологическим многообразием. В этой концепции мы можем провести различие между запасом природного капитала (рыба и обитатели леса, полезные ископаемые и т. д.) и потоком природных услуг, которые они обеспечивают (ловля рыбы и заготовка древесины, переработка отходов, борьба с эрозией почв, эстетические услуги ландшафта и т. д.). В некоторых формулировках поток услуг называется «природным доходом», отражая различие «капитал/доход», которое в начале века предложил Ирвинг Фишер[81].
Теперь начинает вырисовываться параллель между природным и культурным капиталом. Материальный культурный капитал, унаследованный из прошлого, может рассматриваться как нечто близкое к природным ресурсам, которые также были даны нам в качестве наследства; природные ресурсы возникли как дары природы, культурный капитал был создан творческой деятельностью человека. Они оба требуют от нынешнего поколения заботы. Проблему устойчивости мы будем разбирать ниже. Далее, можно увидеть сходство между функцией природных экосистем по поддержанию «природного равновесия» и функцией того, что можно назвать «культурными экосистемами», по поддержанию культурной жизни и жизнеспособности человеческой цивилизации. Наконец, понятие многообразия, столь важное для мира природы, возможно, играет еще более значимую роль в культурных системах. Характерной чертой большинства культурных благ является то, что они уникальны; все оригинальные произведения искусства, например, отличаются от всех остальных, все исторические здания и достопримечательности индивидуально идентифицируются как отличные от других. Таким образом, культурное многообразие, возможно, является еще более широкой концепцией, чем многообразие в природе.
Помимо вопроса устойчивости, есть еще две важные проблемы, связанные с природным капиталом и имеющие отношение к культурному контексту. Первая относится к оценке запасов капитала. В теории природного капитала вопрос об оценке был предметом значительных разногласий. Недавняя попытка квантификации глобального природного капитала подверглась серьезной критике со стороны комментаторов, возражавших против предположительно двойной бухгалтерии и против явно бесконечной цены, приписывавшейся нескольким предметам[82]. Тем не менее упражнение было плодотворным хотя бы просто потому, что привлекло внимание к трудностям «установления цены бесценного». Попытки оценить запас культурного капитала, скорее всего, также будут осложнены тем фактом, что потребуется найти не только экономическое мерило, но также и какие-то формы культурной оценки.
Вторая проблема связана с отношениями между разными формами капитала и с тем, в какой степени одна форма может подменяться другой. В обсуждении природного капитала большое внимание уделялось возможностям замены природного капитала физическим. Основной аргумент заключался в следующем: если рукотворный капитал может произвести те же самые блага и услуги, что природный капитал, то нам не стоит так волноваться о поддержании уровня природного капитала в будущем (например, о сохранении запаса исчерпаемых ресурсов), поскольку его сможет заменить физический капитал. Позиции, занимаемые в этом споре, варьируются от нулевой замещаемости на одном конце спектра до полной замещаемости на другом. Наиболее вероятный консенсус состоит в том, что, хотя некоторые аспекты услуг, обеспечиваемых природным капиталом, можно будет заменить рукотворным капиталом, есть и такие аспекты, в отношении которых такая замена невозможна[83]. В случае культурного капитала легко вообразить, что предоставление многих экономических функций культурных активов может быть обеспечено замещающим физическим капиталом: услуги предоставления крова, удобств и т. д., оказываемые историческими зданиями, точно так же могут быть предоставлены и другими сооружениями, не имеющими культурного содержания. Однако, поскольку определение культурного капитала отличается от физического капитала в плане воплощения и производства культурной ценности, можно ожидать, что у культурного и физического капитала будет нулевая замещаемость с точки зрения производства культурного продукта[84].
Устойчивость и культурный капитал
Взгляд на культуру как на капитал влечет за собой выстраивание долгосрочной перспективы: динамический, эволюционный, интертемпоральный и межпоколенческий аспекты культуры, проблемы спроса и предложения, производства и потребления. Теоретическую рамку для такого взгляда дает концепция устойчивости, термин, чаще всего связываемый с тематикой окружающей среды, где слово «устойчивый», как правило, ассоциируется со словом «развитие». Устойчивое развитие объединяет идею устойчивого экономического развития, подразумевающую, что экономический рост не замедляется или прекращается, а до известной степени самовоспроизводится, и идею экологической устойчивости, означающую сохранение и увеличение спектра природных ценностей путем поддержания экосистем в природном мире. Те, кто осмыслял устойчивое развитие и писал о нем в последние десять лет, так или иначе признают определение термина, выдвинутое Всемирной комиссией по окружающей среде и развитию (Комиссия Брунтланд), которая указывает, что устойчивое развитие – «это развитие, удовлетворяющее потребности настоящего, не ущемляя способность будущих поколений удовлетворять свои потребности»[85]. Таким образом, ключевой момент устойчивости – вопрос о межпоколенческой передаче и сопутствующие ей процессы принятия решений.
Мы более подробно изучим отношения между культурой и устойчивым развитием как таковым в гл. IV. Здесь наша задача состоит в том, чтобы выяснить, как концепция устойчивости расширяет наше понимание культурного капитала. Цель ставится следующим образом. Культурный капитал существует как источник культурных благ и услуг, которые приносят пользу как в настоящем, так и в будущем. Как индивиды или как общество мы можем позволить культурному капиталу со временем прийти в упадок, мы можем его поддерживать или увеличивать, короче говоря, управлять им так, как этого требуют наши индивидуальные и коллективные цели. Какими принципами мы должны руководствоваться при принятии решений?
Если четко артикулировать то, что подразумевает устойчивость применительно к культуре, возникнет набор подобных принципов. В этой главе мы формулируем принципы применительно к культурному капиталу в самом широком смысле этого понятия, в соотношении с конститутивным и функциональным определением культуры; в гл. V мы возвращаемся к этим принципам и рассматриваем их специфическое приложение к проектам по культурному наследию.
Мы выявили шесть принципов, измерений или критериев, которые определяют устойчивость применительно к культурному капиталу.
Поток культурных благ и услуг, произведенный культурным капиталом, обеспечивает материальную и нематериальную выгоду людям как индивидам и членам общества. Ценность подобной выгоды складывается из экономической и культурной ценности. Тогда первый критерий, позволяющий судить об устойчивости, – это производство материальных благ в форме прямой полезности для потребителей, извлекаемой из этих источников экономической и культурной ценности. Кроме того, мы также должны идентифицировать более общий класс нематериальных выгод, получаемых от культурного капитала, общих выгод, связанных с общественными благами и получаемых коллективом от культурного капитала; в целом их можно обозначить как улучшение качества жизни, которое обеспечивает культура. Мы более детально рассмотрим эти выгоды в гл. V.
Термин «межпоколенческая справедливость», или «межвременная справедливость в распределении», употребляется для обозначения справедливости в распределении благосостояния, полезности или ресурсов между поколениями. Хотя принципы межпоколенческой справедливости применимы к отношениям между любым набором поколений в любой момент времени, его практический интерес сосредоточен, что неудивительно, на заботе ныне живущих о благополучии будущих поколений. Понятие межпоколенческой справедливости применимо в отношении культурного капитала, потому что запас культурного капитала – это то, что мы унаследовали от наших предшественников и что передадим будущим поколениям. Вопросы межпоколенческой справедливости возникают в связи с доступом к этому капиталу и в связи с его продуктами. Справедливость в доступе к культурному капиталу может анализироваться точно так же, как справедливость в межпоколенческом распределении выгод от любого рода капитала.