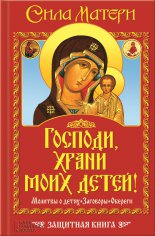От смерти к жизни. Как преодолеть страх смерти Данилова Анна

– Она хочет как лучше, – отвечаю я. – Нам всем важно, чтобы ты поел, понимаешь?
Ты смотришь на меня жалобно и задумчиво, потом придвигаешь к себе изувеченную сосиску и принимаешься ковырять ее вилкой.
Психолог празднует победу…
В один из дождливых, уже почти летних дней мы гуляем по больничной территории. Ты не можешь идти сам, и я везу тебя, совершенно взрослого, в дурацкой раскладной коляске. Я поручаю тебе держать над собой раскрытый цветной зонт, и ты говоришь со мной оттуда, из-под зонта.
Мы болтаем о какой-то чепухе, и вдруг ты замолкаешь, а потом задаешь вопрос. Взрослым, будничным голосом. Ты спрашиваешь:
– Скажи, я жив или умер?
Я замираю, с размаху попав в сердечный перебой, выдыхаю, считаю до трех, собираясь, как боксер после пропущенного удара. Ты ждешь ответа.
– Конечно, ты жив, – отвечаю я. – Мы с тобой говорим, гуляем…
– Глупости! Ты же знаешь, что разницы нет, жив человек или умер.
– Как это? – спрашиваю я.
– Очень просто. Когда я умру, все будут думать, что я на самом деле умер, а я буду жить на облаке. Ты придешь ко мне играть на облако?
Мне не хватает воздуха. Под навесом скамейка, я закатываю туда коляску и сажусь напротив тебя. Теперь мои глаза почти вровень с твоими.
– Я не знаю, как играют на облаке, – говорю я.
Ответ следует немедленно, и я понимаю, что ты над этим думал:
– Все просто. Ты играешь, а под ногами не земля, а пух. Придешь?
Теперь моя очередь думать. Ты ждешь. Мы оба понимаем, что у нас очень важный разговор, в котором нельзя врать и отделываться пустыми фразами.
– Понимаешь, я не уверена, что меня пустят к тебе на облако, – решаюсь я, – то есть, понимаешь, ты-то будешь там играть, это стопудово. А вот меня – не знаю, пустят меня или нет. У них там на облаке свои правила.
– Чепуха, – с великолепной уверенностью говоришь ты, – пустят. Я попрошу, и тебя пустят.
– Если ты попросишь – пустят, – не раздумывая отвечаю я.
– Придешь?
– Приду.
В тот день мы больше не говорим ни о чем важном. Приходят папа с сестренкой, вы возитесь с какой-то игрушкой, и все хорошо. Только ты кашляешь. Ты сильно кашляешь.
Дата выписки назначена.
Накануне тебя смотрит новый консилиум, профессора читают бумаги, рассматривают результаты последних тестов. Твою маму вызывают в кабинет заведующего отделением. Из кабинета она выходит мертвой. Она идет, дышит, смотрит, но, кажется, из нее выдернули стержень, и она не падает только по инерции, только потому, что привыкла стоять.
– Они сказали – все.
В тот день мы покупаем тебе машину.
Тебе совсем худо, кашель бьет тебя, ты запиваешь его водой, но он унимается только на минуту. Мама твоя складывает – а точнее, перекладывает с места на место какие-то вещи. Мама готовится к выписке. Удивительно, каким количеством барахла немедленно обрастает человек, стоит ему поселиться где угодно, даже там, где жить нельзя в принципе. Впрочем, так ли уж немедленно… Вы с мамой прожили в больнице год.
Я делаю вид, что помогаю.
Ты лежишь лицом к стене, а потом вдруг поворачиваешься и говоришь:
– Я видел самую лучшую машину в жизни.
– Где? – спрашиваю я. – На улице?
– В магазине. Я расскажу тебе. Она такая большая, что я смог в нее сесть и ехать. Она почти как настоящая, только лучше настоящей.
– Папа возил его гулять, – объясняет мама, – они были в игрушечном магазине.
– И там была эта машина?
– Да.
– Собирайтесь, – говорю я, – мы едем за машиной.
– Нельзя, – отвечаешь ты взрослым голосом, – она дорогая. Мы не можем себе позволить.
Господь милосердный, как я боюсь этого твоего усталого взрослого голоса…
– Собирайтесь.
Мы больше не должны ни о чем спрашивать врачей. Нам теперь все можно. Нас почти выписали…
Мы выходим за территорию больницы. Я, мама, ты в коляске. До магазина несколько минут пешком. Но мы идем дольше, гораздо дольше. Ты кашляешь. Мы останавливаемся, и ты пьешь воду.
Машина и правда здоровенная. Блестящая, красная, с рулем, кожаным сиденьем и педалями внизу. Можно крутить педали и ехать, но на это едва ли хватит твоих сил.
– Тут есть аккумулятор, – говорит продавец, – она может ехать сама. На лице у продавца – смесь жалости и страха, и от моего взгляда он отворачивается.
Никогда, никогда не смотри так на того, кому плохо…
Я вытаскиваю кошелек. Выгребаю всю наличность.
Обратно мама тащит коляску, а ты, неимоверно гордый, едешь на машине. На аккумуляторе.
Ты очень слабенький, ты кашляешь, но ты счастлив.
– Так дорого! – говорит мама.
– Плевать, – отвечаю я.
Мы готовы к выписке.
Накануне коллега по работе приносит мне матрал.
Это запрещенные таблетки. Почти наркотик. Купить можно только по специальному рецепту. У нее матрал остался после смерти мамы. Матрал – это обезболивающее. Когда я думаю, что он тебе потребуется, мне делается так страшно, что от страха ломит затылок.
Запершись в факультетском туалете, я вскрываю упаковку, перекладывая пилюли в пузырек от витаминов.
Я собираюсь дать их твоей маме на вокзале.
На крайний случай, хотя обе мы знаем, что в КРАЙНЕМ случае матрал ни черта не помогает…
Но вокзала не случается.
Твоя мама звонит мне ночью, и я слышу в трубке: «Мы никуда не поедем. Я буду бороться».
Честно говоря, твоя мама застает меня с телефоном в руках. Сидя в темноте на кровати, я собираюсь звонить и просить: «Не уезжайте».
Егор вот уже пару месяцев работает по контракту в Киеве.
В Москве стоит пустой квартира Егора.
Туда вы и перебираетесь на следующий день.
Со всем барахлом, которым обросли за год в больнице, и даже с моей громадной машиной: ты наотрез отказываешься оставить ее «другим детям».
На нас сердятся.
Точнее, сердятся на меня, потому что сердиться на Нику как-то не с руки, даже тем врачам, чьи предписания она нарушает.
– Я еще могу понять маму, – говорит мне доктор, – но вы-то! Вы! Вы трезвая женщина! Это бесполезно, поймите хоть вы! Вы замучаете мальчика, вы ничего не добьетесь!
Я понимаю. Чего ж тут не понять.
С этого дня мы «вне закона».
Больница исчерпала свои возможности.
Больше нам рассчитывать не на кого. Если тебе станет хуже, приедет обычная детская «скорая», а она не сможет помочь такому ребенку, как ты. На всей территории твоей огромной страны тебе больше никто не может помочь.
Не помню, кто первым произносит слово «Германия».
Лечение в Германии стоит огромных денег.
Откуда их взять?
Больше нам не поможет ни один даже самый прекрасный фонд. При фондах работают экспертные советы. В них входят самые лучшие врачи. Советы решают, целесообразно ли посылать ребенка на лечение за границу, имеет ли смысл собирать эти огромные деньги.
Это хорошая и умная практика. Доктора редко ошибаются, за их плечами громадный опыт, они знают всех своих коллег в Америке и Европе, они знают, как лучше.
Я убеждена в этом сейчас, я была убеждена и тогда, когда твоя мама сказала: «Германия».
Но, как оказалось, есть случаи, когда самое твердое убеждение не приносит покоя.
Мы начинаем сбор «средств на лечение».
Пишем какие-то обращения в Интернете, открываем счета.
Я собираюсь с духом и звоню знакомой журналистке, своей выпускнице.
Есть, говорят, люди, которые любят телевизионную камеру. Некоторые даже стараются попасть на экран.
Я терпеть не могу своих изображений, даже на фотографиях, что уж говорить про кино. Журналистка ходит за мной второй месяц с уговорами сняться для какой-то «социально значимой» передачи. Я второй месяц отфутболиваю бедную девушку, но тут выбирать не приходится. На войне все средства хороши, а мы – на войне.
Я соглашаюсь на съемки.
Это невероятно, но, попав из больницы «домой», ты начинаешь чувствовать себя лучше.
Отменяется жестокая диета, и тебе разрешают лопать любимые котлеты с картошкой. Ты чуточку поправляешься, ты уже не такой прозрачный и хрупкий. Даже кашель, кажется, отступает.
Ты гуляешь, играешь с сестренкой, ты очень счастлив.
К съемкам мы готовимся.
У журналистки Ксюши есть целый сценарий.
Накануне мы с мамой объясняем тебе, зачем нужны съемки, как надо себя вести. Ты слушаешь нас молча, сосредоточенно катая по столу маленькую пожарную машину.
В день съемок я приезжаю рано утром. На тебя надевают новую футболку, мы с мамой пудрим носы.
– Только не реви! – говорю я.
Ника кивает, запрокидывая голову, чтоб не текли слезы. Ника накрасила ресницы. Ника красавица.
Когда в дверь звонит съемочная группа, мы с тобой идем открывать.
– Ах, какой кадр! – радуется оператор. – Вы не могли бы взять ребенка на руки и открыть нам дверь еще раз? А я пока установлю свет!
Я беру тебя на руки и уношу обратно в комнату. Ты сидишь на широком подоконнике и смотришь в коридор.
– Почему они так быстро ушли? – спрашиваешь ты.
Я объясняю тебе про свет и кадр.
На лестнице слышна возня, наконец звенит звонок.
– Ну, неси меня! – приказываешь ты.
Ты, оказывается, отлично понял принцип телевидения.
Мы входим в кадр, под яркий свет софита, ты поднимаешь тоненькую ручонку и говоришь громко: «Привет, телевизор!»
Съемки продолжаются долго. Мы с твоей мамой по очереди что-то говорим в микрофон. Наконец, оператор наводит камеру на тебя.
– Мне бы хотелось снять ребенка за игрой, – говорит он.
Я высыпаю твои машинки в огромное кресло. Оператор ставит свет.
Пока он возится с аппаратурой, ты напрочь забываешь про всех нас.
У тебя пожар. Горит игрушечный дом, с воем мчит на помощь пожарная машина, ползут в небо раздвижные лестницы…
– Ай, спасите меня! – противным голосом вопишь ты.
– Кто это так кричит? – спрашивает оператор.
– Пассажирник, – отвечаешь ты.
– Пассажир, наверное? – уточняет журналистка Ксюша.
– Нет, пассажир – это хороший человек, он рыцарь. А это – пассажирник, он гад и паразит.
– И ты его спасешь?
– Спасу, – отвечаешь ты и кричишь голосом храброго пожарного: – Потерпи, мы идем на помощь!
– Зачем же спасать пассажирника, если он гад и паразит? – интересуется Ксюша.
– Он попал в беду, – спокойно говоришь ты, – а если человек попал в беду, его надо спасать. Даже если это пассажирник.
Передача выходит в эфир.
Мы имеем сокрушительный успех.
Следом выходит вторая. Приезжают журналисты с центральных каналов.
Эти съемки проходят уже без меня. Я уезжаю в отпуск.
Твоя повеселевшая мама уговаривает меня «ехать и ни о чем не думать».
Деньги так и сыплются на счет, и от этого мы почему-то решаем, что все будет хорошо.
Перед отъездом я снова говорю с врачом. Говорю не о тебе, о другом ребенке, которому собрали денег на какой-то мудреный препарат. О тебе он спрашивает коротко: «Жив?»
Я страшно обижаюсь на этот вопрос. Я просто смертельно обижаюсь. Доктор смотрит на меня грустно и устало.
Из отпуска я приезжаю в сентябре. Туда, на теплое греческое море, где нет ни слез, ни печали, а есть только оранжевые закаты над Термическим заливом и тишина, наполненная полынным запахом и стрекотом кузнечиков, туда приходит эсэмэска от твоей мамы.
Деньги собраны.
Тебя берет на месяц клиника в Петербурге, а потом – Германия.
* * *
В конце сентября вы с мамой собираетесь в Питер.
В этом городе у вас нет ни единой знакомой души.
Вот что забавно: я знаю немало взрослых умных людей, которые при упоминании Интернета поджимают губы и цедят презрительно: «Помойка».
Я живу в сети много лет, большая часть дорогих мне людей найдена именно там, на бесконечных анонимных просторах.
Поверьте мне, это чудо. Настоящее чудо.
Рождественский сочельник, за два часа до начала мессы я сижу в кафе, за окнами метет метель, мороз, и из метельной темноты ко мне приходят незнакомые люди (незнакомые, но почему-то невероятно красивые все до одного!) и приносят деньги на операцию для пятилетней таджички с опухолью мозга, и я в сотый раз борюсь с желанием поймать за руку и спрашивать, глядя в глаза: «Кто ты? Как это вышло, что ты бросил дела, замотался в свитера и шарфы, ехал через весь город ради маленькой дочки таджикской посудомойки – если завтра не ляжет на операционный стол, то умрет? Как это может быть в этом безумном мире и ненормальном городе, где всякий за себя?»
Неужели это все правда, настоящая правда – про волхвов и Рождество?
И можно – прости мне, Господи, это дерзкое сравнение – повесить в Интернете маленькую звездочку, и из темноты придут люди?
Интернет
В хосписе умирает ребенок. Девочка.
Слава Богу, обезболена. Но ничего не хочет и все время молчит. Волонтер Лена умудряется с ней поговорить. Само по себе чудо. Девочке лет шесть, и больше всего в той, нормальной жизни она любила конфеты – цветное драже в ярких пакетиках. А недавно ей рассказали, что такое драже бывает не в пакетиках, а в упаковках в виде игрушек. Пластмассовый чудик, свернешь ему голову, а там – драже. И вот ей бы так хотелось… Глупости, конечно. Можно обойтись. Но я даже не стану вас просить представить себе, что эта глупость, кажется, последнее, чего хочет ваш ребенок.
Лена тут же, в хосписном коридоре, выходит с телефона в Интернет и выясняет, что купить человечка с конфетной головой в Москве нельзя. Их специально изготавливают для сети магазинов «Дьюти-фри», и только в аэропортах, в ничейных зонах, их продают пролетающим мимо, красивым, здоровым и благополучным…
Я пишу просьбу в блоге: вдруг кто летит?
Через час – десяток комментариев:
– Сегодня вечером вылетаю из Стамбула.
– Через три часа лечу из Женевы…
– Дозвонилась мужу в аэропорт, час до посадки, летит из Токио, уже купил…
К ночи в хосписе появляются люди с пакетами из «Дьюти-фри».
Девочка хохочет, разглядывая десятки разноцветных уродцев с конфетными головами. Хохочет – впервые за долгие месяцы…
В одной из московских клиник мальчишка мечтает о тракторе. Это какой-то особенный немецкий игрушечный трактор, он совсем как настоящий, у него гусеницы и руль, и в нем сидит маленький тракторист, это лучший из всех тракторов, и его нет в продаже. Есть кран, и грузовик есть, а трактора нет. А надо – трактор.
Не проходит и десяти минут, и в комментариях в блоге я читаю: «Вы меня не знаете, работаю на фирме, которая продает эти игрушки, со склада в Серпухове уже едет машина. Деньги? Что вы, какие деньги, я заплатила, лишь бы он был здоров!»
Взрослая девочка, лет тринадцать, все в том же хосписе. Влюблена в мальчика из модного ансамбля – какую-то особенную музыку они там играют. Что я в этом понимаю?..
А ей осталось жить, наверное, неделю…
– Здравствуйте, вы меня не знаете, я администратор группы, мне сказали про девочку, мы готовы приехать и сыграть… Конечно, бесплатно, что вы!
День и ночь я благодарю Бога за тех, кого вижу на маленьких квадратиках юзер-пиков, за тех, чьих имен я часто не знаю. Россия, Германия, Англия, Израиль, Канада. Если в каждую точку, откуда отвечают мне люди, воткнуть флажок, на суше, наверное, не останется пустого места.
* * *
Но сейчас задача у меня посложнее. Мне нужно пристроить тебя в Питере.
Мама едет с тобой одна, и нужен кто-то, кто встретит на вокзале, отвезет, устроит…
Я пишу в блоге: «Дорогие питерцы!»
Так в моей жизни появляются Оля, Аня, Саша.
Саша – журналист. Аня, Сашина жена, специалист по японской керамике из Эрмитажа. Оля – искусствовед, преподаватель университета.
Потом, позже, выяснится, что он – суровый бородатый мужик, а она – невероятно красивая и хрупкая, и у них есть дочка, которую они зовут смешным именем – Тузик, и им можно позвонить днем и ночью, что с ними классно пить пиво и болтать о кино и литературе, и о дальних странах, и о ближних людях, что они – моя персональная надежда и опора.
А Оля – своя настолько, что хитрая память подрисовывает какие-то несуществующие детские воспоминания, где мы с ней вместе то ли на море, то ли во дворе, то ли в школе.
Все у нас было разное: и море, и дом, и школа. Только ты у нас общий, мальчик Митя Панин. Но и этого оказывается довольно.
Едва знакомые мне по переписке в «Живом журнале», они встречают тебя с мамой на Московском вокзале, везут через весь город в больницу.
Искусствовед Оля – Господи, Ты не знаешь, как я жила без Оли? – привозит еду, которую ты согласен есть, привозит игрушки, еще какую-то чепуху. Главное – они все не бросают Нику одну.
Сколько это стоит – не остаться в беде одному?
Довольно часто мне попадаются люди, умеющие взвешивать и оценивать. Они часто задают вопрос: «А это рационально?» Рационально ли собирать огромные деньги на операцию, которая, скорее всего, ничего не даст? Стоит или нет? Или разумнее потратить как-то иначе? На более перспективного ребенка?
Башат
Башат появился одним сентябрьским днем, когда я услышала в телефонной трубке тихий мужской голос с сильным акцентом.
– Мой мальчик болен. Помогите, пожалуйста, доктор сказал, вы поможете.
Было плохо слышно, я кое-как записала имя, фамилию и диагноз. Я трус. Я предпочитаю не знать деталей. Опухоль и опухоль, что тут говорить, я не врач, зачем оно мне. Это они, вторые после Бога, пусть решают, курабельна она или нет. Какое мое дело…
– Пришлите мне фотографию! – сказала я в телефон. – Мне срочно нужна фотография ребенка. Я напишу про вас в Интернете, и мы будем собирать деньги. Вы поняли меня?
– Да, – тихо ответил папа.
Он плохо говорил по-русски, и я полезла в сетевую энциклопедию, чтобы проверить, правильно ли записала диагноз. И зачем-то прочла всю статью. Глиобластома. Лечение – паллиативное. То есть, говоря русским языком, облегчение состояния безо всякой надежды на излечение. Тринадцать лет. Маленький братик. Папа – шофер. Мама – домохозяйка. Деревня где-то на Шелковом пути, в благословенных краях, где горы сини, перевалы туманны, дороги пыльны и сладок виноград.
В эту минуту снова зазвонил телефон, и мне сказали:
– Я фотограф. Я ничего не понимаю. Какая им нужна фотография? Они пришли в ателье, и я не пойму, о чем они толкуют. Дали ваш номер. Кого снимать? На какой документ?
Я не успеваю сгруппироваться, сформулировать вежливое и обтекаемое и вываливаю на голову неповинного фотографа все сразу: и про тринадцать лет, и про горы и перевалы, и про глиобластому, дери ее черт. И он молчит, и слушает, и говорит потом: «О Господи. Я сниму, я хорошо сниму, и денег не надо, и я сейчас пришлю вам фото по электронной почте, диктуйте адрес!»
И проходит минут двадцать – и передо мной на экране черноглазый серьезный парнишка в аккуратной белой рубашке. Велели фотографироваться – и папа повел его к фотографу…
Я пишу в Интернете текст.
Я очень долго думаю над этим текстом. Если б я не прочла энциклопедию, было бы проще, но я знаю, что наша битва проиграна. А это трудно, это очень трудно – звать людей на заранее проигранную битву.
Я пишу как есть.
Про то, что все без толку. Про то, что не спасем. Про то, что оставить не можем… Пишу даже про папу и фотографа.
Люди приходят. Мы собираем деньги. Очень много денег. Делаем операцию. Потом – химию.
Башат прожил с нами еще год.
Много это или мало? Сколько стоит год жизни?
Это был неплохой год. Вначале Башат ходил в школу и очень просил, чтобы папа присылал мне его тетради. Он хотел, чтобы я знала: он отличник. Ему не стыдно помогать! Он пишет без ошибок, он прекрасно делит в столбик, и что там еще положено… На чистых листах нет помарок, а пятерки аккуратные и пузатые…
Потом почерк стал хуже.
Потом он перестал ходить в школу.
Нужно было ехать в Москву, и накануне папа отвел его на базар, и Башат вы брал мне в подарок смешного войлочного верблюда. Войлочный верблюд числится среди моих земных сокровищ…
Много это или мало – год?
За год он успел увидеть салют на Красной площади. Научить братишку читать. Покататься на кораблике по Москве-реке.
И уйти без боли. Во сне.
Весь этот год родители запоминали каждый его шаг. Каждое слово. Каждую улыбку. Каждый день…
Каждый день после его смерти мне звонил папа. Он рассказывал, как приходит мулла, как собирают соседей, как делают все «как полагается».
До сих пор каждый мой праздник начинается с тихого голоса в трубке.
– Мы вам так благодарны, – говорит мне папа Башата. – Пусть Аллах пошлет вам здоровье.
Именно тогда я понимаю одну очень важную вещь: перспективы – это очень существенно. Прогнозы лечения – очень важно. Но, в конечном итоге, значение имеет не это. Не слишком важно, сколько ты прожил, но очень важно – как. Спасти от смерти мы не можем.
Мы можем не бросить. Не оставить один на один с бедой.
* * *
Наступает октябрь.
И вот посреди золотого листопада мне звонит из Петербурга твоя мама. Билеты куплены, дата отъезда назначена. Вы улетаете в Гамбург.
И я еду в Петербург.
У меня в разгаре учебный год, и я еду на один день.
Убила бы, клянусь, убила бы того, кто сказал бы, что я еду прощаться. Но где-то совсем глубоко внутри, там, где болит с того самого первого дня, когда я тебя увидела, я знаю – прощаться.
Поезд приходит из дождливой Москвы в Петербург, зачарованный самым прекрасным из виденных мною в этом городе листопадов.
Меня встречает Оля, и мы едем на машине через весь Питер, по мостам, мимо дворцов и золотых парков, куда-то на окраину, где среди фантастического, залитого солнцем шороха и шепота осеннего парка стоит больница.
Я везу огромные мешки: московские девочки-волонтеры, твои веселые подружки, насовали мне игрушек, машинок, какой-то безумный бумеранг…
Белый коридор. Белый бокс. На стене нарисованы Винни-Пух и поросенок. Я обнимаю тебя и только тут вижу, что ножка у тебя в гипсе и ляйтунг примотан бинтом к тоненькой, до синевы тоненькой руке.