Лорд Джим. Тайфун (сборник) Конрад Джозеф
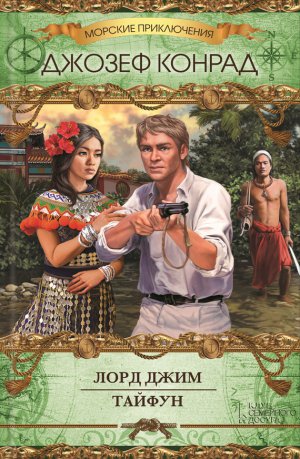
Вокруг было тихо; ухо не улавливало никаких звуков. Туман его чувств проплывал между нами, как бы потревоженный его борьбой, и в прорывах этой нематериальной завесы я отчетливо видел перед собой его, взывающего ко мне, – видел, словно символическую фигуру на картине. Прохладный ночной воздух, казалось, давил мое тело, тяжелый, как мраморная плита.
– Понимаю, – прошептал я, чтобы доказать себе, что могу стряхнуть овладевшую мною немоту.
– «Эвондель» подобрал нас как раз перед заходом солнца, – угрюмо заметил он. – Шел прямо на нас. Нам оставалось только сидеть и ждать.
После долгой паузы он произнес:
– Они рассказали свою историю.
И снова спустилось гнетущее молчание.
– Тут только я понял, на что я решил пойти, – добавил он.
– Вы ничего не сказали, – прошептал я.
– Что мог я сказать? – спросил он так же тихо. – …Легкий толчок. Остановили судно. Удостоверились, что оно повреждено. Приняли меры, чтобы спустить шлюпки, не вызывая паники. Когда была спущена первая шлюпка, налетел шквал, и судно пошло ко дну… Как свинец… Что могло быть еще яснее… – Он опустил голову. – …и еще ужаснее.
Губы его задрожали; он смотрел мне прямо в глаза.
– Я прыгнул – не так ли? – спросил он уныло. – Вот что я должен был пережить. Та история не имела значения.
На секунду он сжал руки, поглядел направо и налево во мрак.
– Это было так, словно обманывали мертвых, – пробормотал он, заикаясь.
– А мертвых не было, – сказал я.
Тут он ушел от меня – только так я могу это описать. Я увидел, что он подошел вплотную к балюстраде. Несколько минут он стоял там, словно наслаждаясь чистотой и спокойствием ночи. От цветущего кустарника в саду поднимался в сыром воздухе сильный аромат. Он подошел ко мне быстрыми шагами.
– И это тоже не имело значения, – сказал он с непоколебимым упорством.
– Быть может, – согласился я, чувствуя, что мне его не понять. В конце концов что я знал?
– Умерли они или нет, но мне не было оправдания, – сказал он. – Я должен был жить, – не так ли?
– Да, пожалуй, если стать на вашу точку зрения, – промямлил я.
– Я был рад, конечно, – небрежно бросил он, словно думая о чем-то другом.
– Огласка, – произнес он медленно и поднял голову. – Знаете, какая была моя первая мысль, когда я услышал?.. Я почувствовал облегчение. Облегчение при мысли, что эти крики… Я вам говорил, что слышал крики? Нет? Ну, так я их слышал. Крики о помощи… они неслись вместе с моросящим дождем. Воображение, должно быть. И, однако, я едва могу… Как глупо… Остальные не слыхали. Я их спрашивал после. Они все сказали – нет. Нет? А я их слышал даже тогда! Мне следовало бы знать… но я не думал – я только слушал. Очень слабые крики… день за днем. Потом этот маленький полукровка подошел ко мне и заговорил: «Патна»… французская канонерка… привели на буксире в Аден… Расследование… Управление порта… Дом моряка… позаботились о помещении для вас…» Я шел с ним и наслаждался тишиной. Значит, никаких криков не было. Воображение. Я должен был ему верить. Больше я уже ничего не слышал. Интересно – долго бы я это выдержал? Ведь становилось все хуже… я хочу сказать – громче.
Он задумался.
– Значит, я ничего не слышал! Ну что ж, пусть будет так. Но огни! Огни исчезли! Мы их не видели. Их не было. Если б они были, я поплыл бы назад, вернулся бы и стал кричать… молить, чтобы они взяли меня на борт… У меня был бы шанс… Вы сомневаетесь? Откуда вы знаете, что я чувствовал… Какое право имеете сомневаться?.. Я и без огней едва этого не сделал… понимаете?
Голос его упал.
– Не было ни проблеска света, ни проблеска, – грустно продолжал он. – Разве вы не понимаете, что, если бы огонь был, вы бы меня здесь не видели? Вы меня видите – и сомневаетесь.
Я отрицательно покачал головой. Эти огни, скрывшиеся из виду, когда шлюпка отплыла не больше чем на четверть мили от судна, вызвали немало разговоров. Джим утверждал, что ничего не было видно, когда прекратился ливень, и остальные говорили то же капитану «Эвонделя». Конечно, все покачивали головой и улыбались. Один старый шкипер, сидевший подле меня в суде, защекотал мне ухо своей белой бородой и прошептал:
– Конечно, они лгут.
А в действительности не лгал никто – даже старший механик, утверждавший, что огонь на верхушке мачты упал, словно брошенная спичка. Во всяком случае, то была ложь несознательная. Человек с больной печенью, торопливо оглянувшись через плечо, легко мог увидеть уголком глаза падающую искру. Никакого света они не видели, хотя находились неподалеку от судна, и могли объяснить это явление лишь тем, что судно затонуло. Это было очевидно и действовало успокоительно. Предвиденная катастрофа, так быстро завершившаяся, оправдывала их спешку. Не чудо, что они не искали другого объяснения.
Однако истина была очень проста, и как только Брайерли намекнул о ней, суд перестал заниматься этим вопросом. Если вы помните, судно было остановлено и лежало на воде, повернувшись носом в ту сторону, куда держало курс; корма его была высоко поднята, а нос опущен, так как вода заполнила переднее отделение трюма. Когда шквал ударил в корму, судно вследствие неправильного положения на воде повернулось носом к ветру так круто, словно его держал якорь. В результате все огни были в одну секунду заслонены от шлюпки, находившейся с подветренной стороны. Очень возможно, что, не исчезни эти огни, они подействовали бы как немой призыв… их мерцание, затерянное в темноте нависшего облака, обладало бы таинственной силой человеческого взгляда, который может пробудить чувство раскаяния и жалости. Огни взывали бы: «Я еще здесь… здесь…» А большего не может сказать взгляд самого несчастного человеческого существа. Но судно от них отвернулось, словно презирая их судьбу; оно покатилось под ветер, чтобы упрямо глядеть в лицо новой опасности – открытого моря; этой опасности оно странно избежало для того, чтобы закончить свои дни на кладбище судов, как будто ему суждено было умереть под ударами молотков. Каков был конец, предназначенный паломникам, я не знаю, но мне известно, что ближайшее будущее привело к ним около девяти часов утра французскую канонерку, возвращавшуюся на родину от острова Рэунаон. Отчет ее командира стал общественным достоянием. Канонерка немного свернула с пути, чтобы выяснить, что случилось с пароходом, который, погрузив нос, застыл на неподвижной туманной поверхности моря. На гафеле развевался перевернутый флаг – серанг догадался выбросить на рассвете сигнал бедствия, – но коки как ни в чем не бывало готовили обед на носу. Палубы были запружены, словно загон для овец; люди сидели на поручнях, плотной стеной стояли на мостике: сотни глаз впивались в канонерку, и ни звука не было слышно, словно на устах всех этих людей лежала печать молчания.
Француз-капитан окликнул судно, не добился вразумительного ответа и, удостоверившись с помощью бинокля, что люди на палубе не похожи на зачумленных, решил послать шлюпку. Два помощника поднялись на борт, выслушали серанга, попытались расспросить араба и ничего не могли понять; но, конечно, характер катастрофы был очевиден. Они были очень удивлены, обнаружив мертвого белого человека, мирно лежавшего на мостике.
– Fort intrigues par ce cadavre,[9] – как сообщил мне много лет спустя один пожилой французский лейтенант; я встретился с ним случайно в Сиднее в каком-то кафе, и он прекрасно помнил дело «Патны». Замечу мимоходом, что это дело удивительно умело противостоять забывчивости людей и все стирающему времени: казалось, оно было наделено какой-то жуткой жизненной силой, жило в памяти людей, и слова о нем срывались с языка. Я имел сомнительное удовольствие сталкиваться с воспоминанием об этом деле часто, – годы спустя, за тысячи миль от места происшествия, оно всплывало неожиданно в беседе, обнаруживалось в самых отдаленных намеках. Вот и сегодня вечером между нами речь зашла о нем. А ведь я здесь единственный моряк. Только у меня живы эти воспоминания. И все же это дело всплыло сегодня. Но если двое людей, друг с другом не знакомых, но знающих о «Патне», встретятся случайно в каком-нибудь уголке земного шара, между ними непременно завяжется разговор об этой катастрофе. Раньше я никогда не встречался с этим французом, а через час распрощался с ним навсегда, казалось, он был не особенно разговорчив – спокойный грузный парень в измятом кителе, сонно сидевший над бокалом с какой-то темной жидкостью. Погоны его слегка потускнели, гладко выбритые щеки были желты; он имел вид человека, который нюхает табак. Не знаю, занимался ли он этим, но такая привычка была бы ему к лицу. Началось с того, что он мне протянул через мраморный столик номер «Хом Ньюс», в котором я не нуждался. Я сказал – мерси. Мы обменялись несколькими невинными замечаниями, совершенно незаметно завязался разговор, и вдруг француз сообщил мне, как они были «заинтригованы этим трупом». Выяснилось, что он был одним из офицеров, поднявшихся на борт.
В кафе, где мы сидели, можно было получить самые разнообразные иностранные напитки, имевшиеся в запасе для заглядывающих сюда морских офицеров, француз потянул из бокала темную жидкость, похожую на лекарство, – по всем вероятиям, это был самый невинный cassis a l'eau,[10] – и, глядя в стакан, слегка покачал головой.
– Impossible de comprendre… vous concevez,[11] – сказал он как-то небрежно и в то же время задумчиво.
Я легко мог себе представить, как трудно было им понять. На канонерке никто не знал английского языка настолько, чтобы разобраться в истории, рассказанной серангом. Вокруг двух офицеров поднялся шум.
– Нас обступили. Толпа стояла вокруг этого мертвеца (autour de ce mort), – рассказывал он. – Приходилось заниматься самым неотложным. Эти люди начинали волноваться… Parbleu![12] Такая толпа…
Своему командиру он посоветовал не прикасаться к переборке – слишком ненадежной она казалась. Быстро (en toute hate) закрепили они два кабельтова и взяли «Патну» на буксир – вперед кормой к тому же. Принимая во внимание обстоятельства, это было не так глупо, ибо руль слишком поднимался над водой, чтобы можно было его использовать для управления, а этот маневр уменьшал давление на переборку, которая требовала, как выразился он, крайне осторожного обращения (exigeait les plus grands menagements). Я невольно подумал о том, что мой новый знакомый имел, должно быть, решающий голос в совещании о том, как поступить с «Патной». Хотя и не очень расторопный, он производил впечатление человека, на которого можно положиться; к тому же он был настоящим моряком. Но сейчас, сидя передо мной со сложенными на животе толстыми руками, он походил на одного из этих деревенских священников, которые спокойно нюхают табак и внимают повествованию крестьян о грехах, страданиях и раскаянии, а простодушное выражение лица скрывает, словно завеса, тайну боли и отчаяния. Ему бы следовало носить потертую черную сутану, застегнутую до самого подбородка, а не мундир с погонами и бронзовыми пуговицами. Его широкая грудь мерно поднималась и опускалась, пока он рассказывал мне, что то была чертовская работа, и я как моряк (en votre qualite de marin) легко могу это себе представить. Закончив фразу, он слегка наклонился всем корпусом в мою сторону и, выпятив бритые губы, с присвистом выдохнул воздух.
– К счастью, – продолжал он, – море было гладкое, как этот стол, и ветра было не больше, чем здесь…
Тут я заметил, что здесь действительно невыносимо душно и очень жарко. Лицо мое пылало, словно я был еще молод и умел смущаться и краснеть.
– Naturellement[13] они направились в ближайший английский порт, где и сняли с себя ответственность, – Dieu merci![14]
Он раздул свои плоские щеки.
– Заметьте (notez bien), все время, пока мы буксировали, два матроса стояли с топорами у тросов, чтобы перерубить их в случае, если судно…
Он опустил тяжелые веки, поясняя смысл этих слов.
– Что вы хотите? Делаешь то, что можешь (on fait ce qu'on peut), – и на секунду он ухитрился выразить покорность на своем массивном неподвижном лице.
– Два матроса… тридцать часов они там стояли. Два! – Он приподнял правую руку и вытянул два пальца.
То был первый жест, сделанный им в моем присутствии. Это дало мне возможность заметить зарубцевавшийся шрам на руке – несомненно, след ружейной пули; а затем – словно зрение мое благодаря этому открытию обострилось – я увидел рубец старой раны, начинавшийся чуть-чуть ниже виска и прятавшийся под короткими седыми волосами на голове, – царапина, нанесенная копьем или саблей. Снова он сложил руки на животе.
– Я пробыл на борту этой, этой… память мне изменяет (s'en va. Ah! Patt-na! C'est bien ca. Patt-na. Merci.) Забавно, как все забывается. Я пробыл на борту этого судна тридцать часов…
– Вы! – воскликнул я.
По-прежнему глядя на свои руки, он слегка выпятил губы, но на этот раз не присвистнул.
– Сочли нужным, – сказал он, бесстрастно поднимая брови, – чтобы один из офицеров остался на борту и наблюдал (pour ouvrir l'oeil…), – он вяло вздохнул, – и сообщался посредством сигналов с буксирующим судном, – понимаете? Таково было и мое мнение. Мы приготовили свои шлюпки к спуску, и я на том судне также принял меры… Enfin! Сделали все возможное. Положение было затруднительное. Тридцать часов. Они мне дали чего-то поесть. Что же касается вина, то хоть шаром покати – нигде ни капли.
Каким-то удивительным образом, нимало не изменяя своей инертной позы и благодушного выражения лица, он ухитрился изобразить свое глубокое возмущение.
– Я, знаете ли, когда дело доходит до еды и нельзя получить стакан вина… я ни к черту не годен.
Я испугался, как бы он не распространился на эту тему, ибо, хотя он не пошевельнулся и глазом не моргнул, видно было, что это воспоминание сильно его раздражило. Но он, казалось, тотчас же позабыл об этом. Они сдали судно «властям порта», как он выразился. Его поразило то спокойствие, с каким судно было принято.
– Можно подумать, что такие забавные находки (drole de trouvaille) им доставляли каждый день. Удивительный вы народ, – заметил он, прислоняясь спиной к стене; вид у него был такой, словно он не более чем куль муки способен проявлять свои эмоции.
В то время в гавани случайно находились военное судно и индийский пароход, и он не скрыл своего восхищения тем, с какой быстротой шлюпки этих двух судов освободили «Патну» от ее пассажиров. Вид у него был тупо-равнодушный, и тем не менее он был наделен той таинственной, почти чудесной способностью добиваться эффекта, пользуясь неуловимыми средствами, – способностью, которая является последним словом искусства.
– Двадцать пять минут… по часам… двадцать пять, не больше…
Он разжал и снова переплел пальцы, не снимая рук с живота, и этот жест был гораздо внушительнее, чем если бы он изумленно воздел руки к небу.
– Всех этих людей (tout ce monde) высадили на берег… и пожитки свои они забрали… никого не осталось на борту, кроме отряда морской пехоты (niarin's de l'Etat) и этого занятного трупа (cet interessant cadavre). За двадцать пять минут все было сделано…
Опустив глаза и склонив голову набок, он словно смаковал такую расторопность. Без лишних слов он дал понять, что его одобрение чрезвычайно ценно, а затем снова застыл в прежней позе и сообщил мне, что, следуя инструкции возможно скорее явиться в Тулон, они покинули порт через два часа…
– …и таким образом (de sorte que) многие детали этого эпизода моей жизни (dans cet episode de ma vie) остались невыясненными.
13
Произнеся эти слова и не меняя позы, он, если можно так выразиться, пассивно перешел в стадию молчания. Я составил ему компанию; и вдруг снова раздался его сдержанный хриплый голос, словно пробил час, когда ему полагалось нарушить молчание. Он сказал:
– Mon Dieu! Как время-то идет!
Ничто не могло быть банальнее этого замечания, но для меня оно совпало с моментом прозрения. Удивительно, как мы проходим сквозь жизнь с полузакрытыми глазами, притупленным слухом, дремлющими мыслями. Пожалуй, так оно и должно быть; и, пожалуй, именно это отупение делает жизнь для огромного большинства людей такой сносной и такой желанной. Однако лишь очень немногие из нас не ведали тех редких минут пробуждения, когда мы внезапно видим, слышим, понимаем многое – все, – пока снова не погрузимся в приятную дремоту. Я поднял глаза, когда он заговорил, и увидел его так, как не видел раньше. Увидел его подбородок, покоящийся на груди, складки неуклюжего мундира, руки, сложенные на животе, неподвижную позу, так странно и красноречиво говорившую о том, что его здесь попросту оставили и забыли. Время действительно проходило: оно нагнало его и ушло вперед. Оно его оставило безнадежно позади с несколькими жалкими дарами – седыми волосами, усталым загорелым лицом, двумя шрамами и парой потускневших погон. Это был один из тех стойких, надежных людей, которых хоронят без барабанов и труб, а жизнь их – словно фундамент монументальных памятников, знаменующих великие достижения.
– Сейчас я служу третьим помощником на «Victorieuse» (то было флагманское судно французской тихоокеанской эскадры), – представился он, отодвигаясь на несколько дюймов от стены.
Я слегка поклонился через стол и сообщил ему, что командую торговым судном, которое в настоящее время стоит на якоре в заливе Рашкеттер. Он его заметил – хорошенькое судно. Свое мнение он выразил бесстрастно и очень вежливо. Мне даже показалось, что он кивнул головой, повторяя свой комплимент:
– А, да! маленькое судно, окрашенное в черный цвет… очень хорошенькое… очень хорошенькое (tres coquet).
Немного погодя он повернулся всем корпусом к стеклянной двери направо от нас.
– Скучный город (triste ville), – заметил он, глядя на улицу.
Был ослепительный день, бесновался южный ветер, и мы видели, как прохожие – мужчины и женщины – боролись с ним на тротуарах; залитые солнцем фасады домов по ту сторону улицы закутались в облака пыли.
– Я сошел на берег, – сказал он, – чтобы немножко размять ноги, но…
Он не закончил фразы и погрузился в оцепенение.
– Пожалуйста, скажите мне, – начал он, словно пробудившись, – какова была подкладка этого дела – по существу (au juste)? Любопытно. Этот мертвец, например…
– Там были и живые, – заметил я, – это гораздо любопытнее.
– Несомненно, несомненно, – чуть слышно согласился он, а затем, как будто поразмыслив, прошептал: – Очевидно.
Я охотно сообщил ему то, что лично меня сильнее всего интересовало в этом деле. Казалось, он имел право знать: разве не пробыл он тридцать часов на борту «Патны», не являлся, так сказать, преемником, не сделал «все для него возможное». Он слушал меня, больше чем когда-либо походя на священника; глаза его были опущены, и, быть может, благодаря этому казалось, что он погружен в благочестивые размышления. Раза два он приподнял брови, не поднимая век, когда другой на его месте воскликнул бы: «Ах, черт!» Один раз он спокойно произнес: – Ah, bah! – а когда я замолчал, он решительно выпятил губы и печально свистнул.
У всякого другого это могло сойти за признак скуки или равнодушия; но он каким-то таинственным образом ухитрялся, несмотря на свою неподвижность, выглядеть глубоко заинтересованным и преисполненным ценных мыслей, как яйцо полно питательных веществ. Он ограничился двумя словами «очень интересно», произнесенными вежливо и почти шепотом. Не успел я справиться со своим разочарованием, как он добавил, словно разговаривая сам с собой: «Вот оно что. Так вот оно что».
Казалось, подбородок его еще ниже опустился на грудь, а тело огрузло на стуле. Я готов был его спросить, что он этим хотел сказать, когда все его тело слегка заколебалось как бы перед словоизвержением: так легкая рябь пробегает по стоячей воде раньше, чем почувствуешь дуновение ветра.
– Итак, этот бедный молодой человек удрал вместе с остальными, – сказал он с величавым спокойствием.
Не знаю, что вызвало у меня улыбку; то был единственный раз, когда я улыбнулся, вспоминая дело Джима. Почему-то эта простая фраза, подчеркивающая совершившийся факт, забавно звучала по-французски… – S'est enfui avec les autres, – сказал лейтенант. И вдруг я начал восхищаться проницательностью этого человека: он сразу уловил суть дела, обратил внимание только на то, что меня затрагивало. Я как будто выслушивал мнение профессионала об этом деле. С невозмутимым спокойствием эксперта он овладел фактами, всякие сбивающие с толку вопросы казались ему детской игрой.
– Ах, молодость, молодость! – снисходительно сказал он. – В конце концов от этого не умирают.
– От чего не умирают? – быстро спросил я.
– От страха, – пояснил он и принялся за свой напиток.
Я заметил, что три пальца на его руке не сгибались и могли двигаться только вместе; поэтому, поднимая бокал, он неуклюже захватывал его рукой.
– Человек всегда боится. Что бы там ни говорили, но… – Он неловко поставил бокал. – Страх, страх, знаете ли, всегда таится здесь…
Он коснулся пальцем груди около бронзовой пуговицы; в это самое место ударил себя Джим, когда уверял, что сердце у него здоровое. Должно быть, он заметил, что я с ним не согласен, и настойчиво повторил:
– Да! Да! Можно говорить, что угодно; все это прекрасно, но в конце концов приходится признать, что ты не умнее своего соседа – и храбрости у тебя не больше. Храбрость! Всюду ее видишь. Я таскался (roule ma bosse), – сказал он, с невозмутимой серьезностью употребляя вульгаризм, – по всему свету. Я видал храбрых людей… и знаменитых… Allez!..
Он небрежно отпил из бокала…
– Понимаете, на службе приходится быть храбрым. Ремесло этого требует (Ie metier veux ca). Не так ли? – рассудительно заметил он. – Eh bien! Любой человек – я говорю, любой, если только он честен, bien entendu, – признается, что у самого лучшего из нас бывают такие минутки, когда отступаешь (vous lachez tout). И с этим знанием вам приходится жить, – понимаете? При известном стечении обстоятельств страх неизбежно явится. Отвратительный страх! (un trac epouvantable.) И даже тот, кто в эту истину не верит, все же испытывает страх – страх перед самим собой. Это так. Поверьте мне. Да, да… В мои годы знаешь, о чем говоришь… que diable!..
Все это он выложил так невозмутимо, словно абстрактная мудрость вещала его устами; теперь это впечатление еще усилилось благодаря тому, что, переплетя руки, он стал медленно вертеть большими пальцами.
– Это очевидно. Parbleu! – продолжал он. – Ибо, как бы решительно вы ни были настроены, простой головной боли или расстройства желудка (un derangement d'estomac) достаточно, чтобы… Возьмем хотя бы меня… Я прошел через испытания. Eh bien! Я – тот самый, кого вы перед собой видите, – я однажды…
Он осушил свой бокал и снова стал вертеть большими пальцами.
– Нет, нет, от этого не умирают, – произнес он наконец, и, поняв, что он не намерен рассказывать о событии из своей личной жизни, я был сильно разочарован. Тем сильнее было мое разочарование, что неудобно было его расспрашивать. Я сидел молча, и он тоже, словно это доставляло ему величайшее удовольствие. Даже пальцы его неподвижно застыли. Вдруг губы начали шевелиться.
– Так оно и есть, – благодушно заговорил он, – человек рожден трусом (L'homme est ne pohron). В этом загвоздка, parbleu! Иначе жилось бы слишком легко. Но привычка… привычка, необходимость, видите ли, сознание, что на тебя смотрят… voila. Это помогает справиться с трусостью. А затем пример других, которые не лучше тебя, и, однако, держатся бодро…
Он умолк.
– Вы согласитесь, что у молодого человека не было ни одной из этих побудительных причин… в тот момент, во всяком случае, – заметил я.
Он снисходительно поднял брови.
– Я не возражаю, не возражаю. Быть может, у этого молодого человека были прекрасные наклонности, прекрасные наклонности, – повторил он, тихонько посапывая.
– Я рад, что вы подходите так снисходительно, – сказал я. – Он сам лелеял большие надежды и…
Шарканье ног под столом прервало меня. Он поднял тяжелые веки – поднял медленно и как-то задумчиво, – иначе не скажешь, – и тогда-то я понял, что он собой представляет. Я увидел два узких серых кружка, словно два крохотных стальных колечка вокруг черных зрачков. Этот острый взгляд грузного человека производил такое же впечатление, как боевая секира с лезвием бритвы.
– Простите, – церемонно сказал он.
Он поднял правую руку и слегка наклонился вперед.
– Разрешите мне… Я допускаю, что человек может преуспевать, хорошо зная, что храбрость его не явится сама собой (ne vient pas tout seui). Из-за этого волноваться не приходится. Еще одна истина, которая жизни не портит… Но честь, честь, monsieur!.. Честь… вот что реально! А чего стоит жизнь, если… – Он грузно и порывисто поднялся на ноги, словно испуганный бык, вылезающий из травы… – если честь потеряна?.. Ah, ca! par exemple – я не могу высказать свое мнение. Я не могу высказать свое мнение, monsieur, потому что об этом я ничего не знаю.
Я тоже встал; и, стараясь принять самые учтивые позы, мы молча стояли друг против друга, словно две фарфоровые собачки на каминной доске. Черт бы побрал этого парня! Он попал в самую точку. Проклятие бессмысленности, какое подстерегает все человеческие беседы, спустилось и на нашу беседу и превратило ее в пустословие.
– Отлично, – сказал я, смущенно улыбаясь, – но не сводится ли все дело к тому, чтобы не быть пойманным?
Казалось, возражение было у него наготове, но он передумал и сказал:
– Monsieur, для меня это слишком тонко… превосходит мое понимание… Я об этом не думаю.
Он тяжело склонился над своей фуражкой, которую держал за козырек большим и указательным пальцами раненой руки. Я тоже поклонился. Мы поклонились одновременно; мы церемонно расшаркались друг перед другом, а лакей смотрел на нас критически, словно уплатил за представление.
– Serviteur![15] – сказал француз.
Снова мы расшаркались.
– Monsieur…
– Monsieur…
Стеклянная дверь захлопнулась за его широкой спиной. Я видел, как подхватил его южный ветер и погнал вперед; он схватился рукой за голову и сгорбился, а полы мундира шлепали его по ляжкам.
Оставшись один, я снова сел, обескураженный… обескураженный делом Джима. Если вас удивляет, что спустя три года с лишним я продолжал этим интересоваться, то да будет вам известно, что Джима я видел совсем недавно. Я только что вернулся из Самаранга, где взял груз в Сидней: в высшей степени скучное дело, которое вы, Чарли, назовете одной из моих разумных сделок, – а в Самаранге я видел Джима. В то время он, по моей рекомендации, работал у Де Джонга. Служил морским клерком. «Мой представитель на море», – как называл его Де Джонг. Образ жизни, лишенный всякого очарования; пожалуй, с ним может сравниться только работа страхового агента. Маленький Боб Стэнтон – Чарли его знает – прошел через это испытание. Тот самый Стэнтон, который впоследствии утонул, пытаясь спасти горничную при аварии «Сефоры». Быть может, вы помните – в туманное утро произошло столкновение судов у испанского берега. Всех пассажиров своевременно усадили в шлюпки, и они уже отчалили от судна, когда Боб снова подплыл и вскарабкался на борт, чтобы забрать эту девушку. Непонятно, почему ее оставили; во всяком случае, она помешалась – не хотела покинуть судно, в отчаянии цеплялась за поручни. Со шлюпок ясно видели завязавшуюся борьбу; но бедняга Боб был самым маленьким старшим помощником во всем торговом флоте, а мне говорили, что девушка была ростом пять футов десять дюймов и сильна, как лошадь. Так шла борьба: он тянет ее, она – его; девушка все время визжала, а Боб орал, приказывая матросам своей шлюпки держаться подальше от судна. Один из матросов рассказывал мне, скрывая улыбку, вызванную этим воспоминанием:
– Похоже было на то, сэр, как капризный малыш сражается со своей мамашей.
Тот же парень сообщил следующее:
– Наконец мы увидели, что мистер Стэнтон оставил девушку в покое, стоит подле и смотрит на нее. Как мы решили после, он, видно, думал, что волна вскоре оторвет ее от поручней и даст ему возможность ее спасти. Мы не смели приблизиться к борту, а немного погодя старое судно сразу пошло ко дну: накренилось на правый борт и – хлоп! Ужасно быстро его затянуло. Так никто и не всплыл на поверхность – ни живой, ни мертвый.
Недолгая береговая жизнь бедного Боба, кажется, была вызвана каким-то осложнением в любовных делах. Он надеялся, что навсегда покончил с морем и овладел всеми благами земли, но потом все свелось к сбору страховых взносов. Какой-то родственник в Ливерпуле устроил его на это место.
Частенько он рассказывал нам о своих испытаниях. Мы хохотали до слез, а он, довольный эффектом, расхаживал на цыпочках, маленький и бородатый, как гном, и говорил:
– Хорошо вам, ребята, смеяться, но через неделю от такой работы моя бессмертная душа съежилась, как сухая горошина.
Не знаю, как приспособилась к новым условиям жизни душа Джима – слишком я был занят тем, чтобы раздобыть ему работу, которая давала возможность существовать, – но я уверен в одном: его жажда приключений не была удовлетворена, и он испытывал жестокие муки. Это новое занятие не давало его фантазии никакой пищи. Грустно было на него смотреть, но следует отдать ему должное, – свое дело он исполнял упорно и невозмутимо. Это жалкое усердие казалось мне карой за фантастический его героизм – искуплением его стремления к славе, которая была ему не по силам. Слишком нравилось ему воображать себя великолепной скаковой лошадью, а теперь он обречен был трудиться без славы, как осел уличного торговца. Он справлялся с этим прекрасно: замкнулся в себя, опустил голову, ни разу не пожаловался. Все было бы хорошо, если бы не бурные вспышки, происходившие всякий раз, когда всплывало на поверхность злосчастное дело «Патны». К сожалению, этот скандал восточных морей не забывался. Вот почему я все время чувствовал, что еще не покончил с Джимом.
Когда ушел французский лейтенант, я погрузился в размышления о Джиме; однако эти воспоминания не были вызваны последней нашей встречей в прохладной и мрачной конторе Де Джонга, где не так давно мы наспех обменялись рукопожатием, нет, я видел его таким, как несколько лет назад, когда мы были с ним вдвоем в длинной галерее отеля «Малабар»; тускло мерцала догоравшая свеча, а за его спиной стояла прохладная, темная ночь. Меч правосудия его родины навис над его головой. Завтра – или сегодня, ибо полночь давно миновала, – председатель с мраморным лицом покончит с делом о нападении и избиении, определит размер штрафов и сроки тюремного заключения, а затем поднимет страшное оружие и ударит по его склоненной шее. Наша беседа в ночи напоминала последнее бдение с осужденным человеком. И он был виновен. Я повторял себе, что он виновен, – виновный и погибший человек. Тем не менее мне хотелось избавить его от пустой детали формального наказания. Не стану объяснять причины, – не думаю, что я бы смог это сделать. Но если к этому времени вы не сумели понять причину, значит, рассказ мой был очень туманен, или вы слишком сонливы, чтобы вникнуть в смысл моих слов. Я не защищаю своих моральных устоев. Ничего морального не было в том импульсе, какой побудил меня открыть ему во всей примитивной простоте план бегства, задуманный Брайерли. И рупии имелись наготове – в моем кармане, и были к его услугам. О, заем, конечно, заем! И если понадобится рекомендательное письмо к одному человеку (в Рангуне), который может предоставить ему работу по специальности… о, я с величайшим удовольствием! В моей комнате, во втором этаже есть перо, чернила, бумага… И пока я это говорил, мне не терпелось начать письмо: день, месяц, год, 2 ч. 30 м. пополуночи… пользуясь правами старой дружбы, прошу вас предоставить какую-нибудь работу мистеру Джеймсу такому-то, в котором я… и так далее. Я даже готов был писать о нем в таком тоне. Если он и не завоевал моих симпатий, то он сделал больше, – он проник к самым истокам этого чувства, затронул тайные пружины моего эгоизма. Я ничего от вас не скрываю, ибо, вздумай я скрытничать, мой поступок показался бы возмутительно непонятным. А затем завтра же вы позабудете о моей откровенности, так же как забыли о других уроках прошлого. В этих переговорах, выражаясь грубо и точно, я был безупречно честным человеком; но мои тонкие безнравственные намерения разбились о моральное простодушие преступника. Несомненно, он тоже был эгоистичен, но его эгоизм был более высокой марки и преследовал более возвышенную цель. Я понял: что бы я ни говорил, он хочет вынести всю процедуру возмездия, и я не стал тратить много слов, так как почувствовал, что в этом споре его молодость грозно восстанет против меня: он верил, когда я перестал даже сомневаться. Было что-то прекрасное в безумии его неясной, едва брезжившей надежды.
– Бежать! Это немыслимо, – сказал он, покачав головой.
– Я делаю вам предложение и не прошу и не жду никакой благодарности, – проговорил я. – Вы уплатите деньги, когда вам будет удобно, и…
– Вы ужасно добры, – пробормотал он, не поднимая глаз.
Я внимательно к нему приглядывался: будущее должно было ему казаться страшным и туманным; но он не колебался, как будто и в самом деле с сердцем у него все обстояло благополучно. Я рассердился – не в первый раз за эту ночь.
– Мне кажется, – сказал я, – вся эта злосчастная история в достаточной мере неприятна для такого человека, как вы…
– Да, да… – прошептал он, уставившись в пол.
В этом было что-то душераздирающее. Он был освещен снизу, и я видел пушок на его щеке, горячую кровь, окрашивающую гладкую кожу лица. Хотите – верьте, хотите – не верьте, но это было душераздирающе. Я почувствовал озлобление.
– Да, – сказал я, – и разрешите мне признаться, что я отказываюсь понимать, какую выгоду надеетесь вы получить от этого барахтанья в навозе.
– Выгоду! – прошептал он.
– Черт бы меня побрал, если я понимаю! – воскликнул я, взбешенный.
– Я пытался вам объяснить, в чем тут дело, – медленно заговорил он, словно размышляя о чем-то, на что нет ответа. – Но в конце концов это моя забота.
Я открыл рот, чтобы возразить, и вдруг обнаружил, что лишился всей своей самоуверенности; как будто и он тоже от меня отказался, он забормотал, как бы размышляя вслух:
– Удрали… удрали в госпиталь… ни один из них не пошел на это… Они!..
Он сделал презрительный жест.
– Но мне приходится это выдержать, и я не должен отступать, или… Я не отступлю.
Он замолчал. Вид у него был такой, словно его преследуют призраки. На лице его отражались эмоции – презрение, отчаяние, решимость – отражались поочередно, как отражаются в магическом зеркале скользящие неземные образы. Он жил, окруженный обманчивыми призраками, суровыми тенями.
– О, вздор, дорогой мой! – начал я.
Он сделал нетерпеливое движение.
– Вы как будто не понимаете, – сказал он резко, потом посмотрел на меня в упор: – Я мог прыгнуть, но я не убегу.
– Я не хотел вас обидеть, – сказал я и глупо добавил: – Случалось, что люди получше вас считали нужным бежать.
Он густо покраснел, а я в смущении чуть не подавился собственным своим языком.
– Быть может, так, – сказал он наконец. – Я недостаточно хорош; я не могу это себе позволить. Я обречен бороться до конца, сейчас я веду борьбу.
Я встал со стула и почувствовал, что все тело у меня онемело. Молчание приводило в замешательство, и, желая положить ему конец, я ничего лучшего не придумал, как заметить небрежным тоном:
– Я и не подозревал, что так поздно…
– Ну что ж, хватит с вас, – сказал он отрывисто; сказать по правде, он озирался, разыскивая шляпу, – и с меня хватит.
Да, он отказался от этого предложения, единственного в своем роде. Он отстранил руку помощи; теперь он готов был уйти, а за балюстрадой ночь – неподвижная, как будто подстерегающая его, словно он был намеченной добычей. Я услышал его голос:
– А, вот она!
Он нашел свою шляпу. Несколько секунд мы молчали.
– Что вы будете делать после… после?.. – спросил я очень тихо.
– Вероятно, отправлюсь ко всем чертям, – угрюмо пробормотал он.
Рассудок ко мне вернулся, и я счел нужным не принимать его ответа всерьез.
– Пожалуйста, помните, – сказал я, – что мне бы очень хотелось еще раз увидеть вас до вашего отъезда.
– Не знаю, что может вам помешать. Эта проклятая история не сделает меня невидимым, – сказал он с горечью, – на это рассчитывать не приходится.
А потом, в момент расставания он начал бормотать, заикаться, нерешительно жестикулировать, явно колебаться. Да будет это прощено ему… Мне! Он вбил себе в голову, что я, пожалуй, не захочу пожать ему руку. Это было так ужасно, что я не находил слов. Кажется, я вдруг закричал на него, как кричат человеку, который на ваших глазах собирается шагнуть со скалы в пропасть. Помню наши повышенные голоса, жалкую улыбку на его лице, до боли крепкое рукопожатие, нервный смех. Свеча с шипением погасла; наконец закончилось наше свидание; снизу, из темноты донесся стон.
Джим ушел. Ночь поглотила его фигуру. Он был ужасный путаник. Ужасный! Я слышал, как песок скрипел под его ногами. Он бежал. Действительно бежал, хотя ему некуда было идти. И ему не было еще двадцати четырех лет.
14
Я спал мало, быстро покончил с завтраком и, после недолгих колебаний, отказался от утреннего посещения своего судна. Поступок предосудительный, ибо мой старший помощник – во всех отношениях человек прекрасный – был жертвой своего воображения и, не получая вовремя письма от жены, сходил с ума от ревности и злобы, забывал о работе, ссорился с матросами и плакал в своей каюте, или приходил в такое бешенство, что мог довести команду до мятежа. Такое поведение всегда казалось мне необъяснимым: они были женаты тринадцать лет; один раз я мельком ее видел и, по чести, не мог представить себе человека, который впал бы в грех ради столь непривлекательной особы. Не знаю, правильно ли я поступал, скрывая свои соображения от бедняги Селвина: парень устроил себе ад на земле, это отражалось и на мне – и я страдал, но какая-то, несомненно ложная, деликатность сковывала мне язык. Супружеские узы моряков являются интересной темой, и я бы мог привести вам примеры… Однако сейчас не время и не место, и мы заняты Джимом, который был холост. Если его чувствительная совесть или гордость, если все экстравагантные призраки и суровые тени – роковые спутники его юности – не позволяли ему бежать от плахи, то меня, которому, конечно, нельзя приписать таких спутников, непреодолимо влекло пойти и посмотреть, как покатится его голова.
Я отправился в суд. Я не ждал сильных впечатлений или ценных сведений, не думал, что буду заинтересован или испуган, хотя, пока жив человек, страх является дисциплиной спасительной, – но не ждал я и такого угнетенного состояния. Горечь его возмездия словно пропитала затхлый воздух в суде. Подлинный смысл преступления заключается в нарушении той веры, какой живет общество и человечество, и с этой точки зрения он не был низким предателем – казнь не была публичной. Не было ни высокого эшафота, ни алого сукна (имеется ли алое сукно на Тауэр-Хилл? Следовало бы его иметь!), ни пораженной ужасом толпы, которая возмущена его преступлением и тронута до слез его судьбой. Наказание не носило характера мрачного возмездия. Я шел в суд и видел яркий солнечный свет, блеск слишком яркий, чтобы он мог действовать успокоительно, на улицах смешение красок, словно в испорченном калейдоскопе: желтой, зеленой, синей, ослепительно белой; коричневое обнаженное плечо; повозка с красным навесом, запряженная волом; отряд туземной пехоты, марширующий по улице, – темные головы, пыльные зашнурованные ботинки; туземный полисмен в темном узком мундире, подпоясанный лакированным поясом; он посмотрел на меня своими восточными скорбными глазами, словно его переселяющаяся душа бесконечно страдала от непредвиденного… как это называется?.. аватар – воплощения. В тени одинокого дерева во дворе суда деревенские жители, призванные по делу о нападении, сидели живописной группой, напоминая хромолитографию лагеря в книге о путешествии по Востоку. Не хватало только неизбежных клубов дыма на переднем плане да вьючных животных, пасущихся поодаль. Сзади, нависая над деревом, поднималась желтая стена, отражая солнечный свет. В зале суда было темно и как будто более просторно. Высоко в тусклом свете под потолком вертелись пунки. Кое-где между рядами незанятых скамей виднелась задрапированная фигура человека, неподвижного, словно погруженного в благочестивые размышления, казавшегося карликом в этих голых стенах. Истец – тот, кого избили, – тучный, шоколадного цвета, с бритой головой и обнаженным жирным плечом, с ярко-желтым значком касты над переносицей, сидел напыщенный и неподвижный; только ноздри его раздувались, да глаза сверкали в полумраке. Брайерли тяжело опустился на стул; вид у него был изнуренный, как будто он провел ночь, бегая на корде. Благочестивый шкипер парусного судна, казалось, был возбужден и смущенно ерзал, словно сдерживая желание встать и пламенно призвать нас к молитве и раскаянию. Лицо председателя, бледное, – волосы были аккуратно зачесаны, – походило на лицо тяжелобольного, которого умыли, причесали и усадили на постели, подперев подушками. Он отодвинул вазу с цветами – пурпуровый букет, а над ним несколько длинных стеблей с розовыми цветками, – и, взяв обеими руками лист голубой бумаги, пробежал его глазами, оперся локтями о край стола и стал читать вслух ровным голосом, внятно и равнодушно.
Клянусь богом! Несмотря на мои глупые размышления об эшафоте и падающих головах, уверяю вас, это было несравненно хуже, чем гильотинирование. Нависло тяжелое предчувствие конца без надежды на отдых и покой, какого ждешь за взмахом топора. В этой процедуре была холодная мстительность смертного приговора и жестокость изгнания. Вот как смотрел я на нее в то утро, и даже теперь я нахожу достаточные основания для такой обостренной реакции на эту процедуру. Можете себе представить, как остро воспринимал я ее в то время. Быть может, потому-то я и не мог примириться с неизбежным концом. Об этом деле я никогда не забывал, всегда жадно о нем размышляя, словно оценка его еще не была дана – оценка отдельных людей и всего человечества! Этого француза, например. Приговор его страны был вынесен в бесстрастной и строго определенной фразе, какую могла бы произнести машина, если бы умела говорить. Лицо председателя было наполовину скрыто бумагой; виднелся его лоб, белый, как алебастр.
Перед судом стояло несколько вопросов. Прежде всего – было ли судно во всех отношениях пригодно к плаванию? На это суд ответил: нет. Помню следующий вопрос: управляли ли судном надлежащим образом до момента катастрофы? На это они ответили: да, – одному богу известно, почему, – а затем заявили, что нет данных точно установить причину аварии. Должно быть, оно наткнулось на плавучее разбитое судно. Помню, примерно в то время пропал без вести норвежский барк с грузом строевого леса; в шквал такого рода судно легко могло опрокинуться и в течение многих месяцев плавать верх килем, – нечто вроде морского вампира, во мраке подстерегающего суда. Такие скитающиеся трупы часто встречаются в северных водах Атлантического океана, где вас преследуют все чудища моря – туманы, ледяные горы, мертвые суда, одержимые злобными намерениями, и длительные, зловещие бури, которые цепляются за судно, как вампир, пока не иссякнут сила, мужество, даже надежда, и человек не почувствует себя опустошенным. Но там, в тех морях такое происшествие – редкость, и казалось, всю эту историю специально подстроило злостное провидение; дело это производило впечатление совершенно бессмысленной чертовщины, разве что провидение задалось целью убить кочегара и навлечь на Джима беду похуже смерти.
Эти мысли отвлекли мое внимание, и сначала я лишь смутно слышал голос председателя, но затем звуки стали складываться в отчетливые слова…
«…пренебрегли своим долгом», – читал он. Следующей фразы я не разобрал. «…покинули в минуту опасности доверенных им людей и имущество…» – продолжал он и замолк. Глаза под белым лбом бросили мрачный взгляд поверх листа бумаги. Я поспешно стал разыскивать Джима, словно ждал, что он исчезнет. Нет, он сидел на своем месте неподвижный. Он сидел, розовый, белокурый и очень внимательный.
«Поэтому…» – выразительно начал голос. Джим, приоткрыв рот, ловил слова человека, сидевшего за столом. Эти слова врывались в тишину, нарушаемую лишь вертящимися пунками, а я, следя за тем, какое они производят на него впечатление, улавливал только отрывочные фразы приговора.
«Суд… Густав такой-то, шкипер… немец по происхождению… Джеймс такой-то… штурман… свидетельства аннулированы».
Наступило молчание. Председатель положил бумагу, оперся о ручку кресла и спокойно стал разговаривать с Брайерли. Публика двинулась к выходу, я тоже направился к дверям. Выйдя за дверь, я остановился, и, когда Джим проходил мимо меня, я поймал его за рукав и удержал. Взгляд, какой он бросил, расстроил меня, словно на мне лежала ответственность за его состояние: он посмотрел на меня так, будто я был воплощением зла.
– Все кончено, – запинаясь, выговорил я.
– Да, – сказал он хрипло. – И теперь пусть ни один человек…
Он рванулся и высвободил руку. Я смотрел ему вслед. Улица была длинная, и я долго видел вдали его спину. Он шел медленно, широко расставляя ноги, словно ему трудно было идти по прямой линии. Перед тем как я потерял его из виду, мне показалось, что он пошатнулся.
– Человек за бортом! – раздался низкий голос за моей спиной. Оглянувшись, я увидел Честера из Западной Австралии, с которым был немного знаком. Он также смотрел вслед Джиму. Это был человек с необъятно широкой грудью, грубым, гладко выбритым лицом цвета красного дерева и двумя жесткими пучками серых, толстых, как проволока, волос на верхней губе. Он скупал жемчуг, приводил к берегу потерпевшие крушение суда, торговал, занимался, кажется, даже китобойным промыслом; по его словам, он испробовал все профессии, какие возможны на море, и не занимался только пиратством. Тихий океан на севере и на юге служил ему полем для охоты, но теперь он покинул свои владения в поисках дешевого парохода. Не так давно он, по его словам, открыл где-то остров с гуано, но доступ к нему был труден, а якорная стоянка, если таковая имелась, была отнюдь не безопасна.
– Дело богатое, не хуже золотой жилы! – восклицал он. – Как раз среди рифов Уолпол, а если и правда, что якорь можно бросить лишь на глубине сорока сажень, – то что за беда? Бывают там и ураганы. Но дело – первый сорт. Не хуже золотой жилы. Лучше! Однако ни один из этих дураков не хочет за него взяться. Я не могу найти ни шкипера, ни судовладельца, которые согласились бы отправиться туда. Вот я и решил сам развозить свой товар.
Для этого ему нужен был пароход, и я знаю, что в то время он с энтузиазмом торговался с одной парской[16] фирмой, продававшей старую, оснащенную как бриг, развалину в девяносто лошадиных сил. Мы несколько раз встречались и разговаривали. Он многозначительно посмотрел вслед Джиму.
– Принимает близко к сердцу? – презрительно спросил он.
– Очень близко, – сказал я.
– Значит, он никуда не годится, – высказал свое мнение Честер. – Стоит ли волноваться из-за такого пустяка? Разве это мужчина! Вы должны брать вещи такими, как они есть; если этого не делаете, лучше сразу сдавайтесь. Все равно вы никогда ничего путного в этом мире не добьетесь. Посмотрите на меня. Я взял себе за правило ничего не принимать близко к сердцу.
– Да, – сказал я, – вы видите вещи такими, как они есть.
– Хотел бы я встретить сейчас моего компаньона, – пробормотал он. – Знаете моего компаньона? Старый Робинсон. Да, тот самый Робинсон. Как, вы не знаете? Известный Робинсон. Человек, который провез контрабандой больше опиума и в свое время захватил больше котиков, чем кто бы то ни было из нынешних парней. Говорят, он абордировал шхуны, охотившиеся за котиками у берегов Аляски, когда туман был такой густой, что только господь бог мог отличить одного человека от другого. Страшный Робинсон. Вот он кто такой. Он – мой компаньон в этом деле с гуано. Такой блестящий случай впервые выпал ему в жизни.
Он зашептал мне на ухо:
– Каннибал? Да, так его прозвали много лет назад. Помните эту историю? Кораблекрушение у западного берега острова Стьюарта. Семь человек добрались до берега; кажется, они между собой не поладили. Иные люди бывают слишком привередливы… не видят лучшей стороны дела, не умеют брать вещи такими, как они есть… как они есть, приятель! А каковы результаты? Ясно. Неприятности, а может быть, и удар по голове; и это им на пользу. От таких людей больше проку, когда они мертвые. Рассказывают, что шлюпка с судна «Росомаха» нашла его стоящим на коленях среди водорослей; он был в чем мать родила и распевал какой-то псалом, а в то время падал снежок. Когда шлюпка подошла к берегу, он вскочил и убежал. Целый час гонялись они за ним по валунам, наконец один из матросов швырнул камень, который, по счастью, попал ему в голову за ухом, и парень упал без чувств. Один ли он был на острове? Конечно. Но это такое же темное дело, как и история со шхунами, занимавшимися охотой на котиков. Никому не известно, кто здесь прав, кто виноват. На катере расспросами не занимались. Они завернули его в брезент и поскорей отплыли, так как надвигалась ночь, погода была угрожающая, а судно через каждые пять минут давало сигналы из орудий.» Три недели спустя он был здоровехонек. Шум, поднятый по поводу этого дела, нимало его не расстроил; он только сжал губы и предоставил людям орать вволю. Достаточно скверно было потерять судно и все имущество, чтобы еще обращать внимание на ругательства, какими его осыпали. Вот это подходящий для меня человек.
Он поднял руку, подавая знак кому-то шедшему по улице.
– У него есть кое-какие средства; вот почему мне пришлось принять его в дело. Пришлось! Грешно было бы прозевать такую находку, а у меня в кармане было пусто. Меня это больно задело, но я беру вещи такими, как они есть, и, полагаю, если мне уже приходится с кем-то делиться, то подайте мне Робинсона. Я оставил его завтракать в отеле, а сам пошел в суд, так как мне пришло кое-что на ум… А, доброе утро, капитан Робинсон… Мой друг, капитан Робинсон.
Тощий патриарх – в белом тиковом костюме и в индийском, с зеленым ободком, шлеме на трясущейся от старости голове – рысцой, но волоча ноги, перебежал через улицу, подошел к нам и остановился, держась обеими руками за ручку зонтика. Белая борода, в которой запутались янтарные нити, спускалась до пояса. С недоуменным видом он, моргая, смотрел на меня из-под морщинистых век.
– Как поживаете? Как поживаете? – любезно пискнул он и пошатнулся.
– Глуховат немного, – бросил мне Честер.
– Неужели вы тащили его за шесть тысяч миль, чтобы заполучить дешевый пароход? – спросил я.
– Я бы готов был два раза объехать с ним вокруг света! – энергично воскликнул Честер. – Пароход поставит нас на ноги, приятель. Разве моя вина в том, что все шкиперы и судовладельцы на этих островах Австралазии оказались круглыми дураками? Как-то раз я три часа говорил с одним человеком в Окленде.
«Пошлите судно, – сказал я, – пошлите судно. Я отдам вам даром половину первого груза, только чтобы начало было положено».
А он говорит: «Я бы этого не сделал, даже если бы не было на свете другого местечка, куда можно послать судно».
Форменный осел, конечно. Скалы, течения, нет якорной стоянки, приходится лежать в дрейфе у крутого утеса… ни одно страховое общество не пойдет на такой риск… за три года не удастся погрузиться. Осел! Я готов был на колени перед ним упасть.
«Но посмотрите же на дело, как оно есть, – сказал я. – К черту скалы и ураганы! Разве не видите, что это за дело? Ведь там гуано! Говорю вам, в Куинсленде владельцы сахарных плантаций будут за него драться – драться на набережной…»
Но что поделаешь с таким дураком?
«Это, говорит, одна из ваших шуточек. Честер…»
Шуточка! Я чуть не заплакал. Вот спросите капитана Робинсона… Был еще один судовладелец в Уэллингтоне – жирный парень в белом жилете. Тот думал, кажется, что я хочу его надуть.
«Не знаю, какого дурака вы ищете, – сказал он, – но сейчас я слишком занят. До свиданья».
Мне хотелось схватить его обеими руками и вышвырнуть в окно его собственной конторы. Но я этого не сделал. Я был кроток, как священник.
«Подумайте об этом, – сказал я, – подумайте. Я зайду завтра».
Он проворчал, что его целый день не будет дома. На лестнице я готов был от досады биться головой об стенку. Вот капитан Робинсон может подтвердить. Ужасно было думать, что такое прекрасное гуано валяется зря, – ведь оно могло бы черт знает как поднять цены на сахарный тростник. Ведь это был бы расцвет Куинсленда! А в Брисбене, куда я отправился, чтобы сделать последнюю попытку, меня назвали сумасшедшим. Идиоты! Я нашел только одного разумного человека – извозчика, который меня возил-по городу. Думаю, он когда-то знал лучшие времена. Эй! Капитан Робинсон! Помните, я вам рассказывал об извозчике в Брисбене? Парень удивительно умел вникать в суть дела. В одну секунду все понял. Истинное удовольствие было с ним разговаривать. Как-то вечером, после чертовского дня, проведенного с судовладельцами, я почувствовал себя так скверно, что сказал:
«Я должен напиться. Идем! Я должен напиться, иначе я сойду с ума».
«Я с вами, – говорит он, – вперед!»
Не знаю, что бы я без него делал. Эй! Капитан Робинсон!






