Гомбрих, или Наука и иллюзия. Очерки текстуальной прагматики Ванеян Степан
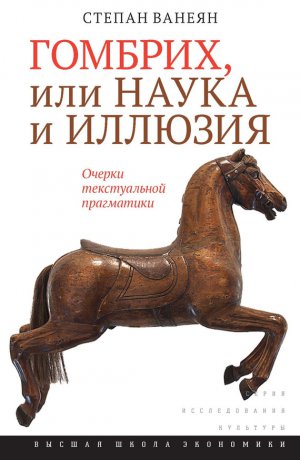
© Ванеян С. С., 2015
© Оформление. Издательский дом Высшей школы экономики, 2015
Эрнст Гомбрих: верхом на деревянном коне
(вместо предисловия)
На самом деле под искусством я понимаю то, что получается, когда кто-то берет в руку перо.
Эрнст Гомбрих
В каждой культуре канонические писания прошлого приводили к необходимости комментариев. На Западе и изобразительное искусство стало каноническим. Когда я озираюсь на мои работы, я бы хотел видеть их понятыми в качестве такого вот комментария, облегчающего моим читателям доступ к творениям прошлого.
Эрнст Гомбрих
У меня была крайне амбициозная программа в виде некоего триптиха. План был и остается в известной мере неизменным: написать, с одной стороны, о теории отображения («искусство и иллюзия»), а с другой – о теории свободной игры форм, что есть орнамент («чувство порядка»). А к среднику принадлежали бы, естественно, иллюстрация текста и символизм. И обо всем этом я уже написал.
Эрнст Гомбрих
Оговоримся сразу: Hobby Horse (он же – Steckenpferd) – вещь реальная, хотя и деревянная. И маленький мальчик, гарцевавший на нем в своей детской, став взрослым и ученым, никуда уже, кажется, на нем не скачет, но все так же восседает верхом на этом скакуне, открыто стремясь вперед в своих повествованиях и воспоминаниях. Под ним подлинная реальность – и совсем не то деревянное сооружение, в котором прятались иные герои иных рассказов… И размышляет ученый муж не только на нем – но и о нем: что этот конь не скрывает внутри себя, а открывает, есть ли у него это нутро и куда он устремлен, кто на нем, а не в нем тем не менее куда-то проникает?
Попробуем и мы, воспользовавшись этой и многими другими метафорами, проникнуть внутрь того мира, что не открыл, а сложил, соорудил, создал сэр Эрнст Ханс Йозеф Гомбрих, будучи, казалось бы, всего лишь историком искусства. Но был ли он им, была ли до него и остается ли после него такая наука?
Открывая любую книгу Гомбриха (проникая в нее – хоть и с разрешения и по приглашению!), обнаруживаешь помимо прочего и тот факт, что уже 50 лет тому назад искусствознание имело все основания претендовать на большее, нежели просто на историю искусства: без гештальт-психологии, без психоанализа, без семиотического литературоведения, без аналитической философии невозможно было уже тогда представить себе современную (или пытающуюся быть таковой) искусствоведческую науку.
Это не примечательное или даже замечательное ответвление исторической дисциплины, а достаточно суверенная отрасль гуманитарного знания – не со своим предметом интереса (этого-то как раз нет, не может быть и не нужно) и не со своим особым методом (что невозможно), но со своим местоположением в контексте дискурсов, причем вовсе не только когнитивных, но и, так сказать, креативных (ужасное слово!), хотя на самом деле – коммуникативных, то есть социальных. А если совсем точно – несомненно, перформативных, которым предшествуют практики информативные, а цели которых столь же безусловно – трансформативные.
Обобщающе-общительный характер этой науки – разделяющей общность и с искусством, и со знанием, и с душой, и с плотью, – обрел в лице и личности Гомбриха классический вид и типический характер самой эффектной из риторических фигур, которой он сам уделял немало внимания в своих текстах. Он сам – настоящая персонификация энциклопедизма, историзма, психологизма вкупе с неподражаемой респектабельностью того, казалось бы, чисто английского способа обращения с научным знанием, который на самом деле свято, хотя и тайно хранит верность континентальной и прежде всего германской учености (в ее не худшем, если не лучшем – венско-австрийском – изводе)[1].
Итак, что же мы в состоянии выяснить и уяснить с точки зрения трех обозначенных выше позиций? Что пережил Гомбрих (его жизнь, а значит – информативность), что он знал (его впечатления и влияния – это как раз перформативная составляющая) и что он сотворил (а это – само современное искусствознание, современная история культуры, современная семиотика искусства и современная философия творчества и даже больше – преддверие и подготовка современного состояния науки об искусстве, то есть чистой воды трансформативность).
А за кулисами этой разворачивающейся постановки ждут своего выхода и ответов совсем иные вопросы: что значит, когда зрелый историк оглядывается на уголок собственной детской с игрушечным конем, что значит отсутствие у этого коня собственных конечностей, заменяемых ножками ребенка, что значит эта явная регрессия в контексте исторического когнитивного прогресса?
Из детства – в науку
Итак, жизнь, которую мы постараемся изложить, с одной стороны, в самых основных сюжетных линиях, снабдив всякого рода деталями и обрамляющими мотивами, вводя по ходу действия новых и неизбежных героев.
Гомбрих принадлежал и принадлежит Вене не только по роду деятельности и по типу образования, но и по происхождению: он родился 30 марта 1909 г. в высокообразованном еврейском семействе (перешедшем в протестантизм около 1900 г.), глава которого – Карл Гомбрих – юрист, по словам сына, «совсем не приспособленный к деланию денег»[2] (он был школьным другом Гуго фон Гофмансталя, с которым, однако, позднее разошелся, не вынеся его эстетизма). Мать Гомбриха – Леони Хоке – была по-настоящему замечательной пианисткой-педагогом, ученицей А. Брукнера, и преподавателем сестры Густава Малера. Эта музыкальная среда пронизала своим духом (дыханием и звучанием) детство и юность Гомбриха, питая – через воспоминания – на протяжении всей жизни его самые фундаментальные и, вероятно, достаточно латеральные настроения.
Таким, безусловно, глубинным аспектом является отношение Гомбриха к христианской вере – как раз в связи с обращением в христианство родителей[3].
В частности, Гомбрих подчеркивает, что отец его матери принципиально не хотел знакомить свою дочь с иудаизмом, у отца Гомбриха «было немного знания этой традиции», сам же Гомбрих «никогда с иудейским воспитанием не соприкасался». Обращением же не просто в христианство, а в довольно радикальный протестантизм (в католической Австрии!) его родители были обязаны своей хорошей и очень почитаемой знакомой, другу семьи Нине Шпиглер. Тогда она была замужем за известным евангелическим мистиком и христианским поэтом Зигфридом Липинером, евреем по происхождению, последователем Ницше и Вагнера, переводчиком Мицкевича, оказавшим, по мнению многих, в том числе и Гомбриха, решающее влияние на Густава Малера. Липинер собирал у себя дома своих последователей и единомышленников, в том числе и на лекции по искусству, трактуя его в духе Рёскина. Сын Нины – Готфрид, будущий физик-радиолог, был ближайшим другом Гомбриха и оказал на него большое влияние:
…именно он помог мне понять, что интерпретация образов таит в себе немало проблем[4].
Касательно иудаизма – вот такое соображение:
Я не испытываю ни малейшего желания отрицать или умалять мое еврейское происхождение, но когда я думаю об истории, я имею в виду скорее западную культуру, чем культуру гетто, хотя о последней, быть может, у меня слишком мало знаний[5].
В автобиографии Гомбрих подробно останавливается на своем отношении к Вене. Она для него была не имперской и декадентской Веной fin de sicle, а Веной послевоенной, пребывавшей в довольно плачевном состоянии. Кроме того, подчеркивает Гомбрих, следует всячески избегать «венского мифа» как такового: Вена совсем не была «монолитным обществом, где каждый толковал или о современной музые, или о психоанализе». Она была
интеллектуально живым городом, но совсем не похожим на те самые клише, которые можно использовать, но не без щепотки соли[6].
Другой друг семьи – скрипач Адольф Буш познакомил юного Гомбриха с «Размышлениями над всемирной историей» Якоба Буркхарда. Сам Гомбрих был опытным виолончелистом, всю жизнь любил домашнее музицирование, хотя и не обольщался относительно своего дарования (впрочем, еще одно порождение венского гения – атональную музыку – он так и не смог принять вслед за своей матерью, которая хорошо знала Шёнберга, но не считала возможным поддерживать с ним отношения).
Гомбрих подробно останавливается на музыкальной стороне личности своей матери Леони Хоке, в том числе тщательно перечисляя тех великих музыкантов, с которыми она была знакома или кого ей посчастливилось слушать. Еще в детстве – это Иоганн Штраус в Народном саду (Volksgarten), в консерватории – Брукнер, потом Лешетицкий, а также Антон Рубинштейн и Брамс. С Шёнбергом она даже играла концерт, но тот никак не мог взять верный темп. Стать профессиональной исполнительницей ей категорически запретила ее мать, считавшая, что это занятие по степени неприличия мало чем отличается от участи «цирковой наездницы»[7]. Став преподавателем музыки, мать Гомбриха вошла в круг Густава Малера, будучи наставницей его сестры (сестра же Гомбриха Деа была ближайшей подругой дочери Малера Анны), сблизившись одновременно с известной певицей Анной Бар-Мильденбург – женой писателя Германа Бара, на вилле которых новорожденный Гомбрих провел первые месяцы своей жизни[8]. Кроме того, сестра Гомбриха была хорошей знакомой Антона фон Веберна и Альбана Берга[9].
Довольно конкретный и не лишенный символизма и многозначительности факт из ранней биографии: после Первой мировой войны, в 1920 г., организация «Спасение детей» отправила Эрнста и его сестру Элизабет почти на 9 месяцев в Швецию, чтобы спасти их от голодной смерти. Перед отправкой маленький Гомбрих находился на четвертой (из пяти по возрастающей) стадии истощения. В Швеции он жил в семье столяра, «очень милого человека», быстро научился шведскому и мог читать на нем всю жизнь (заодно «эти люди, как он надеется, помогли ему избавиться от его снобизма»)[10]. Чем не абсолютно экзистенциальное переживание, предвосхищающее грядущую судьбу изгоя и героя в одном лице?
Еще из раннего детства – кортеж императора Франца-Иосифа у Шёнбрунна, его же похороны, созерцаемые из дома на Рингштрассе, предупреждения об отравляющих газах и звуки канонады с итальянского фронта… Но главное – память о великолепной отцовской библиотеке, с немалым количеством книг по искусству, и о собственном интересе не столько к истории искусства, сколько к истории естественной, довольно органично питавшей и интерес к доисторическому существованию мира и человека, благо два соответствующих венских музея стояли (да и сейчас стоят) друг против друга[11].
До конца жизни в памяти Гомбриха живут прочитанные в детстве книги – их обычно дарили на Рождество и на день рождения, – в том числе и «История искусства как история духа» Макса Дворжака. Гомбрих вспоминает, что отец не только читал детям вслух Гомера и Махабхарату, но и вместе с матерью следил за порядком их собственного знакомства с литературой: в какой-то момент маленькому Гомбриху было сказано, что пора приступать к немецкой словесности, «и я начал читать Гёте, Шиллера и т. д.»[12].
После возвращения из Скандинавии Гомбрих обучается в начальной школе, от которой у него остались довольно сдержанные впечатления. Это была частная школа с щадящим режимом, так как маленький Эрнст, по мнению отца, был не очень крепок физически. Ко времени пребывания в начальной школе относятся два воспоминания: как однажды в 1917 г. учитель вбежал в класс с радостной вестью о сепаратном мире с Украиной и как уже при республике маленький Гомбрих прочел (сильно волнуясь и запинаясь) на празднике не совсем уместную в тех обстоятельствах детскую поэму о волнениях в некоем улье, где упоминалась «королева (!) пчел», изгоняющая трутней[13].
Основное же образование Гомбриха совершается в средней школе Theresianum[14], где он «не чувствовал себя счастливым, будучи скорее аутсайдером»[15], сочинял сатирические поэмы (их число дошло до 60) и справлялся с обучением исключительно благодаря феноменальной памяти, уже только этим вызывая почтение учителей[16]. Однако именно гимназия оказалась тем местом и тем опытом, которые, по признанию самого ученого, и составили основание всего его последующего существования, прежде всего – духовного. За этим опытом стоит в первую очередь влияние учителя немецкой литературы – объекта самых подробных и самых благоприятных воспоминаний. Это был «исключительный человек», вагнерианец, знаток Платона и Шопенгауэра, о которых он беседовал с учениками. От него Гомбрих «многому научился», в первую очередь – любви к Гёте, привлекавшему юношу «множественностью» своих интересов, в том числе и естественно-научных[17].
Именно в гимназии естественно-научные и доисторические пристрастия детства постепенно трансформируются в любовь к истории, сначала к древней (Египет – с попыткой изучения иероглифики), затем – строго хронологически – к античной, увенчавшуюся в 15 лет написанием эссе о вазописи[18].
«Шаг за шагом я приближался к визуальным искусствам, но ни в коем случае не к искусству современному; это и интересно, и странно: у нас никто ничего не знал, что происходило в современном искусстве; никто его в Вене среди нас и не видел: импрессионистов – конечно, да, но современную живопись – нет»[19].
В возрасте 17 лет Гомбрих пишет свою первую вполне серьезную, сознательную и продуманную искусствоведческую работу на тему изменений взглядов на искусство от Винкельмана до наших дней. Это было выпускное гимназическое сочинение (так называемая matura – позволявшая сдавать экзамены на аттестат зрелости), и писалось оно под впечатлением от полученной на день рождения тогда еще совсем свежей книги Вильгельма Ветцольда о немецких историках искусства XIX столетия[20]. История искусства как наука уже в то время для Гомбриха – довольно примечательный путь развития знания и интереса к искусству, начиная с Просвещения (Винкельман и Гёте), через романтизм (в лице Вакенродера и Шнаазе) и вплоть до современного ему экспрессионизма в науке. Пример тому – все тот же Дворжак. Гомбрих вспоминает, как в 1921 г. один знакомый принес в дом трагическую весть о смерти ученого. Гомбрих-подросток не знал, кто это такой, но благодаря реакции взрослых ощутил «великую утрату»[21].
Кроме того, от этой юношеской работы сквозь всю жизнь, по признанию самого Гомбриха, тянется важная идея, обретшая свое завершение чуть ли не в последней книге: именно романтизм привил вкус и интерес к несовершенному, не сложившемуся, к «примитиву», которому многое прощается, ибо это соответствующий взгляд на ту же Италию XV в.[22]. Имеется в виду книга «Предпочтение примитива…»[23]. Гомбрих упоминает о ней в 1991 г. как о находящейся в процессе написания, но издание оказалось фактически посмертным. Кстати говоря, современное Гомбриху искусство (очевидцем которого он фактически был в родной Вене) именуется в книге «революционным примитивизмом». Интересно также заметить, что переход от классицизма через романтизм к экспрессионизму в истории вкуса Гомбрих описывает как превращение интереса к «теме» в интерес к «экспрессии». «Тема» же мыслилась в совершенно гётевском духе, то есть «драматически», как восприятие и переживание того, что «происходит» в изображении, понятом, таким образом, как все то же представление, разыгрываемое одновременно и на сцене перцепции, и за кулисами апперцепции, и в зрительном зале научного конвенционализма, о чем – далее.
Одновременно история искусства – это уже и собственная несомненная жизненная стезя, ступив на которую в столь раннем возрасте Гомбрих совершает и следующий логический шаг – поступает в 1928 г. в Венский университет, вооруженный перенятой от Дворжака идеей, что искусство – это «волшебный ключ, отмыкающий прошлое»[24].
Надо сказать, что семейство Гомбриха принадлежало к тому интеллигентному среднему классу, где совершенно явно наличествовал культ и Гёте, и всей классической древности вкупе с Возрождением, что было непременным условием подлинного Bildung[25], а «история искусства была аспектом духовной жизни, а не какимто “предметом”», обладая «особой витальностью»[26].
Гомбрих помнит разговоры о литературе, что велись в их доме, и имена тех писателей, что упоминались. Литература была в основном русская и скандинавская, среди французских авторов – лишь Мопассан и Анатоль Франс, «никогда – Пруст». Два брата матери, один врач, другой юрист, были
абсолютно немузыкальны, но безмерно учены, отличаясь фантастическим знанием греческой, латинской, французской, итальянской и скандинавской классики и не имея ни малейшего представления о вещах практических[27].
Неприязнь к нуворишам с их тщеславием и одновременно высокомерие по отношению к малокультурным единоплеменникам, выходцам из Восточной Европы, плохо владевшим немецким языком и «всегда боявшимся ассимилироваться в культуре Вены», – вот что придавало «особый привкус» этой социальной прослойке, применительно к Вене «золотого века»[28]. Но эта, казалось бы, локальная культура, добавляет Гомбрих, была культурой Музиля и Рота, писавших о ней не без ностальгии. Гомбрих описывает ее, заметим, с абсолютно тем же чувством…
Тем не менее отец Гомбриха от его желания изучать историю искусства
не был особо в восторге, но проявил немалое великодушие, не запретив этого делать, находя, однако – вполне справедливо, – что этим занятием хлеба не заработаешь[29].
Гомбрих добавляет, что его «до сих пор удивляет, что оно для него, тем не менее, бесхлебным занятием таки не стало». Впрочем, как он признает в другом месте, это была «довольно глупая идея» из-за своей безнадежности, но, если учитывать тогдашнее положение Австрии, «какие идеи и планы тогдашней молодежи не были безнадежны?..»[30].
Кстати говоря, лояльность отца относительно выбора профессии сыном сам Гомбрих объясняет тем, что «он (отец) в свое время послушался своего родителя, стал юристом поневоле и немало от этого потом страдал»[31].
Университет: между Стжиговским и Шлоссером
В университете (точнее, во втором Институте истории искусства, альтернативном кафедре Й. Стжиговского) Гомбрих занимается соответствующими дисциплинами (конкретно – историей искусства, классической археологией и восточноазиатским искусством) под руководством в первую очередь Ханса Титце. В его некрологе[32] Гомбрих, в частности, говорит о «плодо творных, хотя порой и мучительных колебаниях между Титце – приверженцем истории и Титце – сторонником современности». Последняя ипостась Титце стоила ему музейной карьеры: будучи хранителем Альбертины, он пытался продать дублеты, чтобы на вырученные деньги приобрести образцы современного искусства; это вызвало неслыханный скандал, и Титце вынужден был подать в отставку. Гомбрих в воспоминаниях характеризует его как «не очень хорошего лектора, но живого и прилежного человека»[33]. Другие наставники – Карл Мария Свобода и, конечно же, Юлиус фон Шлоссер[34], благодаря которому была защищена докторская диссертация, посвященная по тем временам довольной острой теме – архитектурному маньеризму[35]. Деятельность Шлоссера, по мнению Гомбриха, отличало
глубинное сомнение в беззаботном эстетизме и формализме – ведь в разные эпохи и у разных обществ под искусством понимались весьма разные вещи.
Финальный оборот этого раннего для Гомбриха текста звучит пророчески, если обратить его от учителя к ученику: «в такое время, как наше, он сознательно предпочел быть “анахронизмом” в лучшем смысле этого слова»[36].
Собственно диссертации предшествовала и другая архитектуроведческая работа, посвященная венской Петерскирхе и предложенная Гомбриху в качестве испытания Карлом Свободой. Гомбриху повезло: он нашел одного престарелого пастора, владевшего неизвестными до сих пор документами, в которых студенту было дозволено «копаться», совмещая это занятие с прочесыванием настоящих архивов. Этот первый опыт «завораживающей» работы с историческими источниками «пришелся по вкусу» молодому Гомбриху[37]. Успех этого текста как раз и позволил Гомбриху войти в весьма узкий круг учеников Шлоссера.
По признанию самого Гомбриха, решающее влияние на методологию диссертации оказала недавно вышедшая книга другого ученика Шлоссера – «амбициозного и специфического» (слова учителя) Ханса Зедльмайра. В его «Архитектуре Борромини» (1930) были совмещены сразу два крайне актуальных тогда психологических подхода: гештальт-психология и кречмеровская типология-психосоматика[38]. В одном принципиальном тексте – уже послевоенном – Гомбрих признает «плодотворным» опыт применения Зедльмайром принципов гештальт-психологии к архитектуре: структурный анализ выявляет «смыслонаполняемость» архитектурных построений. Хотя зедльмайровское понимание структуры как «аристотелевской энтелехии, пребывающей в организме» требует своего дальнейшего прояснения[39].
При этом диссертация – опыт полемики с предыдущей историографией маньеризма, а именно с преобладавшим тогда пониманием данного стилистического явления как кризиса ренессансного духа. Это дворжаковская идея, отказ от которой позволил Гомбриху увидеть в маньеризме совершенно новую роль художника-артиста, творчество которого – в первую очередь свободная игра на радость заказчику. Такой художник мало подходит на роль носителя глубочайшего духовного кризиса своего времени. Так трактует свою диссертацию уже совсем немолодой Гомбрих, обращая внимание на то, что скептицизму по отношению к стереотипам научной традиции он научился именно у Шлоссера[40].
К сожалению, архитектура так и не стала главной темой творчества Гомбриха[41]. По его собственным наблюдениям[42], от тогдашней типично венской методологии – «исчерпывающий формальный анализ и попытка психологической трактовки экспрессивного содержания» – у него остался впоследствии лишь интерес к психологии. Это тем более обидно, если учитывать, что интерес к архитектуре, по признанию самого Гомбриха, пробудился у него еще в детстве, когда он пробовал даже зарисовывать на улицах родного города примечательные архитектурные формы, прежде всего барочные[43].
Шлоссер же еще до диссертации имел возможность, по всей видимости, не только повлиять на своего ученика, но и сформировать его исследовательский менталитет своими учебными семинарами, которые были одновременно и сугубо, и строго научным общением почти равных коллег. У Гомбриха есть подробное описание трех разновидностей семинарских занятий, которые вел Шлоссер.
Во-первых, это занятия по первоисточникам, например сравнительный анализ двух редакций Вазари. Напомним, что это была главная специализация самого Шлоссера, автора знаменитой и актуальной до сих пор «Литературы по искусству»[44]. Знание итальянского языка студентами – не обсуждалось[45]. В частности, сам Гомбрих занимался жизнеописанием Джованни Беллини[46].
Во-вторых, это семинар, посвященный анализу конкретного произведения искусства, проходивший еженедельно по вечерам в Музее истории искусств, в отделе прикладного искусства, который Шлоссер возглавлял до университета. Для каждого студента выбирался отдельный памятник, о котором в течение года должна была быть написана работа. В один год Гомбриху достался оклад каролингской рукописи, при описании которой студент сделал одну оплошность, указав на сирийские аналогии одной арочной формы, чего при Шлоссере делать не стоило – подход Стжиговского в этом замечании был слишком явным. Шлоссер в ответ просто сказал, что «Сирия – примечательная местность», и закрыл тему[47].
В другой раз это была пиксида, считавшаяся позднеантичной, и начинающий историк искусства сумел доказать, что это – каролингская копия. Работа понастоящему восхитила Шлоссера, который не видел различий между учителями и учениками. Студенту было предложено опубликовать работу в музейном ежегоднике, в результате чего родилась первая научная публикация Гомбриха[48]. У него были все шансы стать медиевистом, однако этого не произошло, так как он довольно рано понял, насколько все неопределенно в этой отрасли истории искусства, прежде всего из-за скудости источников[49].
В-третьих, это был семинар проблемный, вернее сказать, исто риографический-методологический, когда, например, Гомбриху досталась известнейшая книга А. Ригля, его первое фундаментальное сочинение – «Вопросы стиля» (1893)[50], посвященное эволюции орнаментики. Шлоссер, знавший Ригля лично и питавший бесконечное к нему почтение (хотя и не без дистанции[51]), тем не менее позволил студенту подвергнуть критике риглевское чересчур однолинейное понимание развития того же древнегреческого аканфа. Молодой Гомбрих, как он сам замечает, уже здесь чувствовал себя противником всякого дарвинизма и детерминизма. Кроме того, проблематика орнамента в дальнейшем продолжала волновать ученого, что привело к появлению его «Чувства порядка» (1979) – совсем не историко-художественного, а сугубо теоретического сборника[52]. Еще большее, уже на наш взгляд, влияние на формирование теоретических позиций Гомбриха оказала работа над предложенной тем же Шлоссером книгой современного исследователя Карла фон Амиры. Это был позднесредневековый юридический трактат «Sachsenspiegel», посвященный практике условных жестов, применявшихся в тех или иных ситуациях согласно строгим правилам (выражение почтения, поклонения, несогласия, возражения и т. д.). Существенно, что рукопись была весьма изобретательно иллюстрирована соответствующими рисунками – полусхемами-полудиаграммами, напоминавшими стробоскопические фотографии. Жест как одно из фундаментальных и прямых средств коммуникации – вот тематическое поле, повлиявшее на отношение Гомбриха к речевому сообщению, на его понимание знания и значения как конвенционального производного от «остенсивного» акта – основы всякой верификации, то есть возможности прямого указания на подразумеваемый предмет или на опыт знакомства с ним.
Впрочем, не обязательно забегать так далеко вперед: уже и Варбург в преодолении Дарвина обращал внимание на роль жеста в художественной экспрессии, о чем напоминал в свое время Ф. Заксль[53]. Да и риглевское противопоставление оптически-визуального и гаптически-тактильного имеет далеко идущие и глубоко коренящиеся когнитивные перспективы, как это позднее будет комментировать сам Гомбрих.
Речь идет о той распространенной в психологии XIX в. идее, что предполагает невозможность воспринимать пространственные отношения на уровне сетчатки (сетчатка – плоскостное образование, сродни поверхности тела, и визуально определенные переживания, например, глубины вызваны влиянием другого, так сказать, сенсорного канала – а именно осязания, задающего условия и определяющего содержание опыта переживания движения). Поэтому получается, что зрительный опыт в любом случае и – главное – не случайно верифицируется осязанием: существующим можно признать лишь то, что можно потрогать. Отсюда и вся перспектива противопоставления образа и слова, опять же с когнитивной точки зрения: только о том, что определяется языком, о чем можно выстроить непротиворечивое и конвенциональное высказывание, можно говорить в терминах истинности.
А язык связан с плоскостью, поверхностью письма, которое, в свою очередь, определяется как жестикуляция, как манипулирование на поверхности: повторы, следы, перечитывание и т. п. Эти открытые проблемы Гомбрих затрагивает в своей немецкоязычной автобио графии, переходя тут же на проблемы языкового высказывания как критерия научности:
Мы до сих пор еще верим в «гаптическое и оптическое». ‹…› Хотя сегодня нам известно, что образ на сетчатке – весьма обманчив, ибо сама сетчатка – орган селективный[54].
Мы в свою очередь совершим верификацию этого положения, перейдя к этой теме в связи с оценкой Гомбрихом иконологии.
Вся последующая полемика с иконологией растет, как мы видим, если забегать чуть вперед, из этой студенческой курсовой, тема которой, напомним, была предложена профессором, про которого ходили слухи, что он не читает ничего, кроме ренессансных источников.
Гомбрих описывает случай из своей студенческой жизни: однажды после лекции замечательного ученого Эрнста фон Гаргера, специалиста по римскому провинциальному искусству, студенты обратили внимание, что об одной его идее им уже говорил Шлоссер. Преподаватель посчитал, что студенты над ним смеются, он не поверил, что Шлоссер хоть что-то читает, тем более – сочинения своих коллег[55]. Вообще, у Гомбриха можно найти на редкость много всяческих характеристик преподавателей. Среди них – уже упомянутые Титце и ассистенты Шлоссера, Свобода и Ханлозер, ученик Стжиговского Генрих Глюк, специалист по восточноазиатскому искусству, египтолог Юнкер, археолог Эмиль Райш, гротескная копия Шлоссера, «человек в своем роде не от мира сего», и, наконец, уже вышедший на пенсию, но продолжавший читать лекции археолог Эммануил Лёви, «особо тонкий и тонко чувствующий человек с просто потрясающей обходительностью – ну совсем как в старое доброе время!»[56]. Напомним, что книге Лёви «Die Naturwiedergabe in der lteren griechischen Kunst» (1900) посвящены весьма прочувствованные места историографического вступления к «Искусству и иллюзии». Напомним также, что имя Лёви всегда всплывает в связи с Фрейдом, испытавшим влияние этой книги. Можно сказать в этой связи, опять же отчасти предвосхищая последующий разговор, что чтение может быть альтернативой письму и средством все той же верификации…
Но вначале, однако, Гомбрих готов был предпочесть лекции Йозефа Стжиговского – главного оппонента и личного недруга Шлоссера: «Шлоссер ненавидел Стжиговского, и тот, конечно, ненавидел его»[57].
Стжиговский по-своему тоже был венским изгоем, но, так сказать, внутренним и по совсем иным, прямо противоположным по отношению к Гомбриху причинам (из-за крайней скандальности и отчетливого расизма). Тем не менее он снискал весьма внушительную интернациональную репутацию:
…он потом стал нацистом, хотя и маргинальным; антисемитом же он не был никогда[58].
Гомбрих весьма тонко и проницательно трактует его методологию как «ранний вариант экспрессионистского анти-искусства» с характерным желанием «полной переоценки искусства как такового»[59]. Хотя в его рассуждения о Стжиговском вкралась странная ошибка: Гомбрих считал его врагом так называемого искусства власти. Но это было как раз изобретением Стжиговского: искусство не столько «власти», сколько «силы», архаической, хтонической и нордической, нашедшей себе окончательный выход в нацистской культуре, призванной объять весь мир, весь «круг земной»…[60] Впрочем, это предсмертное «Европейское искусство власти…» можно (и должно!) трактовать как попытку (не совсем удачную, впрочем) адаптироваться к новому режиму. Так что, вспоминая Снорри Стурлоссона, не следует забывать и всю великую плеяду несомненных учеников Стжиговского, среди которых и О. Демус, и Фр. Новотны, и Д. Фрай, если брать только европейский круг его методологической власти…
Еще только поступив в университет и войдя в круг студентов-искусствоведов, членов своеобразного «клуба», организованного вдовой Дворжака, которая собирала их раз в месяц у себя дома, он выбирал как раз между Стжиговским и Шлоссером. Друзья уговорили его предпочесть последнего. Лекции же первого напоминали скорее «народные собрания», что не могло прийтись по душе Гомбриху, равно как и сама личность Стжиговского –
демагога и пламенного оратора, зажигавшего массы, ему внимавшие, в противоположность Шлоссеру, к которому на лекции, напоминавшие монолог[61], хотя бы два студента обязаны были приходить чуть ли не насильно, только чтоб скамейки не оставались пустыми…[62]
В целом Гомбрих не просто колеблется в характеристиках двух самых влиятельных университетских профессоров, но заметным образом испытывает влияние и того, и другого.
В других своих воспоминаниях о Стжиговском Гомбрих признается, что он
стремился на его лекции, но нашел его самого весьма эгоистичным, крайне тщеславным и постарался побыстрее избавиться от влияния его метода[63].
Тем не менее в ином контексте он определяет эту методологию довольно точно как основанную на «этнологическом понятии культуры»[64]. О Шлоссере же говорится как о «великом ученом», чья «невероятная эрудиция» была всем известна, так что «любой испытывал к нему уважение, вопреки его холодности и странности»[65]. В другом месте двум своим учителям-соперникам Гомбрих дает следующие характеристики: Стжиговский для него оставался «весьма важным историком искусства, первым отказавшимся от истории искусства, ориентированной на Запад», будучи «фанатичным оппонентом классической традиции». При том что «искусство Рима он попросту ненавидел, считая творческим лишь искусство кочевников».
Он был слегка не в себе; на его лекции меня тянуло, но он был настолько самонадеян, так поглощен разговорами о себе самом и о своих важных открытиях, что у меня не могло не возникнуть некоторое отвращение; его лекции были наподобие политических митингов с участием не одной сотни студентов.
Шлоссер же представлял собой тип
тихого престарелого ученого, чьи лекции – размышления, предназначенные для него одного.
Зато тот,
кого он принимал в свое общество, общался с невероятно ученым человеком; думаю, я научился у него всему и сверх всякой меры[66].
Кстати говоря, можно сравнить впечатления Гомбриха от «позднего» Шлоссера с воспоминаниями другого его студента, обучавшегося у того десятью годами раньше. Для Ханса Зедльмайра Шлоссер – первооткрыватель новой, психологизированной методологии, ироничный аристократ, скрытый итальянец и откровенный крочеанец[67].
Наконец, Гомбрих рано осознал и тот факт, что Шлоссер – это представитель именно «венского искусствознания», историографом которого тот был и к которому сам Гомбрих себя, безусловно, причислял. Именно Шлоссеру принадлежит известная периодизация венской науки об искусстве по школам: «первая» (Айтельбергер фон Эдельберг и Мориц Таузинг), «вторая» (Франц Викгоф, Алоиз Ригль, Макс Дворжак, он сам) и «новая» (все его собственные ученики – Свобода, Зедльмайр, Пэхт и др.)[68]. Гомбрих начинает венское искусствознание с Викгофа и его единомышленников, издававших «Kunstgeschichtliche Anzeigen», ставя им в заслугу беспощадную борьбу с «любительством» и изящной словесностью в истории искусства и представляя их исполняющими особую миссию, которой, однако, «они наделили себя сами»: история искусства должна обрести ту же «серьезность, что есть в науке». Но Гомбрих остается Гомбрихом:
…конечно, это никакая не наука, они просто думали, что она может быть наукой[69].
Касательно тогдашнего себя он признается, что тоже
верил, будто история искусства должна быть рациональной, ясной и не нести никакой околесицы[70].
Так что можно сказать, что в самом Гомбрихе какимто специфическим образом Стжиговский и Шлоссер если не примирились, то нашли комплементарные зоны соприкосновения. И более того: вся блистательная лекционная деятельность Гомбриха не является ли восполнением и исправлением юношеских впечатлений – популярность Стжиговского и ученость Шлоссера теперь едины.
В 1932 г. студент Гомбрих, поддавшись уговорам своего друга Курта Шварца[71], проводит один семестр в Берлине, где слушает лекции Г. Вельфлина, О. Вульфа и В. Вайсбаха, а также, что крайне существенно, В. Кёлера – гештальт-психология уже тогда произвела на Гомбриха соответствующее впечатление. Как он пишет, лекции проходили «на высочайшем уровне». Не забывал Гомбрих и о театрах с музеями.
О лекциях Вельфлина гораздо позднее – уже будучи не просто маститым, а даже, наверное, слегка уставшим и умудренным ученым – Гомбрих отзывался с откровенной иронией, ощущая себя, несомненно, по крайней мере на равных с великим формалистом:
Вельфлин пробудил во мне еретика. Он читал в audimax подобно звезде первой величины свои удивительные лекции, с небольшим швейцарским акцентом, с величественным видом и с интенсивно-голубыми глазами. ‹…› Он вел себя по-вельфлиански: прибегая к сравнительному зрению – то есть с двумя диапроекторами. ‹…› Постепенно я стал находить, что все это давно знаю, и непонятно, зачем мне все это рассказывают? Я был тогда совсем юн и мятежен, да еще все эти дамы со своими мехами, заполнявшие аудиторию…[72]
Берлин в целом Гомбриху запомнился «невероятно оживленным» (он попал, между прочим, и на лекцию Э. Шредингера, через год ставшего нобелевским лауреатом). Со Шварцем они потом совершили обширную (Гамбург, Бремен, Марбург) поездку по Германии, у которой, однако, на пороге стоял Гитлер, очевидный победитель проходивших как раз в то время выборов. Так что, по словам Гомбриха, все со страхом ощущали канун нацизма…[73]
В студенческие годы Гомбрих по совету другого своего друга Отто Курца пробует изучать китайский язык[74]. Они совместно брали уроки у одного старого миссионера, только что вернувшегося в Вену, и происходило это в здании Этнографического музея[75]. Тогда же юноша сближается с «венским кружком» (Мориц Шлик, между прочим, был убит в 1936 г. на ступенях Венского университета).
Университет: между Курцем и Крисом
Касательно собственно студенческой жизни Гомбрих вспоминает, что «в стенах университета они (студенты) проводили весьма счастливую жизнь». Увы, речь идет именно о жизни «внутри», так как снаружи университета, как он признается, те же его однокурсники составляли банды, выискивавшие и избивавшие евреев[76]. По другой версии, как раз внутри университета никто не был застрахован от хулиганов по причине традиционной экстерриториальности этого учебного заведения по отношению к полномочиям полиции. Одной из жертв, между прочим, стал Курц: на него напали в библиотеке и разбили голову стальной дубинкой[77].
Примечательной и приятной особенностью тогдашней студенческой жизни были праздничные вечера-капустники в конце каждого учебного года, для которых юный Гомбрих сочинял пародии на приглашенных преподавателей[78].
Одна из таких сатир стала началом большой дружбы: преподаватель Эрнст Крис на вопрос студента Гомбриха, узнал ли он себя в одной из таких постановок, признался, что узнал, но добавил, что совсем не хотел бы, чтобы его узнали другие…[79] Это была аллегорическая пьеса в барочном духе, где Гомбрих играл молодого историка искусства, которого искушает Сомнение, – намек на скептицизм Криса.
Кстати, Крис не остался в долгу, усомнившись в правильности выбора Гомбрихом жизненной стези:
Почему Вы, в самом деле, изучаете историю искусства, когда могли бы писать пьесы вроде этой?[80]
Крис был «прото-учеником» Шлоссера (по его же словам[81]) – искусствоведом и психоаналитиком в одном лице. Он еще гимназистом слушал лекции Шлоссера, которые тот читал специально для школьников во время зимних каникул, а позднее стал первым дипломником профессора (1922) после его перехода из Музея истории искусств в университет.
Вначале «устрашающе начитанный» Крис, помогавший Шлоссеру в издании «Литературы по искусству», был критически настроен по отношению к Гомбриху. Когда тот по совету Шлоссера показал Крису свою работу о каролингской пиксиде, старший коллега усомнился в необходимости этой работы как таковой. Уже после защиты Гомбрихом докторской Крис продолжал настаивать, чтобы его друг сменил специальность, оставаясь при своем мнении вплоть до кончины[82].
Интересно, кем бы стал Гомбрих, если бы он последовал примеру своего старшего товарища? Неужели тоже психоаналитиком? Более подробную версию истории их дружбы Гомбрих излагает в «Tributes…», воспроизводя, в частности, целую речь Криса против истории искусства как профессии:
Хотите ли Вы стать арт-дилером? Хотите ли Вы писать экспертные заключения для коллекционеров? Если нет, то что Вы здесь делаете? Нет достаточных оснований говорить, что Вы любите искусство. Если же Вы его правда любите и имеете возможность его любить, сами становитесь собирателем. Но если Ваши интересы интеллектуального свойства, Вы обязаны их реализовать, а не выбирать ложное поле деятельности. Мы реально слишком мало знаем искусство, чтобы выносить о нем достоверные суждения. Лучшие наши коллеги, способные к этому, обязаны спасаться в чуть более продвинутых научных отраслях; они склонны обращаться к психологии, но на самом деле психология не настолько развита, чтобы помогать истории искусства. Прислушайтесь к моему совету: смените круг интересов[83].
Похоже, что научное развитие Гомбриха совершалось не столько вопреки этим добрым советам друга, сколько параллельно им. Он доказывал возможность альтернативной науки об искусстве, преодолевающей банальность любительства и ограниченность знаточества, именно в психологии находя весьма действенную поддержку. Но и по прошествии времени Крис продолжал задавать Гомбриху один и тот же вопрос относительно истории искусства: «Кто хочет знать эти вещи?»[84]
Впрочем, диагноз и приговор – тавтологичность – можно дать всей исторической науке, если не всему гуманитарному знанию, которое есть всего лишь «собирание марок» (Резерфорд). В нашем Заключении мы попробуем описать место и роль Гомбриха в этой эпистемологической «аллегории», в юношеские годы писавшего сценарии и участвовавшего в собственных пьесах, а позднее сосредоточившегося на одних лишь «скриптах», оставив молодым право и возможность разыгрывать спектакли. Вот только кто теперь автор декораций и есть ли они, кто сидит в зрительном зале и нужен ли он там, когда на сцене разыгрывается представление с его участием, где ему показывают его самого, как это случилось с Крисом?
Интересно, показательно и символично, а главное, программно в одном своем позднем и совсем не обязательном тексте – предисловии к чужой (но немецкой!) диссертации – Гомбрих приводит почти полностью текст одной такой пьесы[85].
Крис обеспечил Гомбриху место ассистента при собственной должности хранителя в Музее истории искусств. Он был в родственных отношениях с важнейшими друзьями Фрейда: его жена, Марианна Ри, была дочерью самого близкого Фрейду человека – Оскара Ри, личного врача Фрейдов и участника еженедельной карточной игры с самим Фрейдом… А с ним, в свою очередь, еще в молодости имела знакомство мать Гомбриха (муж одной из ее кузин, педиатр Кассовиц, покровительствовал Фрейду в начале его карьеры), но их отношения не имели продолжения, за исключением воспоминаний о том, как Фрейд умел «блестяще рассказывать еврейские анекдоты»[86].
Главный плод дружбы между Крисом и Гомбрихом того периода – монументальная книга о карикатуре. Она была опубликована только в сокращенном виде на английском языке в 1940 г.[87]. Интересно, что до сотрудничества с Гомбрихом Крис работал вместе с его другом Курцем над книгой «Легенды о художниках» (1934), английский перевод которой вышел с предисловием Гомбриха[88].
Книга о карикатуре, вдохновленная идеями Фрейда о бессознательных корнях остроумия, возникла из более ранних экспериментов Криса и ассистировавшего ему Гомбриха с физиогномической экспрессией[89], связанных с их увлечением Францем Ксавером Мессершмидтом и его знаменитыми головами, выставленными примерно в то время в венском Бельведере. Эксперименты проводились, однако, не над головами Мессершмидта, а над статуями донаторов в Наумбурге. Смысл замысла заключался в том, чтобы проверить гипотезу Криса, предполагавшего, что экспрессия этих псевдопортретов связана не столько с четкой узнаваемостью эмоций, сколько с их интенсивностью, но неопределенностью. (Эти творения привлекли внимание Криса еще в связи с его совместной с Курцем работой над «Легендами о художниках», где ведущая мысль заключалась в компенсаторных функциях большинства историй, рассказываемых о художниках пред лицом иррациональности их творчества.)
Интерес Криса к этой проблеме пробудила его супруга, тоже психоаналитик, обратившая внимание на явные психотические симптомы в творениях скульптора. Участникам эксперимента показывались лица статуй или целиком, или наполовину (правая-левая, верхняя-нижняя) и предлагалось описать якобы наличествующие эмоции (по аналогии со своими). Сравнивали испытуемые и иные статуи, с иной физиогномикой (например, Бернини). Крису удалось наладить сотрудничество с Карлом Бюлером. Он как раз тогда занимался теориями экспрессии и просил своих учеников участвовать в эксперименте, что было весьма примечательно ввиду известной нелюбви Бюлера к Фрейду. Одно время Гомбрих участвовал в экспериментах самого Бюлера. Для Криса подобная работа виделась как реализация его собственной миссии посредника между науками и психоанализом[90].
Крису принадлежит отдельное исследование творчества Мессершмидта и других художников, страдавших расстройствами психики[91]. Он искал ответ на вопрос, почему физиогномическая экспрессия лучше всего удавалась мастерам с нездоровой психикой[92].
Сам Крис рассматривал книгу о карикатуре как своего рода прощание с искусствоведческой наукой и музейной средой, чтобы в дальнейшем сделать акцент на медицине и более интеллектуальной деятельности. От этого решения его отговорил сам Фрейд, предложивший должность главного редактора своего журнала «Imago», задуманного именно как место встречи психоанализа и наук о культуре. Как предполагает Гомбрих, Фрейду импонировала идея иметь близкого человека, «стоящего одной ногой в одном, а другой – в другом лагере»[93]. Лишь после войны конфликт был разрешен окончательно: Крис полностью отдался психоанализу и навсегда оставил историю искусства, хотя его скоропостижная смерть делает невозможными какие-либо решительные выводы относительно этой предельно незаурядной личности – этого «экстраординарного ‹…› сложноустроенного ума» (слова Гомбриха, описывающего с интересными наблюдениями за «ритмом научного воображения» Криса).
Книга была полна весьма выдающихся наблюдений, в том числе и о соответствии восстановления защитных возможностей Эго способности испытывать удовольствие от шутки, при том что, несомненно, существует связь между деструкцией психики и искажениями в восприятии и, соответственно, в воспроизведении модели, то есть объекта карикатурного воздействия. Стоит обратить внимание, что отсутствие разговоров о детерминизме избавляет эту мысль от ассоциации с М. Нордау (хотя вопрос о детерминизме уже в классическом психоанализе – открытый, а применительно к аналитике бессознательного – почти постулируемый). Главное, что психическая жизнь человека совершается одновременно в двух измерениях – и на уровне социальном, и на уровне историческом (помимо собственно уровня душевного).
Позднее Гомбрих будет достаточно подробно комментировать основной замысел Криса о карикатуре, раскрывая по ходу и собственные взгляды на одни из самых глобальных вопросов истории искусства[94]. Для Криса карикатура была поводом для принципиальных размышлений о «развитии магического образа» как такового. Мысль эта выражена в контексте общих представлений еще самого Фрейда об искусстве как одном из способов «канализации» агрессии, понятой, в свою очередь, как выражение бессознательных сил. Поэтому Крис предположил, что сатирическое, то есть искажающее, изображение может быть еще одним «выходом агрессивных импульсов». История карикатуры для него – одна из страниц истории магических практик (как самых опасных, предполагающих ритуалы с использованием восковых фигур-кукол, заменителей реальных людей, предполагаемых жертв подобного колдовства, так и легитимизованных в качестве заменителей подлежащих наказанию, но не пойманных преступников, – знаменитые effigies позднего Средневековья, прототипы и медиумы портретного искусства[95]).
Идея Криса состояла в том, что если в ренессансную и последующие эпохи карикатура, то есть уродование физиогномики (явная агрессия, когда было «буквально не до шуток»!), применяется к почтенным персонажам (случай Бернини и его изображений папы), то это означает, что время магии и веры в колдовство прошло, а соответствующая потенциальная способность и потребность человека заменяется или обслуживается возникшим изобразительным жанром карикатуры. Комментарий Гомбриха касательно подобной теории звучит так:
Крис, подобно Фрейду и Варбургу, был полностью под властью эволюционистской интерпретации человеческой истории, воображая ее как постепенное движение от примитивного иррационализма к триумфу рассудка; уже Варбург организовывал свою библиотеку таким способом, чтобы отразить человеческий прогресс от магии к разуму, так что и наша книга по истории сатиры выглядела как аналогичное развитие… теперь мы уже не можем смотреть на эти вещи таким образом: слишком много случилось такого, что разрушает подобный розовый оптимизм.
И дальше – главное замечание:
…я сам пытался позднее поместить карикатуру в более общее развитие репрезентирующих искусств; но я рассматривал ее скорее как техническое новшество, чем как симптом перемен в человеческом сознании; нельзя отрицать наши невероятные технические успехи, но не меньшая правда заключается и в том, что в иных моментах мы все еще отличаемся совершенной дикостью[96].
Впрочем, Гомбрих может предложить и более благосклонную позицию относительно эволюционизма: «…не слишком ли эволюционистично это мыслилось нами?»[97] А уже в чисто дружеских воспоминаниях о Крисе в «Tributes…» он предпочитает вообще никак не характеризовать книгу.
Но самое главное, что сделал Крис для своего друга, – это именно знакомство с кругом Аби Варбурга, в первую очередь с директором его библиотеки Фритцем Закслем и с личным секретарем Варбурга Гертрудой Бинг, эмигрировавшими в Лондон вместе с библиотекой в 1933 г.[98]. Интересно то, что Гомбрих настаивает на близости практиковавшейся в Вене науке об искусстве и иконологии Варбурга, крайне благосклонно относившегося к Шлоссеру (тот отвечал искренней взаимностью).
…Еще в годы учебы Гомбрих сводит дружбу с уже упомянутым Отто Курцем[99]. Гомбрих находит на редкость трогательные слова, характеризуя друга:
Его публичная Персона была чем-то большим, чем просто раковиной, возникшей ради защиты его ранимого и совершенно детского Я. В практических делах он был беспомощен в полном соответствии со стереотипом лектора-профессора, где бы он ни сталкивался с агрессивностью, равнодушием или напыщенностью, он всегда пожимал плечами и уходил в свой мир. ‹…› Его человеческая теплота выражала себя в любви к детям и животным, а также в его глубинной отзывчивости на великое искусство и великую музыку, в частности Моцарта и Гайдна. Его чувство качества было безупречно, и его дружба – непоколебима. Не много можно найти похожих на него[100].
Близкое знакомство с маленькой дочерью Курца зародило в Гомбрихе мысль о написании истории искусства для детей (он рассказывал в письмах к девочке о своей работе над диссертацией, посвященной Палаццо дель Те в Мантуе, – еще один аспект маньеризма, уже не методологический, как в случае с зедльмайровским гештальт-кречмерианством, а куда более живой и реально подлинный). Гомбрих позволяет себе на самом деле совершенно маньеристическую мысль: та или иная идея может быть правдоподобной, если она остается понятной при переводе на язык ребенка (с уточнением, что важное условие – «бешеный темп» письма)[101]. Маньеризм этой максимы – в допущении двойной модальности мышления: есть манера взрослого способа выражения, а есть – детского, при этом между ними возможен переход и взаимообмен, когда, например, взрослая докторская диссертация пишется как веселая детская сказка[102].
Неподготовленность как непосредственность и неопосредованность никакими теориями и установками – ведущая проблема тогдашней, в известной мере гештальт-феноменологической теории искусства, когда у того же Зедльмайра в его Предисловии к «Архитектуре Борромини» (1933) ведутся рассуждения о «неэвклидовом архитектуроведении» в контексте непосредственного, не отягощенного никакими установками опыта любителя.
Нельзя забывать, что все это может быть и просто общим местом уже тогда стандартного экспрессионистического способа мышления с его акцентами на примитив и дикость, неиспорченность, непорочность и детскость, которые суть архаичность и а-историчность. Тот же Пикассо – модернистский вариант Джулио Романо: они оба знали и классическую традицию, и вызов-провокацию. Чередование, переход или совмещение того и другого – сама суть игры. Гомбрих прямо признается, что, когда он писал свою диссертацию, у Пикассо в самом разгаре был неоклассический период и этот дух витал в воздухе, которым они оба дышали, не подозревая об этом[103].
Та же мысль, но в другом месте, выглядит еще более определенной:
…дискуссия о маньеризме, из которой я вышел, была сильно окрашена в цвета экспрессионистического искусства. ‹…› Лишь гораздо позже я догадался, что Пикассо как раз тогда находился в своей классицистической фазе и несомненно повлиял на меня[104].
Кстати, не отрицает Гомбрих и влияния на него абстрактного искусства (переход от чистого формализма в искусствознании к проблемам изобразительности – не без воздействия абстракционизма).
Наконец, возвращаясь к Зедльмайру, стоит обратить внимание, как уже в поздние годы (1990) и именно в немецкоязычных своих воспоминаниях Гомбрих предельно дружественно отзывается об этом представителе когда-то «молодого венского искусствознания», который вместе со своими единомышленниками пытался выявить в истории искусства рациональное зерно:
…это было лозунгом молодых: как можно быть рациональным в истории искусства, как можно делать рациональные высказывания[105].
Признавая свое единство с Зедльмайром в понимании рациональности как определенности высказывания, Гомбрих довольно характерно добавляет, что «в Англии он научился несколько подбирать щупальца», имея в виду, вероятно, необходимость отчасти камуфлировать свою причастность к германской учености.
Практический выход из подобной теории был просто идеальным: издатель Вальтер Нойрат (в будущем – основатель Thames and Hudson) добился превращения писем Гомбриха девочке в книжку, посвященную «всеобщей истории для маленьких читателей»[106], тут же переведенную на польский, голландский и все скандинавские языки, что серьезно облегчило материальную сторону существования Гомбриха. (По окончании университета он быстро убедился, что его специальность, как и предрекал отец, не способна «питать существование»[107].) При этом немецкая версия очень скоро была запрещена нацистами, но не по антисемитским, а по пацифистским соображениям.
В немецком переиздании 2004 г. есть трогательное предисловие внучки Гомбриха Леони со всевозможными подробностями появления этой книжки. Там говорится, что юной корреспондентке Гомбриха, недоумевавшей, зачем ее милый знакомый занимается такими скучными вещами, предназначался просто рассказ о рыцарских нравах; Нойрат настоял на том, чтобы весь текст был написан за 6 месяцев; а готовая рукопись впервые была прочитана будущей супруге Гомбриха во время их прогулки по Винервальду.
Сам Гомбрих признается, что, вовсе не будучи историком, он черпал вполне достоверные сведения из энциклопедий, которые мог найти дома[108]. Внучка добавляет, что работа над книгой включала в себя три ежедневные стадии: утреннее чтение этих самых энциклопедий, дневное посещение библиотек (ради источников) и вечернее изложение текста в письменном виде[109].
…Тогда же Гомбрих женится на Ильзе («Лонни») Геллер – чешской пианистке, ученице Рудольфа Серкина (и его, Гомбриха, матери). Сама невеста настояла на том обстоятельстве, что «на медовый месяц у них нет времени». Молодые лишь навестили родственников в Праге[110]. И в 1937 г. уже в Англии у них рождается единственный сын Ричард, будущий специалист по буддизму и профессор в Оксфорде.
По поводу своей женитьбы Гомбрих делает два примечательных наблюдения: с одной стороны, музыка, благодаря жене, оставалась «в центре» его жизни, а с другой – как раз благодаря этому обстоятельству его реакция на классическую музыку всегда оставалась «более непосредственной», чем на визуальные искусства[111].
Различия чтения (read) текста и реакции (respond) на образ – основа основ всей методологической коллизии между формальным анализом и семантическим подходом в лице той же иконологии. Впрочем, мы должны иметь в виду, что парадигма художественной формы в контексте теории «чистого зрения» крайне далека от всякого рационализма и тем более позитивизма, когда непосредственная и витально насыщенная и обоснованная реакция может восприниматься как альтернатива рационализму, дискурсивности и логицизму как таковому (не без опасности, правда, психологизма и рудиментов органической теории). И это все – скрытая проблематика постклассического венского искусствознания, отраженная довольно тщательно, хотя и не без осуждения, в гомбриховской книге о Варбурге.
Аншлюс и Англия
В конце 1935 г., накануне Рождества, Гомбрих покидает Австрию. Его уговорил сделать это Крис, сам переживший полную изоляцию среди своих коллег-искусствоведов, но не гнушавшийся следить за развитием ситуации в соседней Германии по первоисточнику, регулярно читая «Vlkischen Beobachter».
При этом как психоаналитик он был максимально востребован, принимая по три пациента в день: двоих – с утра, до музея, и одного – после, уже вечером[112]. И только после этого наступало время для статей и книг, а также для общения с единственным подлинным коллегой и другом – Гомбрихом, когда они вместе обсуждали и писали книгу о карикатуре[113]. А ведь еще были обязанности главного редактора фрейдовского «Imago»! Гомбрих не скрывает своего восторженного отношения к Крису с его «разносторонностью и концентрированностью»[114]. При этом Крис был уверен, что не нуждается «в слишком продолжительном сне»[115], что имело, однако, вкупе с болезненным пристрастием к табаку (три пачки сигарет в сутки!) катастрофические последствия для его здоровья: он скончался в неполные 57 лет от сердечного приступа.
Единственной, но безусловной формой релаксации для Криса были занятия в саду с цветами, которые, как предполагает Гомбрих, заменяли ему те изящные вещи, что ждали его когда-то в венском музее. (Хотя еще прежде, до музея, у Криса было схожее эстетическое переживание: когда он, будучи в Берлине, ухаживал за своей будущей супругой, его потряс один цветочник, который составлял ему букет, так что Крису по-настоящему захотелось заняться флористикой[116].) Тем не менее именно анализ был его жизнью и единственным прямым способом стимуляции интеллекта. Подобно заметкам о Курце, финальные формулировки Гомбриха о Крисе достойны буквального воспроизведения:
У него было мало времени для обычных общественных обязанностей, он редко виделся с людьми за пределами профессии, он лишен был отдыха за пределами своего сада. Так что не знавшие его близко легко могли находить его недоступным и напряженным. Лишь некоторые имели возможность знать, как много он заботился о благополчии других и как мало – о собственном[117].
…В один прекрасный день Крис сказал Гомбриху: «Это нельзя терпеть, уезжай отсюда». В ответ Гомбрих спросил его, почему он сам остается, на что Крис сказал просто: «Пока Фрейд здесь, я тоже остаюсь – при нем»[118]. Крис добился для своего друга двухлетнего гранта, предполагавшего исследования или стажировку в Библиотеке Варбурга (работа над библиографией по теме «Nachleben der Antike»). Гомбрих же в свою очередь еще прежде добился благосклонности Гертруды Бинг, заочно очарованной молодым ученым из Вены[119]. Есть история о том, как Гомбрих однажды написал полушутливое письмо Крису в Лондон, удачно воспроизведя его почерк (речь шла о книгах, которые будто бы задолжал Крису Гомбрих, и в письме от имени самого Криса говорилось, что книги возвращены; понятно, что Крис был крайне обескуражен тем обстоятельством, что он сам себе доказывает собственную забывчивость). Письмо было показано Бинг, и та попросила Гомбриха, чтобы он написал и ей – ее почерком. Это было исполнено лишь отчасти и с уверениями, что дружеская близость и симпатия по отношению к Крису позволила ему легко овладеть его причудливым почерком, тогда как «суровая архитектура ее письма нанесла ему сокрушительное поражение».
По дороге в Лондон Гомбрих заглядывает наконецто в Париж, гуляет по Лувру, сводит очное знакомство с известным историком искусства Шарлем Стерлингом. Попав в Лондон и в Библиотеку Варбурга уже в начале 1936 г., он
обнаружил себя среди очень ученых мужей и дам, знавших крайне много о Древней Греции и Риме и ничтожно мало – о современной Англии[120].
Гомбрих признается, что в то время немецкие и австрийские ученые-иммигранты существовали совершенно изолированно, образуя своего рода «анклав немецкой культуры в Англии», и о «реальной интеграции» речи быть не могло[121]. Следует также представлять себе «без всякой фальши», по словам Гомбриха, то «чудовищное время» и то положение дел: эмиграция в Англию была вовсе не автоматической, ведь «академики и интеллектуалы» из Германии и Австрии могли рассчитывать на приглашение в Англию лишь в случае, если они со своими специальностями не составляли конкуренции местным ученым[122].
В 1938 г., накануне аншлюса, Гомбриху удается вывезти из страны и родителей, благо что отец Гомбриха к тому времени почти совсем разорился и препятствий для отъезда никаких не было. (Надо сказать, что и прежде жизнь молодого ученого в тогдашней уже довольно антисемитской Австрии была малоприятной, в том числе и с точки зрения перспектив научной карьеры: после габилитации, напомним, он смог найти лишь место внештатного ассистента при Крисе, тогда – хранителе Музея истории искусств, преемнике, между прочим, Шлоссера[123].)
И, тем не менее, позиция Гомбриха по «еврейскому вопросу», если уместно здесь это выражение, отличалась крайней степенью неоднозначности. Существенен для него, например, тезис, что само
понятие еврейской культуры – это изобретение Гитлера, его предшественников и его последователей[124].
Поэтому если определять еврея как «члена определенного религиозного сообщества», как носителя языка, «понятного в синагоге» (это опять же гитлеровские, как говорит Гомбрих[125], дефиниции, но других нет), то в этом случае выяснение, кто, например, из венских художников начала века был евреем, – «задача для сотрудников гестапо»[126]. При том что все это однозначно относится лишь к «восточным евреям», а не к «ассимилированным»[127]. Культура не может и не должна иметь национальных аспектов, тем более что просвещенный (не местечковый!) еврей – всегда соль культуры как таковой, и особенно венской культуры начала ХХ в. Более того, этому уникальному – внеконфессиональному и вненациональному – положению потомков тех, кто за поколение до них выбрался из «невыносимо узколобой ортодоксии»[128], можно найти и социально-психологическое объяснение. Стоит только помнить, что расовая проблема возникает тогда, когда ослабевает или просто исчезает вера – как христианская, так и иудейская, так что и антисемитизм, и сионизм – одного поля ягоды[129]. Можно провести параллель с тенденцией «деевреизации» новозаветной экзегезы, характерной для либерального протестантского богословия начала ХХ столетия, воплощенного в фигуре А. фон Гарнака. Напомним, что Гомбрих принадлежал еврейству, вполне искренне и сознательно обратившемуся в протестантизм (в чем можно видеть способ в том числе и преодоления собственного прошлого)[130].
Австрийскому антисемитизму способствовало и крайне плачевное экономическое положение в Вене. Позднее Гомбрих вспоминал, что ему «бесконечно повезло» не видеть самого аншлюса[131]. Родители Гомбриха, как и многие другие в Германии, Австрии и всей Европе, поначалу даже не думали об эмиграции, особенно отец, привыкший к вполне респектабельной и безопасной жизни. Но когда мать Гомбриха была вызвана в гестапо (у нее выясняли сведения о некоторых ее учениках, что, впрочем, не имело никаких последствий), «им пришлось задуматься», по словам Гомбриха, и они согласились перебраться в Англию. Благо у матери Гомбриха там были друзья, которые обеспечили ее и ее супруга приглашениями[132]. Совсем иная – трагическая – судьба ожидала родителей Курца, отказавшихся эмигрировать (его мать должна была находиться при тяжело больной собственной матери). Во время войны следы их просто исчезают. Курц никогда и ни с кем даже не говорил на эту тему…
В Англии за безопасность пришлось платить бедственным материальным положением: мать Гомбриха вынуждена была зарабатывать уроками музыки, а отец – просто печатанием на машинке, что не могло не вызвать соответствующих чувств у их сына, признававшегося позднее, что у него «отчасти исчезли воспоминания о тех временах»[133].
Сотрудничество с Институтом Варбурга в Лондоне постепенно становится все более плотным и постоянным. Гомбриху в качестве помощника Бинг полагалось разбирать черновики Варбурга. Это была крайне тяжелая работа, ведь, по словам Гомбриха, он столкнулся с сильно фрагментированными, перенасыщенными примечаниями и примечаниями к примечаниям текстами самого настоящего невротика, не способного завершить начатое и постоянно уточнявшего мысль или начинавшего ее снова. Кроме того, Гомбрих пытался писать комментарии на английском (на подготовительный материал, посвященный атласу «Мнемозина»), но ему было велено делать это на родном языке[134]. В перспективе была задумана совместная с Бинг обширная книга об основателе библиотеки (в рамках запланированного его собрания сочинений), где Бинг отвечала за биографию, а Гомбрих – за идейную часть. Была составлена и библиография, после вой ны книга реально могла быть написана и напечатана, но Бинг скончалась (1964), и Гомбрих выпустил не труды Варбурга, даже не его «историю жизни», а «интеллектуальную биографию»[135].
О данном проекте Гомбриха можно сказать, что это в какой-то мере интеллектуальная автобиография его составителя. Всякий разговор о сознании другого человека – это отчет о собственном мышлении, способностях, границах и результатах собственного понимания и о содержании иного сознания – как о наполнении собственного Я. (Тем более что книга о Варбурге наполнена непубликовавшимися материалами его черновиков с комментариями Гомбриха, где уже сам отбор материала – аспект толкования.) Так что эта книга есть разновидность иконологии, но не столько визуальных, сколько ментальных, когнитивных и, главное, меморативных образов и символов[136].
Но еще до войны работа в библиотеке прерывалась поездками Гомбриха обратно в Вену, так как необходимо было завершить книгу о карикатуре. Книгу удалось закончить, но опубликована она не была[137]. Причина тому – позиция Заксля, с одной стороны стимулировавшего работу, а с другой – полностью проигнорировавшего ее результаты из-за занятости. Он так ее и не прочел, поручив это какому-то рецензенту, который оказался непримиримым противником психоанализа – со всеми вытекающими отсюда последствиями.
В конце концов, когда библиотека переехала на новое место, какая-либо работа оказалась невозможной: запакованные на время переезда документы стали попросту недоступны. И Гомбрих переходит на преподавательскую работу в Институт Курто[138], где читает лекции о Вазари (фактически возобновляя на новом месте семинары Шлоссера, а также свой курс, подготовленный еще в 1938 г.[139]), работает вместе с Курцем над учебным пособием по иконографии («так или иначе сделанным», но так и не опубликованным, хотя были написаны заметки о соответствующих категориях: эмблеме, аллегории, символе, натюрморте, мифологии и т. д.).
Война и прослушка
Гомбрих вспоминает об откровенно благодушном отношении к Гитлеру многих своих знакомых – и поначалу, и уже перед самой войной[140]. Например, Курц весной 1933 г., уже после избрания Гитлера, не побоялся перебраться из Вены в Гамбург для работы в тогда еще не вывезенной Библиотеке Варбурга, став, по его же собственным словам, «единственным евреем, иммигрировавшим в Германию при нацистах»[141]. Правда, уже в конце того же года вместе с библиотекой он благополучно оказывается в Лондоне. Один лишь Крис, как отмечает Гомбрих,
был убежден в необходимости бороться с апатией и ложным оптимизмом…[142]
Тем не менее война, в которую многие не хотели верить (если только это предмет веры), все-таки разразилась и внесла немалые коррективы и в планы, и в труды: начинается шестилетнее сотрудничество (по рекомендации Криса) с секретной Службой мониторинга Британской радиовещательной корпорации (ВВС), располагавшейся в Ившеме (Ворчестер).
Работа нелегкая – тяжкий труд, долгие часы, сильное давление, но я был счастлив.
Чуть дальше, правда, Гомбрих говорит о «рабстве у Службы мониторинга»[143]. Он проверял и анализировал результаты прослушки радиоэфира, записанные с целью перехвата и перевода немецкого вещания и выявления важных сведений. Они записывались на специальные восковые диски (не хватало только античного стилуса!) и воспроизводились с помощью приспособления, родственного простому граммофону (основное содержание подобных передач – речи Гитлера и Геббельса).
Хотя кто знает, не довелось ли ему слышать и цикл передач такого «коллаборациониста», как Вудхауз, тогда же выступавшего по немецкому радио? Не похоже ли это в зеркальном отображении на ситуацию Гомбриха? Стал ли бы тот сотрудничать с немцами, если бы не угроза жизни? И стал бы Гомбрих английским патриотом, профессором всех мыслимых университетов и лауреатом всевозможных премий, если бы не угроза голода? В период работы Гомбриха на радио ситуация была для него и его семьи по-настоящему критическая. Достаточно сказать, что его отец был интернирован и провел в английском лагере некоторое время в 1940 г. Отто Курц и тот не избежал подобной участи «враждебного иностранца» весной 1940 г.![144]
Гомбрих не испытал ничего подобного только потому, что открыто и продуктивно сотрудничал с разведкой. И надо думать, он вполне отдавал себе в этом отчет до конца своей жизни:
Я не ощущаю себя англичанином; я чувствую себя именно тем, кем я являюсь, – центральноевропейцем, работающим в Англии; благодаря службе на BBC я всего лишь изрядно выучил английский[145].
…В Ившеме он сначала жил один, лишь позднее смог вызвать туда и семейство. Семейство обитало у местных жителей, которые откровенно побаивались странных иностранцев, к тому же нуждавшихся каждый день в горячей ванне. Это, по их мнению, было признаком как раз их сильнейшей нечистоты, а вовсе не чистоплотности – никак не могут, мол, отмыться… Через 6 месяцев Гомбрих с семьей переселился в загородный коттедж к знакомому друзей, который в свою очередь не мог понять, как их гость может, например, спать после 10 часов утра. (Гомбрих всего-навсего возвращался с ночных дежурств после четырех, не распространяясь о роде своей работы). Когда Служба перехвата переехала в Рединг, положение стало еще хуже: в городе иностранцы («мы были вражескими чужаками») просто не имели права выходить из дому. Гомбрих один имел такое право по долгу службы и мог ездить на велосипеде от дома до работы и обратно.
Положение дел слегка улучшилось лишь тогда, когда Гомбриха повысили до старшего ответственного службы прослушивания: сам он уже ничего не слушал, а «смотрел, как слушают другие»[146]. В дальнейшем, заметим от себя, Гомбриху по ходу его сугубо научной активности стала доступной и ситуация следующего по смыслу и содержанию порядка: он мог видеть, как слушают другие, как уже он сам говорит или, вернее сказать, вещает…
И именно он первый в Англии узнает о смерти Гитлера и сообщает об этом Черчиллю[147]. Вот, кстати говоря, пример интерпретации в действии: Гомбрих услышал вначале предуведомление немецкого радио о готовящемся важном сообщении, и тут же заиграла печальная мелодия – симфония Брукнера, написанная на смерть Вагнера. Дабы сообщение – как только оно прозвучит – было немедленно отправлено, Гомбрих заранее на кусочке бумажки написал возможные варианты продолжения, догадавшись приблизительно о том, что прозвучит в дальнейшем: «Гитлер сдался» или «Гитлер мертв». Немецкий же диктор сказал вскоре следующее:
…наш Фюрер пал в неравной борьбе с большевизмом.
Комментарий Гомбриха, обращенный к собеседнику, характерным образом переводит эмоции в оценку и звучит так:
Вам кажется это воспоминание мрачным, мне же оно представляется, наоборот, самым великим событием, в котором я когда-либо участвовал[148].
Упомянутое выше эссе «Миф и реальность…» – именно на эту тему, и в нем используется материал обширного официального меморандума Гомбриха, обсуждающего проблемы, с которыми он столкнулся во время своей секретной работы, хотя это было не резюме о проделанной работе, а «размышления о природе пропаганды»[149].
Существен в вышеприведенной цитате оборот «наоборот»: это обращенность и обратимость эмоционального содержания опыта – не в интеллектуальное, как можно предположить у ученого, а в оценивающее усилие, что и есть важнейшая специфика Гомбриха и именно его способа построения научного дискурса. «Так я стал посланником», – резюмирует он этот пассаж, который можно сравнить в связи с оценкой «Истории искусства» как не просто популярного, а популяризаторского текста с его замечанием касательно своего культурного «миссионерства». Примечательно и показательно, что для Гомбриха собственная вовлеченность в событие делает его, это событие, вовсе не ужасным, а, например, интересным, достойным обсуждения и оценивания (эмоция компенсируется, так сказать, аксиологическим усилием, актом оценивающей воли). А с другой стороны, именно вовлеченность – средство преодоления ужаса и зависимости, так как изнутри Я еще может влиять, а снаружи – лишь страдать, созерцая в бессилии собственное бессилие… Сказанное релевантно и в связи с проблемой взаимоотношения пафоса и толкования, надо думать, преломленной сквозь объект-теорию постфрейдовского психоанализа. Хотя и не без попперовского анализа «ситуационной вовлеченности» любого познавательного акта, прежде всего научного[150].
Пример подобной связки эпистемологии и аксиологии, кстати говоря, – характеристика того же Криса, который был верным учеником Анны Фрейд и, по словам Гомбриха,
из-за склонности большинства английских аналитиков, последователей Мелани Кляйн, изучать бессознательные фантазии психики везде и всюду неуклонно делал акцент на области, именуемой эго-психологией, на факторах защиты и контроля, которыми зачастую пренебрегали в тех самых вульгарных обзорах, что так ему претили[151].
…Именно тогда Гомбрих, отчасти по долгу службы, как мы уже выяснили, начинает серьезно изучать английский, не совсем безупречный, по его собственному признанию, в то время, но вскоре – и на всю оставшуюся жизнь – ставший блестящим и даже блистательным[152].
В дальнейшем подобного рода деятельность, так сказать, дешифровщика-оценщика стала для Гомбриха по-настоящему парадигматической: знание – это как перевод с одного языка на другой услышанного или подслушанного сквозь бессмысленный и бесполезный шум или даже сквозь непрестанную речь, в которой есть вещи не только не совсем понятные, но и просто не интересные. Например, непонятно (хотя и интересно), где открывается правда, а где притаилось нечто иное: Гомбрих помнит, как он с ужасом вслушивался в ликующие голоса немецких летчиков в небе Лондона, восторженно сообщавших об удачно сброшенных бомбах, – достоверность их радостных донесений он мог проверить только спустя два года по возвращении в этот самый город, казавшийся ему уже не существующим, но на самом деле – вполне устоявший…[153]
Подобная ситуация, когда эмпирическая верификация оказывается отложенной, заставляет думать о совсем иных критериях истины… Иногда невероятной и неважной кажется информация, просто не соответствующая исходным ожиданиям: Гомбрих вспоминает, как однажды в эфире звучала речь римского понтифика, который, как это ни странно, поминал почему-то одни лишь «атомы» – и ничего более… Никто не мог понять: при чем тут папа и атомы? На самом деле папа всего лишь открывал физическую лабораторию в Ватикане. Никто тогда не мог себе представить, замечает Гомбрих, насколько скоро разговор об атомной энергии станет «самым важным» и насколько важно было запомнить, что папа говорил на эту тему в начале войны…[154] Так что можно сказать, что один из аспектов интерпретации – дешифровка символов ожидания и правил знакомства, за которыми – усердная и усредненная, а потому бессознательная «фильтрация эфира».
Между прочим, такой подход очень удобен ввиду многочисленных критиков: возражения всего лишь как помехи для восприятия собственной непогрешимости (или фон, оттеняющий уникальность личных достижений).
Хотя, если говорить строго и серьезно, дискуссия может выступать и как контекст фальсификации – и не только оппонентов. При этом в основе такой когнитивной парадигмы лежит вполне гештальт-обоснованная методическая установка. Фоном-шумом для интерпретатора может выступать континуальная неразложимость и реальная симультанность визуального опыта, на котором должна быть буквально выписана дискурсивная конфигурация того или иного смысла согласно той или иной интенции или просто мотиву, руководящему вниманием интерпретирующего сознания, находящегося под властью ценностных ориентиров.
В данном случае не может не действовать и та когнитивная модель, что ориентирована на опыт слушания во всех его разновидностях (и перехваченных чужих разговоров, и исполняемой музыки, и даже произносимых собственных лекций, не говоря о речевых актах как таковых). Что услышано и что пропущено мимо ушей, а что продолжает звучать ретенционально?
И что выступает структурообразующим или просто константным элементом звучащего потока? И не предполагает ли речь именно слух как куда более мощную альтернативу зрению, удерживающему свои права при акте письма и тем более чтения – считывания в первую очередь визуальной информации:
…проблемы, связанные с языком, занимали меня не только во время войны[155].
Не бесследно, заметим мы, прошел для Гомбриха и опыт письма-чтения, и опыт говорения-перечитывания. Недаром один из поздних сборников Гомбриха, где он уже безбоязненно являет себя истинным философом науки, не только соответственно назван «Идеалы и идолы», но и имеет расшифровывающепоучающий подзаголовок «О ценностях в истории и в искусстве»[156]. Заглавный текст в нем (1973) начинается со сравнения ученой деятельности, непрестанно занятой поиском истины, с ездой на велосипеде, где условие движения – непрестанное вращение педалей (вспомним деревянного коня как если не способ передвижения, то уж точно – метафору динамики), а текст с многообещающим названием «Искусство и самотрансценденция» (1970) заканчивается апологией отца гештальт-психологии В. Кёлера[157].
Так что Гомбрих-слушатель по возвращении с передовой этого тихого и одновременно шумного радио-фронта не столько возобновляет, сколько активизирует ученые усилия Гомбриха-читателя и Гомбриха-писателя: в 1943–1944 гг. публикуются его эссе о Рейнольдсе[158], Пуссене[159], возникшие из богатейшего материала неопубликованной книги об иконографии. В частности, Гомбрих обнаруживает тот факт, что мифологические композиции Пуссена – это плод его штудий предшествовавших ему мифографов (тема присутствует и в эссе о Боттичелли, где, однако, Фичино – еще современник художника, тогда как фигурирующий в связи с Пуссеном Конти – уже предшественник). Получается, что картины Пуссена – это специфическая форма исторически-визуального комментирования текстов ренессансного гуманиста и своего рода наглядная документация способа обращения самого Пуссена с мифом и отношения к нему[160].
Если говорить точно, Пуссен читал тексты крайне популярного еще при жизни и на протяжении еще двух веков венецианского неоплатоника Наталиса Кома (Наталия Конти), объяснявшего миф как подлежащий раскрытию покров натурфилософской и моральной истин, тогда как Гомбрих отчасти читал, а отчасти взирал на того и другого с теми же целями и средствами: «объяснить» через «раскрыть» (метод явно психоаналитический, хотя уже поздний Фрейд с этим бы не согласился, не говоря уж о последователях его старшей дочери). По мнению Гомбриха, его исследование повлияло на Энтони Бланта (еще один иконологически-аналитический и, по-видимому, не полностью бессознательный со стороны Гомбриха мотив толкования как разоблачения: ведь известно, что Блант позднее был именно разоблачен как советский шпион). Примечательно, что Гомбрих при этом не ссылается на Кассирера[161] как на одного из известнейших комментаторов Конти, быть может, чтобы не выглядеть неокантианским комментатором классической иконологии…
Фактически связь с Библиотекой Варбурга у Гомбриха не прерывалась, хотя прямые контакты были невозможны по причине, например, переезда библиотеки из Лондона в Денхэм после очередной бомбежки, когда погиб один из сотрудников – библиотекарь Ханс Майер, вместе с которым погибли все материалы для третьего тома «Библиографии…»[162]. До нового местоположения было «дальше, чем до какого-нибудь кибуца», как потом будет выражаться Гомбрих[163].
Заксль, который был «выдающимся человеком, но почти никаким администратором»[164], теперь приглашает его научным сотрудником в Библиотеку Варбурга (тогда уже ассоциированной с Институтом Курто), но только преемник Заксля – Генри Франкфорт – обеспечивает Гомбриха уже и должностью преподавателя (до 1954 г.), которую ему прежде предоставлял лишь университет, да и то не совсем надежно, хотя и по специальности. Ведь в варбурговском научном центре читались лекции по
цивилизации Ренессанса, по платонизму, по Вазари, патронажу и прочим вещам такого рода; по истории же искусства – только в Институте Курто[165].
Франкфорт, став директором института (1948), первым делом спросил у Гомбриха, что он может для него сделать, и тот, недолго думая, сказал: «Одну простую вещь – дайте мне постоянную работу»[166].
В других воспоминаниях Гомбрих уточняет, что в момент его возвращения в Лондон в 1945 г. библиотеку прикрепили к Лондонскому университету строго в наличном составе и Заксль не решался ходатайствовать о его расширении: он не представлял, как скажет руководству университета, что, мол, «у меня тут есть еще кое-кто»[167].
Но самое существенное иное: под историей искусства в Лондонском университете (и во всей английской науке) понималось в те времена несколько не то, к чему Гомбрих привык в Вене. Гомбрих объясняет, что уже основатель института – Сэмюель Курто, будучи сам собирателем и знатоком, считал необходимым введение истории искусства в Лондонском университете, хотя и не знал, как это сделать. В самом университете существовала местная партия противников немецкой науки, понимавшей историю искусства на английский лад – «критика, знаточество, эстетика и т. п.»[168]. Заслуга Заксля – в преодолении этой позиции, в том числе и благодаря привлечению к преподаванию Энтони Бланта[169]. В этой связи Гомбрих воспроизводит и собственную – важную для нашего последующего разговора – позицию, замечая, что для английской гуманитарной традиции характерно выделение всей практики «созерцания искусства» в безусловно донаучную зону «художественной педагогики». Это своего рода пропедевтика, рассчитанная и нацеленная на детей и любителей. Напомним, что для немецкой науки процесс рассматривания произведения – это особый предмет научных усилий и главнейший источник и стимул методологической рефлексии, направленной, помимо прочего, на выявление общего основания художественного восприятия – как для подготовленного («искушенного»), так и для неподготовленного («невинного») глаза. Художественная критика, понятая по-английски, – это всегда оценка, которую производит критик, способный и желающий «свои впечатления и реакции облечь в словесные одежды»[170]. При этом Гомбрих замечает, что нет такого историка искусства, которому бы не приходила в голову мысль о ранге произведения, при том что сам он себя «никогда не чувствовал критиком и никогда в такой роли не выступал»[171]. Хотя и компенсировал, быть может, критику искусства критикой историков искусства в своих многочисленных рецензиях, хотя, как известно, будущая книга «Искусство и иллюзия» именовалась первоначально «Реальность и ранг художественного творения».
Напомним, что вся, казалось бы, сугубо немецкая психологическая проблематика XIX в. коренится в переосмыслении наследия английского эмпиризма XVIII в., чего не скрывает и сам Гомбрих. При этом он не замечает чего-то еще более существенного – опыта критики психологизма – со стороны все той же немецкой феноменологии, в своей ранней фазе оказавшейся источником формального метода (теория и практика «вчувствования»), а в более зрелой – структурного анализа и, конечно же, иконологической герменевтики[172].
После войны: наука об искусстве – программа и критика
Именно в военные годы Гомбрих работал над книгой, сделавшей его имя в буквальном смысле символом всемирного успеха классического искусствознания. Это «История искусства» (1950), написание которой, вернее сказать, составление ее английского варианта было обусловлено не только военными неблагоприятными обстоятельствами, но и деятельным и благожелательным участием основательницы «ФайдонПресс» Беллы Горовиц. Позже Гомбрих посвятил ей свой крайне принципиальный сборник «Размышления верхом на деревянном коне» (1963).
Война, по наблюдению самого Гомбриха, положила начало его в известной степени «двойной жизни». С одной стороны, героическая борьба за существование (вначале только за материальное, но в дальнейшем, позволим себе заметить, и за идеальное), а с другой – настойчивые усилия по укреплению своего места в науке. Когда эти две интенции-тенденции в жизни ученого пересекались, случались прорывы и к новому знанию, и к очередному признанию…
Собственно же история создания «Истории искусства» полна классических и практически мифологических примет всякого удачного писательского проекта. Был там и добрый, внимательный и благородный в своей терпеливости издатель, проявляющий одновременно мудрость и осмотрительность (Горовиц дала, конечно же, читать рукопись своей шестилетней дочери, немедленно одобрившей текст); был и нуждающийся, скромный и послушный писатель (Горовиц дала Гомбриху аванс в 50 фунтов, и тут он понял, что у него «мало времени, но много забот». Тогда он пробовал скрываться, затем попытался деньги вернуть, но издатель сказала, что ей не нужны деньги, а нужна книга); был и колоссальный и, конечно же, абсолютно неожиданный успех, сопровождавшийся многомиллионными тиражами, переводами на десятки языков и всяческими анекдотами, курьезами, воспоминаниями и не ослабевающим по сию пору потоком критики.
Характерный пример: для готовившегося издания художник-оформитель настойчиво попросил Гомбриха – из-за своих сугубо полиграфически-макетных соображений – дописать что-нибудь, чтобы иллюстрация поместилась ровно на том месте, где было ему удобно, тем более что он выбрал и соответствующий сюжет – фото знаменитого «Глочестерского подсвечника» XII в. Гомбрих послушно написал несколько слов, особо не задумываясь, и каково было его потрясение, когда он увидел рецензию на вышедшую книжку одного виднейшего медиевиста, специально упомянувшего именно характеристику данного памятника, многое ему заново открывшего в его понимании… И ведь этот ученый – удивительное совпадение! – был, помимо прочего, выборщиком в Оксфорде, что обеспечило Гомбриху там профессорство (речь идет о Томасе Боасе)[173]. Кстати, в Оксфорде жила Горовиц, и Гомбрих, когда думал отказаться от книги, старался там не появляться…
Примечательно, что в то же самое время в том же самом месте еще один оксфордский профессор дописывал свою не менее популярную книгу, также происходившую из одной предвоенной публикации, также детскую и также прошедшую детско-издательскую апробацию (но не у дочки, а у сына – книга была больше для мальчиков, хотя получила признание и у взрослых)[174]. Примечательно, что источник этих сведений – принципиально иного, синхронистического, рода (это эпистолярный жанр), что направляет верификацию в другое русло, хотя некоторые тематические пересечения не могут не поражать:
Боюсь, воздушные силы в основе своей абсурдны per se. Как бы мне хотелось, чтобы ты не имел ничего общего с этим кошмаром. По правде говоря, для меня это – тяжкое потрясение, что мой родной сын служит этому современному Молоху[175].
И именно в те самые военные годы (1944) пишется знаменитое, программное, многозначное и неоднозначное (как раз в своей программности) исследование «Мифологий Боттичелли…», чему далее посвящена целая глава[176].
Начало 50-х годов – время появления и других принципиальных и не менее программных текстов, охватывающих две темы: психология и иконология, теория восприятия и практика символизма. Хотя, вернее сказать, это единая теория визуального и вербального способов репрезентации, помещенных внутрь двух контекстов функционирования этой репрезентации, то есть в контекст практик – искусства и науки, – с учетом той уже единой картины, что возникает при пересечении того и другого (своего рода морально обоснованная идеология социально обусловленного знания).
Назвать следует, по крайней мере, два текста: это фундаментальные в своей изящной лаконичности «Размышления верхом на деревянном коне» (1951) и универсальные в своей ученой, почти схоластической демонстративности «Icones symbolicae…» (1948).






