Гомбрих, или Наука и иллюзия. Очерки текстуальной прагматики Ванеян Степан
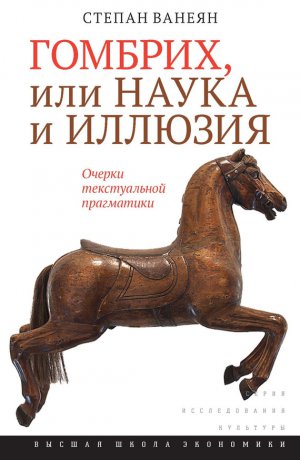
Надо сказать, что с ними связаны и два немецких историографических текста, которые сами, будучи известным резюме концептуального развития Гомбриха в начале его научного – еще венского – пути, оказываются методологическим основанием всех последующих мыслительных построений ученого, определяющего в них и саму науку об искусстве (а главное – ее границы), и свое в ней (и вне ее) место.
Отметим, что и сам сборник, в котором были помещены тексты Гомбриха, – «Atlantisbuch fr Kunst» (1952) – представлял собой программное в послевоенной ситуации начинание: собрать воедино все самое свежее и, самое главное, свободное от навязанной идеологии знание об искусстве, способное теперь вновь иметь свободное хождение наряду с иными культурными ценностями по всей освобожденной Европе, в которой еще остались его носители. (Из выдающихся ныне классиков науки в сборнике присутствуют Ренэ Юиг, Мартин Вакернагель и Хельмут Кун[177].)
Наука – пространство публичного знания и признания
Итак, решающее обстоятельство, позволим себе повториться, повлиявшее на всю ученую карьеру Гомбриха, заключалось в том, что сразу после войны он издает еще довоенное начинание – историю искусства для детей. Впрочем, она превратилась в самую известную и популярную историю искусства – буквально всеобщую (для всех общую и подходящую для самых взрослых читателей) «Историю искусства» (1950), написанную именно в форме рассказов (Story) по истории (History) искусства – живым, остроумным и просто умным языком больше о проблемах творчества, чем о фактах, именах или датах. Получается история искусства именно как творческой практики, а не абстрактного понятия, призванная объединить довольно разнородные явления – и художественные вещи, и художественных личностей, и художественную жизнь, и все остальное, что, конечно же, Гомбрих имел в виду, но что имел смелость не обсуждать в книге, чтобы не перегружать ни ту же книгу, ни ее читателя… Так что, если говорить без обиняков, книга не должна была производить впечатление чего-то простого и тем более популярного, да она и не была задумана как простая и популярная.
В дальнейшем феноменальный успех книги определил и востребованность Гомбриха как лектора. Послевоенная преподавательская деятельность Гомбриха поражает разнообразием и размахом: он и Слэйдпрофессор в Оксфорде (1950–1953), и Дорнинг-Лоурэнс-профессор в Лондоне (1956–1969), между прочим, после Рудольфа Виттковера. Он продолжает читать лекции в Институте Варбурга и Курто (1954–1959), в 1959 г. он – приглашенный профессор в Гарварде, тогда же и вплоть до 1976 г. – «профессор классической традиции» в Лондонском университете, в 1961–1963 гг. – Слэйд-профессор уже в Кембридже, после чего там же (в Королевском колледже) – Летаби-профессор (1967–1969). В 1970–1979 гг. он занимает должность профессора в университете Корнелл.
Достойная для обсуждения тема и проблема: жанр публичной лекции как основание не только будущей книги, но и актуальной методологии, предполагающей не просто доступность идеи или концепции, но именно ее приемлемость и привлекательность: ни аудиторная публика, ни научное сообщество не должны быть отягощены чем-то крайним, радикальным и однозначно-навязчивым. Публичность как признак искренности намерений и условие признания, нельзя забывать о риторическом статусе такого рода речей и писаний.
В 1959 г. Гомбрих становится директором Института Варбурга и Курто (до 1976 г.), став преемником своей давней благодетельницы – сменившей в свою очередь Франкфорта – Гертруды Бинг. Испытав в прежние годы всю односторонность преподавания в этом учебном заведении, он в первую очередь обновляет именно процесс обучения: приглашает с публичными лекциями видных ученых (среди которых Виттковер и Курц), в том числе немало зарубежных. При этом сам он свое директорство сравнивал с активностью брокера, правда, в научно-академической сфере. Ведь это своего рода биржа, но только с другим наполнением (а вот смысл – примерно тот же: коммуникация и достижение поставленной цели, которая заключается в обмене ценностями, если не финансовыми, то хотя бы концептуальными)[178]. В другом месте Гомбрих выражается еще более изящно:
…и хотя меня никогда не вдохновляла управленческая деятельность, я не мог себе позволить, чтобы она вызывала у меня беспокойство[179].
Выход на пенсию в возрасте 67 лет означал как долгожданное избавление от административной и педагогической повинности, так и свободу писательских усилий[180]. Хотя, если говорить точно, перелом в житейской судьбе произошел как раз с началом директорства в Институте Варбурга и Курто: благополучное материальное существование, устойчивая педагогическая активность, многочисленные лекции по всему миру (с особой востребованностью в Соединенных Штатах Америки) и столь же многочисленные сборники, публикуемые по итогам лекционных турне и курсов. И как результат – награды, титулы и звания.
Поэтому можно сказать, что если до этого момента жизнь Гомбриха представляла собой жизненные события, наполняемые идеями, то теперь идеи, наполняющие публикации, – это и есть порядок жизненных событий. И история пребывания Гомбриха в этом мире может теперь (после изложения общественновнешней ее составляющей) излагаться по порядку тех же публикаций, хотя справедливости ради надо сказать, что, приглашенный в 1936 г. в библиотеку ради подготовки собрания сочинений Варбурга, Гомбрих так и не исполнил эту задачу за 40 лет…
Впрочем, сначала – еще немного о званиях. В 1972 г. он возводится в рыцарское достоинство, в 1975 г. выступает с лекцией Роменса в Оксфорде («История искусства и социальные науки»[181]), а в 1988 г. становится членом Order of Merit[182]. Это очень серьезно и доступно мало кому из историков искусства[183].
Но еще в 1956 г. он читает Меллоновские лекции в Колумбийском университете (его рекомендовал Кеннет Кларк), в результате чего возникает и в 1960 г. публикуется вторая по популярности и, наверное, первая по влиятельности книга, относящаяся к психологии искусства (и не только психологии, и не только искусства), – «Искусство и иллюзия», переведенная на два десятка языков (и даже на русский!) и имеющая около двух десятков переизданий (при этом русского издания пока еще нет ни одного).
Райтмановские лекции 1979 г. стали основой другой книги на ту же психологическую тему – «Чувство порядка» (совместно с Р. Грегори). Помимо этого, в последующие годы появляется, по выражению ее автора, «родная сестра» книги про искусство и иллюзию – «Образ и глаз. Новые опыты психологии визуальной репрезентации (1982).
При всей малочисленности прямых учеников Гомбриха[184] (это следствие избранной формы преподавания – публичных лекций) с ним, несомненно, связаны такие фигуры, как Майкл Подро и Майкл Бэксанделл, а среди его оппонентов – в том числе и Томас Митчелл, хотя нельзя забывать и о таких величинах, как Нельсон Гудманн, Джеймс Гибсон, Карло Гинзбург, Норман Брайсон и Джеймс Элкинс.
Представим себе перекресток (или, лучше сказать, многоуровневую развязку), на котором сходятся, переплетаются и расходятся такие оживленные магистрали, как «Философия», «Психология», «Семиотика», «История», «Социология». И все это в населенном пункте, название которого читается (при въезде в городок) как «Изобразительное искусство». Так можно описать место и значение Гомбриха в искусствознании – вплоть до сего дня (не стоит уточнять, что на выезде из этого городка его название, как полагается, будет перечеркнуто).
Наши ассоциации с въездом и выездом вдвойне не случайны: один поздний немецкоязычный сборник Гомбриха назван «Гастроли»[185], так как в нем собраны тексты историка искусства на тему немецкой словесности. Это на самом деле игра, причем на чужом поле, или игра в гостях. И это на самом деле – весь Гомбрих, но это и весь тот род деятельности, который именуют историей искусства – своеобразная местность, по которой можно гастролировать довольно свободно, если свободно владеешь и ролями, и языками.
Ушел из этого мира Эрнст Гомбрих совсем недавно, 3 ноября 2001 г., оставив нам не просто внушительный список первоклассных текстов, но и впечатляющий опыт обращения с не менее эффектным списком идей и методов. Они были для него, как кажется, набором подручного материала, из которого можно было складывать самые разнообразные конструкции, именуемые суждениями и мнениями, позициями и принципами, теориями и подходами, неподражаемыми лекциями и тематическими сборниками статей.
При этом следует сказать, что сам образ науки как номенклатуры идей или даже Энциклопедии, в крайнем случае, Словаря – вещь достаточно спорная. Опыт Гомбриха – не только в составлении этих списков, но и в активном пользовании подобного рода Лексиконом, который, кстати, может быть и многоязычным. Собственно говоря, весь ХХ век – это опыт нескончаемого перелистывания, перечитывания и переписывания словарей прошлого, которое само – один-единый и нескончаемый вокабулярий, то обращающийся в архив, то запечатываемый, то вновь открываемый – при том что его фонды вовсе не общедоступны…
Так и хочется сказать: не породив ничего по-настоящему нового концептуально, Гомбрих создал нечто воистину большее экзистенциально-эпистемологично. Он реализовал почти безостановочную практику обновления научного и не только научного знания об искусстве постоянным обращением к внешнему опыту иных наук и иных типов знания, других, но дружественных, ибо полезных и приемлемых с любезностью, благодарностью, но не без иронии и не без готовности нечто пересмотреть, в чем-то усомниться и найти место новому и опять-таки иному – совсем в духе главнейшего друга Гомбриха Карла Поппера[186].
Без «Открытого общества и его врагов» Гомбрих не был бы тем, кем он был и есть (хотя книга Поппера появилась не без помощи Гомбриха, участвовавшего еще в 1945 г. в подготовке ее издания)[187]. Фактически, если бы не Гомбрих, познакомивший с рукописью фон Хайека, который заинтересовал ею в свою очередь Герберта Рида, рекомендовавшего книгу в издательство Routledge, Поппер мог бы так и не увидеть своего труда напечатанным (достаточно сказать, что Гомбрих по ходу редактуры книги за неполные 6 месяцев получил от Поппера 95 писем). А однажды его даже вызывали в полицию, так как военному цензору показалось подозрительным одно слово: он заподозрил, что разделение (division) главы на две части подразумевает некое военное подразделение – исторический контекст однозначно определял интерпретацию![188]
Момент дружеского расположения, близости, примыкающей скорее к доверительности, чем к фамильярности, – вот та модель «интертекстуальности», которую мог себе позволить Гомбрих. Как кажется, он исходил из постулата и императива коммуникации как общения, общительности и общности на основе взаимности и, можно сказать, любезности. Хотя и не без порядочности и корректности, что обеспечивало дистанцию взаиморасположения и уважительной сдержанности – без навязывания мнения и без назойливого притязания на истинность. Правда, это вело к своеобразному коммуникативному этикету номиналистической и подчеркнуто публичной конвенциональности: если уж договорились о правилах и условились о ролях, то будьте любезны соблюдать нормы взаимоприемлемого языка, минимально обремененного терминологией и максимально приближенного к повседневной языковой практике… Отсюда, как мы увидим ниже, и неприятие иконологии в ее последних и, значит, окончательных притязаниях и «эксцессах»[189]: в ее сугубо герменевтических посягательствах на всего человека, а не только на его способность накапливать знание и возрастать в научной обиходности и познавательной благопристойности.
Обратим внимание, что великий продолжатель дела Варбурга Эрвин Панофский был более последователен в своих по отношению именно к схоластике принципах познания, конгениальных и «конвиниентных» (термин, напомним, Ансельма Кентерберийского). (Для него это опыт и гештальт-эпистемологии, ориентированной на аналогичность, эквивалентность имманентного и трансцендентного в рамках тех или иных «символических форм».) Не объясняется ли подобная сугубо эпистемологическая изоморфность идей Панофского проблемам символизма как такового тем обстоятельством, что он все же был в большей степени медиевистом, чем убоявшийся в свое время этой нелегкой участи Гомбрих?..
Но не был бы Гомбрих тем, кем он есть, также и без Шлоссера, уже в диссертации о Джулио Романо научившего своего ученика просто и умно переводить разговор с общего на частное, за которым, однако, стоит главное – индивидуальное и личное. Ведь на самом деле маньеризм не плох и не хорош, это и не деградация ренессансного стиля, и не его обличение, это просто умение приспособиться к требованиям и притязаниям заказчика – к его потребности во все той же эффектной и остроумной новизне в соединении с виртуозностью и изяществом (свойства стиля мысли и письма самого Гомбриха).
Не состоялся бы Гомбрих также и без Варбурга, с которым он был знаком лишь заочно и виртуально, но от которого перенял самое главное – настойчивый дух смысловой (если не жизненной) пограничности. Отсюда его способность всегда оставаться на грани методов, на пороге новой теории, на переднем рубеже выбранной научной дисциплины и на страже того края, где наука незаметно обращается в само существование, избегая тем самым крайностей и сумасбродства всякого позитивизма, например марксистского, сознательным и неумолимым врагом которого Гомбрих оставался всю свою жизнь, что нельзя не вменить ему в величайшую заслугу.
Сохранились воспоминания достаточно раннего детства Гомбриха, попавшего вместе с матерью и младшей сестрой в уличные беспорядки 11 ноября 1918 г., когда народные торжества по поводу приведения к присяге нового – республиканского – правительства превратились в массовую панику, спровоцированную группкой коммунистов, взявшейся стрелять по зданию парламента. Мать рано почувствовала своим обостренным слухом музыканта, что начинается что-то неладное, и с трудом увела детей из толпы[190].
Но смог ли бы Гомбрих уладить не только личную жизнь, но и отношения с наукой без ближайшего друга – Эрнста Криса? Именно он обнаружил – вопреки постулатам самого Фрейда – в остроумии не только уловку бессознательного, но и ловкость, вернее сказать, искусность, артистизм и свободу сознания, способного шутить, творить и радоваться, даже ввиду угроз самого Оно: коллективного, неразумного и, соответственно, не творческого – бесплодного и унылого в своей полной нехудожественности, хотя и исполненного символизма. Поэтому методы и задачи психоанализа и истории искусства могут совпадать в критических оценках как порождений разума, так и плодов воображения – как в психологии, так и в искусствознании, хотя, вероятно, пафос разоблачающей разум подозрительности в корне был неприемлем для Гомбриха.
Есть вполне нейтральные наблюдения Гомбриха касательно сходства между тенденциями гуманитарной (в том числе искусствоведческой) мысли и направлениями современного ей искусства, в частности относительно все той же иконологии и сюрреализма:
…я верю, что существуют параллели между иконологией и сюрреализмом, когда постоянно заняты поисками новых толкований и символики, – та многослойность, что ссылается на Фрейда, правда, отвергавшего сюрреализм[191].
Так и хочется заметить, что многослойны сами рассуждения Гомбриха, составляющие определенную прослойку внутри его не только гуманитарной, но и когнитивнооценочной деятельности. Многослойно и многозначно, а значит, и «полифокально» выглядит сама деятельность ученого-историка, который не может не переносить на произведение-памятник многоуровневую структуру своей активности, объединенной в единое целое не столько единством личности (это никто не отрицает), сколько конкретной и ситуационной мотивацией-намерением (не будем говорить – интенцией).
Список друзей, вложившихся в эту поистине бездонную копилку «сверхнормального знания»[192], можно и нужно продолжить. Например, совершенно отдельная тема – это, несомненно, лингвистика Карла Бюлера с ее специфической и не совсем общепринятой теорией символизма (язык в триаде функций воздействия, выражения, воспроизведения). Она, тем не менее, была усвоена Гомбрихом еще в период работы над докторской диссертацией, и он активно применял ее впоследствии – зачастую вопреки более ходовым и востребованным семиотическим концепциям[193].
А ведь можно взглянуть как бы сквозь фигуру Гомбриха не только на постфрейдовский психоанализ с его эго-ориентированной теорией, но и на альтернативный (отчасти) вариант классической Оно-теории, исполненной в лице, например, «отца психосоматики» Георга Гроддека. Он говорил об Ид как о жизненно активной, творческой силе, в том числе ведущей борьбу со всеми уловками и страхами Эго (которое для него – своего рода коллективное и отчасти сознательное искажение бессознательных и потому безусловных и достоверных импульсов Оно, в своей природности более прирожденного и родственного всем уже сверхприродным инстанциям)[194].
Так что попробуем не то чтобы разобраться, а хотя бы разговориться на тему Гомбриха, сделав это по порядку, начав именно с главного – с искусства и с иллюзии, чтобы исключительно в заключение помянуть некоторые максимально фундаментальные проблемы – не столько решаемые текстами Гомбриха, этого «теоретика иллюзии»[195], сколько ими же и порождаемые. В лучших традициях фальсификации науки, подпавшей под власть Гегеля и поклонившейся «идеалам и идолам» историзма![196]
Отметим сразу один важный и довольно удобный алгоритм гомбриховских публикаций: это и отдельные книги (ровно 8), и отдельные эссе, собираемые время от времени в сборники, которых у нашего автора ровно 13 (не считая переводных) и которые содержат примерно 180 статей, ключевых в его творчестве и в науке об искусстве. К ним примыкают, их окружают почти непреодолимой защитной стеной отзывы, рецензии, предисловия, интервью и воспоминания (всего вместе со всеми переводами выходит чуть более 460).
Получается нечто вроде модели науки в духе И. Лакатоса, сохраняющей свое фундаментальное аксиоматическое ядро в окружении идеологически-социальных оборонных рубежей, хотя эта защита слишком напоминает нападение – с явным пересечением рубежей собственноручно избранной научной сферы.
Можно ли отнести к истории искусства и то, чем занимается Гомбрих, и то, что он в результате создает?[197] Ведь из его отзывов на конкретные публикации можно составить своего рода родную, но критическую сестру «Истории искусства», в своем немецком варианте выступающей под названием «Искусство и критика», где именно критика свободна от всяких иллюзий[198]. Тогда как английский вариант того же сборника дает нам понять, что как на искусство посмотришь взором (view), так оно и отзовется текстом (review): дав посмотреть на себя, оно позволяет пересмотреть и науку о себе…[199]
Парадокс Гомбриха заключается в том, что, хотя предметные границы науки проницаемы, их пересечение требует разрешения, которое, конечно же, тут же будет получено, но все-таки его следует попросить (даже не для порядка, а чтобы продемонстрировать благожелательность и любезность, воспитанность и миролюбие).
Так что представим себе всю эту массу имен, лиц и фигур, уже упомянутых по ходу изложения жизненных составляющих нашей главной фигуры: это все те, кто готов был воспользоваться приглашением Гомбриха (выраженным в той или иной форме) совершить с ним совместное движение и общее пересечение единых границ и рубежей. Воспользуемся теми или иными проблемами и темами, чтобы посмотреть, как же все-таки они взаимодействуют с ним, в какие коммуникативные связи и с каким смысловым наполнением вступает с ними Гомбрих.
Заметим сразу, что у нас выстраивается довольно своеобразная сценическая, сценографическая и, главное, сценарная конфигурация. Хотя порой кажется, что рубежи науки, ее стены и врата, возводимые и обороняемые под руководством Гомбриха, осаждаются и даже прорываются, тем не менее все это, безусловно, иллюзия, инсценировка и постановка, это спектакль и разыгрываемое представление. В этой пьесе, именуемой наукой, не только появляются новые декорации, сюжетные ходы, персонажи, правила игры. В ней, как это ни покажется странным, не отменяются и прежние постановки. Это как раз и не иллюзия, не обман зрения и не ошибка чтения: на одной сцене одновременно разыгрываются разные представления.
Вообразим и себя среди их активных (интерактивных!) участников: актеров-зрителей в иероглифически-буквальном – визуальном и текстуальном – смысле слова!
Гомбрих и Поппер: иллюзии истории и историзма искусства
…Кажется решающим следующее основание, на которое историк должен обратить внимание: все организмы до некоторой степени, а человеческие существа до удивительной степени, экипированы для исследования и учения путем проб и ошибок, путем переключения с одной гипотезы на другую, пока не найдется одна, которая обеспечит наше выживание.
Эрнст Гомбрих
Я не первый и, вероятно, не последний историк искусства, собирающий свое снаряжение на прилегающей области психологии, но видеть панацею в этом я вовсе не собираюсь.
Эрнст Гомбрих
Психология иллюзорного – язык взаимности
Книга «Искусство и иллюзия»[200] – плод, как мы могли убедиться, немалых мыслительных и текстуальных усилий человека, который был весьма оснащен – концептуально и экзистенциально – не просто для выживания, а для оживления – вот только чего и кого…
Уже во Введении изложена вся программа этой книги и, что самое главное, всего творчества Гомбриха, который, напомним, лишь в ней развернулся в полную меру. На момент появления его полноценной ученой книги ему было около 50 лет[201].
Начнем с самого, пожалуй, существенного положения: история искусства ограничена не только в своих возможностях, но и просто в желаниях. Не в ее власти и не в ее правилах и обычаях объяснять историю, она только описывает стилистические перемены и занимается классификацией на основе представлений о так называемых исторических стилях. Откуда же они берутся, а также откуда берется сама способность и тем более потребность в имитации окружающего мира, как возникает и как поддерживается иллюзия сходства – все это вне ее компетенции по определению. Ведь то место, где рождается иллюзия, – это сознание человека, который сам же и наблюдает за своими иллюзиями, точнее – за тем фактом, что невозможно уловить посредством наблюдения и даже самого серьезного внимания, как эта иллюзия действует. Ведь на то она и иллюзия…
Поэтому, быть может, следует заняться изучением методов создания этой иллюзии, то есть самого изображения? И оно не обязательно должно быть искусством, чтобы представлять собой иллюзионистический да и просто схожий с внешней реальностью образ, что видно уже из опыта наших дней, когда столько существует изображений, вовсе не претендующих на звание искусства. Это как проза и поэзия: изучение языка, то есть лингвистика, предшествует всякой поэтике – мысль, которой Гомбрих обязан своему венскому наставнику Юлиусу фон Шлоссеру.
Художники пользуются этим языком образов, часто не задумываясь об этом, будучи озабочены скорее проблемами исполнительскими, то есть техническими (особенно это касается старых мастеров), но это не значит, что проблемы не существует, просто ее решает психология, а не история искусства. И именно язык психологии – тот самый язык, на котором могут говорить и понимать друг друга и историк искусства, и его (искусства, не историка!) творец (то есть не Творец!). Тому и другому стоит еще раз, по словам Гомбриха, встретиться и обсудить на общем языке эти самые проблемы. (Идея так называемой интердисциплинарности, вернее, интертекстуальности не просто как места встречи, а как коммуникативного и конструктивного топоса – крайне характерна.)
Главное, что следует за такими программными заявлениями, – это краткая история понятия стиля, которая для Гомбриха, что совершенно справедливо и одновременно показательно, связана с традицией риторики, с ораторским искусством: стиль – это красноречие, то есть то самое, что производит впечатление.
Существенно в риторическом происхождении «стиля» то, что это понятие можно было использовать и метафорически и, значит, допустимо было переносить его и в область изобразительного искусства, сохраняя саму суть стиля – его выразительную природу, что, однако, не снимало и не объясняло изобразительную сторону дела.
Объяснение изобразительности не могло быть успешным в рамках одной схемы, связанной с представлением о техническом прогрессе (художник учится видеть, и его искусство развивается). Нужно было объяснять, что такое зрение и почему его одного недостаточно, связано ли оно с мышлением или с обучением, что делать с врожденными идеями и возможен ли «невинный» глаз, который видит так, как есть на самом деле. Да и чье это дело – объяснять?
Предпринимая попытку дать краткий обзор истории эмпиризма и формальной эстетики (упоминаются практически все, кто того заслужил, – от Плиния, Птолемея, аль Хазена и до Локка, Беркли и Гельмгольца вкупе с фон Гильдебрандом, Вельфлином и Риглем), Гомбрих допускает почти непростительные неточности и несправедливости (например, толкование зедльмайровского толкования Ригля, который и сам, мягко говоря, не совсем точно воспринимается как враг ценностных измерений знания), но делает это, однако, ради одного принципиального тактического замысла.
Смысл этого замысла заключается в следующем: мы не имеем права опираться в своем объяснении несомненного факта стилистических изменений в истории искусства на изменения человеческих способностей, в том числе восприятия или даже мышления. Ибо тем самым мы вводим идею эволюции в самом человеке, чего делать нельзя, так как в противном случае мы допускаем фактически тоталитаризм, пусть и гегелевского толка – человек не может быть зависим от сверхиндивидуальных сил и инстанций. Этому учит нас Поппер, указывая именно на «нищету историзма» и на «врагов открытого общества». Ссылки ни на «художественную волю», ни на историю духа тут не помогают, так как, по мнению Гомбриха, все это гипостизация общих понятий, придумывание объединяющих терминов, мифология вместо науки.
Поэтому, уверен Гомбрих, мы должны сделать ответственными за этот очевидный прогресс именно технические навыки. Мы увидим ниже, что именно такой ход мысли Гомбриха заставил иных его читателейкритиков подозревать мифологию в нем самом. А ведь где миф – там все та же тотальность (в том числе претензия на исчерпывающее объяснение).
И действительно: миф (термин сам по себе вполне нейтральный, однако у Гомбриха он приобретает негативный характер) состоит именно в самой идее истории, развития, эволюции чего-либо, а не в том, что все эти качества мы приписываем человеку. И достоинство человека ничуть не умаляется, если мы рассматриваем его внутри истории духа и в связи с Откровением Духа. (Трансцендентное, быть может, и враг научного знания, но вовсе – не человеческого существования.) Более того, гегелевская философия истории вполне способна быть именно альтернативой биологизму и органической теории с их «мнимыми законами эволюции человечества».
Тем не менее есть законные основания вслед за Гомбрихом (и многими иными – тем же Зедльмайром) видеть известный соблазн в отождествлении, например, изобразительной активности детей и примитивов, будто бы находящихся в равных обстоятельствах – в начале, у истоков истории и, следовательно, развития.
Хотя и здесь Гомбрих буквально примитивизирует ситуацию, выражаясь, например, так относительно априорного схематизма:
…мне кажется крайне маловероятным, чтобы кто-нибудь всегда носил в своей голове подобные схематические картинки человеческих тел, лошадок или ящериц[202].
Это, сказали бы мы, слишком механистичный способ изложения проблемы, равно как и представление, что в наших головах царит «сумбур чувственных данных», а известную константность изобразительной типологии можно объяснить исключительно желанием закрепить и защитить технические достижения с помощью традиции.
Именно понимание стиля и вообще изобразительной практики изнутри риторики и лингвистики заставляет Гомбриха истолковывать подобную типологию как аналогии языковой парадигматики, где, несомненно, присутствуют устойчивые языковые формы и целые формулировки, где необыкновенно влиятельны общие места-топосы, потребность в цитатах, ссылках и заимствованиях.
Метафора речевых актов переносится и на изобразительное искусство: художники последующих поколений просто по-новому или просто иначе «склоняют» старые грамматические или синтаксические формы и правила. Гомбрих ссылается на всех своих учителей, добавляя к их списку и Варбурга, понимая его иконологию как историю образов, прежде всего античных, чья миграция из эпохи в эпоху – для Гомбриха, но не для Варбурга – на совести художников, озабоченных больше зримыми вещами, чем «невидимым миром идей» (его они оставляют его иконологам).
И точно так же он сам пользуется формулами психологии, или склоняя, или спрягая их на свой лад – будь то Гибсон, Арнхейм, Эренцвейг или кто-то еще. В любом случае, отдавая должное интеллектуальной смелости названных и многих других авторов, Гомбрих видит и ограниченность тех направлений, что они представляют, и их зависимость от так называемой «ведерной теории души». Это выражение Поппера, противопоставившего такой модели психологии свою модель, названную им проекторной теорией, имея в виду активную роль психики в выстраивании структур не просто внешнего мира, но и самих актов восприятия, да и всего поведения (здесь имеются ссылки уже на Пиаже и фон Хайека). Человек ведет себя так, что скорее не столько реагирует на внешние стимулы (камень, естественно, в огород бихевиоризма), сколько выстраивает структуры, функционирующие как ответы на его собственные гипотезы, то есть, с одной стороны, на ожидания-предвосхищения, а с другой – на его воспоминания-узнавания. Поэтому трудно в такой ситуации говорить о некой независимой от человека истине, обусловленной столь же независимым внешним миром. Иллюзии можно не замечать, с ними можно смириться, но зачастую они принимаются как неизбежный компромисс или даже условие удовлетворительного существования (случай как раз с искусством). При том что всякое предположение – всегда временно, тогда как отрицание чего-либо – всегда окончательно. Такова схема прогресса знания, которую Гомбрих – весьма изобретательно и убедительно – переносит на историю искусства в ее стилистическом аспекте.
Тут рождается важнейшая идея Гомбриха: если мы не можем, не хотим или не считаем нужным выбирать между одной или другой иллюзией (напомним, что ничего иного мы сами себе предложить не в состоянии), то следует просто принять правила этой игры. Ее можно назвать «деланием/подделыванием», то есть последовательным перебором проб («делание» чего-либо) и ошибок (признание этого неподлинным и отказ – или признание этого полезным или так и иначе приемлемым и принятие как иллюзии, почти как самовнушения). Такой порядок рассуждений и приводит Гомбриха к аналогии процесса восприятия (пробы/ошибки) и процесса изготовления и опять-таки восприятия изображения (холст/натура). Произведение искусства – это «поделка», а производимый им эффект – «подделка».
Это именно игра, в которую, если мы дети, следует играть самозабвенно и неосознанно, а если взрослые – сознательно и ответственно. Но во всех случаях – искренне и с удовольствием. Принципиальным, основополагающим и крайне кардинальным для этой концепции является именно проблема истории, времени: порядок, череда проб и ошибок обязательно предполагает временное протяжение, и потому историю искусства тоже можно рассматривать как растянутый во времени эксперимент, если само искусство складывается путем этих поисков.
Это, несомненно, самое важное и самое опасное в теории Гомбриха: время для него уподоблено высказыванию, где один элемент последовательно и неуклонно сменяет другой. Ни о какой ретенции, протенции и тем более «первичной импрессии» речи не идет, и слова вроде «интенциональность» не употребляются, равно как и более близкие понятия вроде синтагмы и парадигмы.
Собственно, вся программа книги – и, скажем прямо, «квинтэссенция учения Гомбриха» – определена следующей формулой:
…исследование пределов, положенных сходству, с одной стороны, техническими средствами, а с другой – схемой; изучение связи формы и функции в процессе создания образов и, в особенности, анализ роли зрителя в прояснении смысловой неопределенности – только это может сделать правдоподобным голое утверждение, что искусство имеет историю потому, что иллюзии искусства представляют собой не только результат, но и обязательное орудие, необходимое художнику при анализе мира явлений (курсив автора)[203].
Другими словами, (1) сходство определяется средствами и схемой, (2) активность зрителя в направлении смысловой определенности (опять же – пределы!), (3) иллюзия – не только и не столько цель, сколько средство, причем в деле анализа явлений. В любом случае иллюзия – понятие не просто приемлемое, а позитивно обязательное как обозначение главнейшей реальности, с которой имеет – так или иначе – дело творческий субъект, то есть человек как таковой.
Именно последний момент – проблема аналитики феноменального мира – может и должен вызывать вопросы, главный из которых – верно ли отождествление деятельности художника с деятельностью ученого? Если это эквивалентные виды исследования, уместны ли здесь эпистемологические метафоры (опыт, эксперимент, гипотезы, открытия, опровержения), адресованные творчеству, да и любой другой изобразительной активности человека? Гомбрих, несомненно, к этому склоняется, держа в голове пример Поппера, расширяя его философию науки до философии истории и, соответственно, истории искусства, всегда имея в виду «рост визуального знания», если воспользоваться соответствующей формулировкой. Визуальное – это концептуальное, а концептуальное – когнитивное, последнее же – почти что научное…
Обращение к истокам – отвращение от неподлинного
Но главный вопрос состоит в следующем: не выглядит ли столь интенсивное обращение к той же психологии как некая форма риторики, призванная внушить читателю ту мысль, что сходство структур визуального и научного творчества (то и другое описывается, с точки зрения Гомбриха, в терминах психологии и лингвистики) обеспечивает и достоверность истории искусства? Не есть ли это специфическая форма подражательности, разновидность познавательного мимезиса, иллюзия если не точного, то хотя бы достоверного знания? И если подобная дискурсивность имитационна, то, быть может, она и симуляционна, особенно в свете несомненной повествовательной искусности и мыслительной искушенности в вопросах искусства и искусствознания?
Основная мысль первой части состоит в том, что художники пользуются особым языком – вполне конвенциональным не столько для передачи своих впечатлений от природы, которую они изображают, сколько для создания эффекта, направленного на зрителя, которому они внушают или просто передают те или иные условные правила, ему уже знакомые. Это в первую очередь правила узнавания на картине вещей, а также правила узнавания фактически самих правил: признания факта применения, использования этих правил художником.
За этими конвенциями стоят иные коды – правила, навыки наших реакций на окружающий мир, где мы крайне озабочены поддержанием предметной константности и вообще опознаваемой в своей неизменности картины мира (сам Гомбрих так не выражается). Но откуда сама эта потребность в постоянстве и почему существует эквивалентность между правилами восприятия и правилами узнавания?
Ответ на этот вопрос – уже не в компетенции психологии. Наверное, это просто одни и те же правила или, строго говоря, структуры априорного характера. Они равно присутствуют и в правилах языка, и в правилах поведения, и в социальных институциях, и в культурных обычаях – везде, где возможна ритуализация, то есть повторяющиеся действия, направленные на коммуникацию как с себе подобными существами, так и с не подобными сущностями, где есть всякая человеческая прагматика.
Но главное существо, с которым мы желаем быть в согласии, – это мы сами, наше сознание, или Эго, но равным образом – наше тело.
Во всяком случае, Гомбрих постоянно говорит о потребности и желании самостоятельно реализовать или подтвердить – в нашем восприятии хотя бы – наши же ожидания и привычки. Человек желает гармонии и равновесия, постоянства и повтора. Вопрос состоит в том, как он этого достигает. Символизм, о котором знал уже «великий Гельмгольц» и идее которого его научил, несомненно, Кант через Гербарта, приобретает у Гомбриха специфически семиотический характер: это символизм согласия в акте коммуникации с внешним окружением, вернее сказать, с участниками коммуникации, процесса общения, среди которых существуют и носители иных установок – не похожих на наши.
Власть стиля – сила кодировки
В любом случае от априоризма никуда не деться, и потому следующая глава гомбриховской книги начинается с цитаты из «Критики чистого разума». Сила и власть стиля, то есть правил «общения» с миром (природа и зритель-публика) и с собственным творчеством, заключены именно в сознании, в мышлении, в темпераменте, то есть во внутренних структурах и организации психики.
Власть стиля или кодировки проявляется уже на уровне восприятия мотива самим художником: например, мы уверенно можем сказать, как отличается фотография местности от того, как она предстает в пейзаже. Можно решить, что художник непроизвольно, бессознательно поддается власти правил, а иначе бы он все изображал точно и объективно. Но в том-то и дело, что нет никакой точности при передаче «сенсорных данных» с сетчатки по зрительному нерву в мозг (это одна из психофизиологических фикций, которую вполне допускает Гомбрих), но также нет и самой потребности передавать этот якобы объективный зрительный опыт на полотно. Равным образом во всей этой иллюзии нет и никакого обмана или уловки, ведь чисто логически атрибуты «истины и ложности» применимы лишь к пропозициям, высказываниям, описывающим положение дел и утверждающим наличие или отсутствие той или иной вещи.






