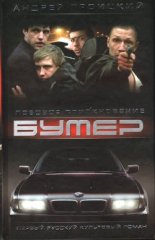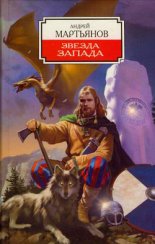Школа Козлов Владимир

I
Алгебра – последний урок. Все ждут звонка, даже математица. А что еще делать? Оценки выставили, учебники сдали. Завтра еще придем, посидим, побазарим, а вечером – в автобус, и на экскурсию в Ленинград.
Я – на последней парте. Передо мной – Коноплева. В том году с ней сидел Йоган – после восьмого ушел в учило на повара. Он постоянно лазил к ней под платье, а она не возбухала, наоборот,– сидела довольная, лыбилась.
– Ладно, ребята, раз у нас сегодня последний урок, – отпущу вас на десять минут раньше, – говорит математица. – Видите, не такая уж Раиса Федотовна плохая, да?
Она лыбится. Мы хватаем сумки – и к дверям, скорей из этой вонючей школы, все здесь задрало.
Выхожу за калитку, достаю пачку «Столичных», закуриваю. До дома – пять минут ходьбы, он через дорогу от школы.
На обед мамаша сварила рисовый суп с костями. Невкусный, но ничего нормального нет. Я голодный, как собака, – в буфет сегодня не ходил, потратил копейки на сигареты.
Включаю телевизор – ничего хорошего: первая программа днем не идет, а по второй какие-то колхозники трындят про свои колхозные дела. Магнитофон тоже не послушаешь: сгорел на той неделе, вонь была на всю квартиру. Правда, и магнитофон такой – старая батькина «Комета». Ей уже столько лет, сколько мне.
Выхожу на балкон, закуриваю, плюю вниз. На качелях катаются малые. Дед Семен со второго подъезда колупается со своим «Запорожцем».
Сегодня вечером иду базарить с Танькой Василенко с восьмого «б». Йоган говорил – она сейчас ни с кем не ходит. Классная баба, хоть и малая еще.
У меня встает – я иду в комнату, сажусь на диван и дрочу. Хорошо, когда родоков нет дома, – не надо прятаться в туалет.
В пять часов выхожу из подъезда, иду на остановку. Пацанов – никого. В чугунной мусорке копается малый со второго класса, ищет бычки.
Сажусь на троллейбус, еду одну остановку до Моторного завода. Василенко живет с родоками в своем доме на Автомобильной улице. Мы раз заходили к ней с пацанами – спросить, пойдет она в школу надискач или нет. Не пошла.
Открываю калитку – собаки у нее нет, я знаю. Кругом все аккуратненько – клумбы, цветочки: видно, мамаша занимается, а может, и она сама.
Звоню в дверь. Открывает Танька, в красном спортивном костюме – такие давали зимой в промтоварном.
– Привет, Танька.
– Привет.
– Как дела?
– Нормально. Сигареты есть?
– Ага.
– Пошли за дом покурим.
Идем за дом, садимся на скамейку. Отсюда видны цеха регенератного и трубы завода Куйбышева. С регенератного воняет жженой резиной.
Я подкуриваю зажигалкой себе и ей.
– Как насчет того, чтоб в кино сходить, погулять?
– Вы ж едете в Ленинград…
– Это всего на два дня.
– У меня времени нет. Знаешь, сколько всего надо учить к экзаменам?
– А потом? Экзамены только до десятого.
– А потом – другие экзамены. Я буду в педучилище поступать.
– Значит, вообще нет времени?
– Вообще.
– Понятно. Ну, ладно, короче, я пошел.
– Пока.
Я поднимаюсь и иду к калитке. Все это гонки, конечно, что времени нет. Ну, не хочет – как хочет.
Иду к Батону. Скорее всего, его дома нет, – говорил, поедет в город. Ничего, подожду.
Во дворе школы пацаны с восьмого класса играют в Футбол. Можно к ним пристроиться, но сегодня лень Лучше подождать Батона – его мамаша сегодня во вторую, хата свободна.
Батон живет с мамашей за продовольственным, в двухэтажном бараке из бревен. У них – комната и кухня, а туалет на улице.
Поднимаюсь на второй, звоню. Никого. Спускаюсь, сажусь на скамейку. Кругом носятся малые, пищат, орут. На веревках сушатся простыни и пододеяльники. Кто-то вывалил на подоконник тюфяк, весь в рыжих пятнах – видно, малой сцытся в постель.
Жалко, что не вышло с Василенкой. Ну и ладно, найду другую бабу.
Минут через двадцать приходят Батон и Крюк с двумя пузырями самогонки – стрясли бабки у малых с Лилейного.
Поднимаемся к Батону, садимся в кухне на табуретки. Батон достает из холодильника банку с желтыми шкварками в белом застывшем жире, ножом выкрвыривает их и бросает на сковороду. Крюк режет хлеб. Мне никакой работы нет, и я смотрю в окно Около магазина два мужика трясут у прохожих копейки, чтобы пойти в пивбар и шахнуть по кружке.
Сало на сковороде начинает шипеть, Батон снимает ее с плиты и ставит на стол. Он берет с подоконника стаканы, разливает, и мы пьем по первой.
– Ну как Василенко? – спрашивает Крюк.
– Никак. Говорит – времени нет, к экзаменам надо готовиться.
– Пиздит она все. Ты ей просто не нравишься. А вообще, на хуй она тебе упала – малая эта? Подкололся бы лучше к Черняковой с десятого. Эта, хоть и отличница, а ебется – не надо баловаться. И со старыми пацанами, и с мужиками из общаги. Йоган говорил – она и ему дала.
– Он тебе много чего скажет. Ты свечку над ними держал? Не держал. Так что…
– Ну, не знаю. А вообще, все бабы – бляди. Они нужны только для того, чтоб их ебать. Правда, Батон?
– Правда. Если б ты, Бурый, на зоне был, то Василенко б не стала ломаться.
– Зона тут ни при чем.
– При чем. Кто с пацанов на зоне был, бабы их уважают.
– Ну а сам ты как – скоро на зону собираешься? – подкалывает его Крюк.
– А зачем мне на зону?
– Как «зачем»? Придешь – бабы сами на тебя будут лезть, никого крутить не надо будет.
Батон делает тупую рожу. Мы с Крюком ржем, потом Крюк говорит:
– Ну, зона не зона, а армия мне уже в том году светит, если не откручусь. Ты, Бурый, с какого года? С семьдесят второго?
– Ага.
– А мы с Йоганом с семьдесят первого. Ему хоть отсрочка будет, пока в хабзе учится, а мне скоро начнут мозги ебать.
– Что ты переживаешь? Сейчас в армию никто не ходит, одни только лохи. Так что не сцы, открутишься.
– Ну, может, и откручусь. Ладно, Батон, наливай, раз такое дело.
Батон разливает, выпиваем.
– Слушайте анекдот, – говорит Крюк. – Пришел Горбачев на Красную площадь, видит – там на часах висит рахит, за стрелки держится. И он, типа, спрашивает: «Что это ты там делаешь?» А рахит ему говорит: «Я машину придумал – как стрелки назад откручу, кого хошь могу помолодить». Горбатый спрашивает: «И меня?» – «Ну, и тебя могу». – «Тогда сделай, чтоб мне было двадцать пять лет». Рахит берет стрелки – и давай крутить назад. Горбатому уже тридцать, потом двадцать, потом он уже вообще малый. Горбатый орет: «Что ты делаешь?!» А рахит говорит: «Щас надо, чтобы твоя матка аборт сделала».
Крюк хохочет больше всех, я улыбаюсь, а Батон смотрит на нас и моргает: до него доходит, как до утки, на седьмые сутки.
Допиваем второй пузырь. Мне вообще хорошо. Жалко только, что самогонки больше нет. Я смотрю на Батона и давлю лыбу, он тоже лыбится.
– Классно бухнули, да? – спрашивает Крюк.
– Ага.
– Пацаны, вы… это… Может, домой пойдете, а? – говорит Батон. – А то мамаша скоро придет, будет пиздеть.
Мы с Крюком выходим. Он идет к себе на Горки, а я – к продовольственному. Домой не спешу – надо протрезветь, а то родоки будут ныть, что пьяный.
Около продовольственного – колонка. Я жму на рычаг, сую башку под кран.
Коля-алкаш смотрит на меня и лахает:
– Что, пацан, протрезветь хочешь? Пустое дело, ни хера ты не протрезвеешь.
Можно дать ему по рылу, чтоб много не брал на себя, но я сегодня добрый, – пусть живет.
На остановке под навесом сидят Куля с Зеней – старые пацаны. Они лахают, что я бухой, машут мне руками. Я машу в ответ.
Подхожу к подъезду. На скамейке у качелей – старухи-сплетницы. Эти сейчас растрындят всему дому, что пацан Буровых шел пьяный. Но мне это – до жопы.
На лестнице – крики: мои родоки ругаются. И хорошо – меньше будет вони на меня. Открываю дверь ключом, захожу.
Батька с мамашей грызутся на кухне.
– Ну сколько можно пить? Ты что, в командировку ездишь только для того, чтобы набраться? – орет мамаша.
– А что? Выпить на обратном пути – святое дело. Домой все-таки едем.
На столе – палка мокрой колбасы в целлофане и пакет шоколадных конфет: «Красная шапочка», «Мишка на севере» и «Грильяж». Батька каждый раз привозит из Минска такие конфеты и колбасу.
– Посмотри на сына. По твоим стопам пошел, – мамаша показывает на меня. Я дебильно улыбаюсь. – А ты не уходи, послушай. Что ты себе думаешь? Последний год в школе остался, потом поступать куда-то надо. А куда ты с такими оценками поступишь? Учился же хорошо до девятого класса, в восьмом все экзамены сдал на пятерки, а в девятом – одни трояки. Ты хоть сам задумываешься когда-нибудь, что дальше, куда идти после школы?
– Никуда.
Батька молча лыбится.
Я захожу в туалет посцать, потом раздеваюсь и ложусь. Мамаша с батькой все еще ругаются. Я вырубаюсь.
***
Классная грозилась не взять меня в Ленинград за поведение, но как пришлось – взяла. Куда она денется?
Автобус нам дал ремзавод – типа, шефы. Батька Коноплевой – водила на этом автобусе, он и добазарился. Еще едет второй водила – пузатый Гриша, потом – Лариска, учиха по географии и подруга классной, и мамаша Колосовой – эта в родительском комитете, и вообще деловая.
Отъезжаем от школы в пять вечера – ночь потрясемся, а утром будем на месте.
Я сажусь с Антоновым. На сиденье перед нами Сухие – Шевелевич и Саенко – трындят про свои микросхемы и радиодетали. Они на этом барахле помешаны – видно, и в Ленинград только для того поехали, чтоб накупить радиодеталей. Сухие – говно пацаны: трусы и предатели. До девятого класса их дубасили, как щенков. Они отдавали все копейки, чтоб только их не трогали, но все равно не помогало. Зато если давал кто по голове, сразу закладывали и классной, и своим мамашам. Антонова особо не трогали – отличник, помогал пацанам на контрольных и домашку давал списывать.
Я ни с Антоновым, ни с Сухими почти не общаюсь – зачем мне эти лохи? А списывать в девятом классе уже не надо – никто ничего не проверяет.
Учатся, можно сказать, только Антонов и Князева. С этими все ясно: медалисты. Ну, еще Сухие и несколько баб. А остальные – только гуляют. Я тоже, само собой. Все знают, что меньше тройки не поставят, если пришел в девятый, то аттестат дадут.
Автобус выезжает за город. Я лезу в сумку за пивом – взял пару бутылок из батькиного загашника. Для вида спрашиваю у Антонова:
– Пиво будешь?
– Пиво? Вообще, можно…
Ничего себе. Я думал – он не пьет: примерный все-таки, отличник. Теперь придется делиться.
Открываю бутылки ключом, одну – Антонову, одну – себе. Говорю ему:
– Только осторожно, чтоб классная не засекла.
Он отрывает бумажку «Жигулевское», сует в карман.
– Не бойся, ничего она не заметит, подумает – лимонад. А даже если и заметит – что тут такого? Пиво же, не водка. Нормальный напиток, многие его пьют.
Классная сидит спереди с Лариской, через проход от них – мамаша Колосовой. Они про что-то базарят.
Отпиваю пива – хоть и теплое, но идет хорошо. Говорю Антонову:
– Я и не знал, что ты пиво пьешь, думал, вообще, типа, не это самое…
– Ну, я не большой любитель этого дела, но против пива ничего не имею.
– Значит, водку не пьешь?
– Нет. Вина еще могу, а водку – нет.
– А курить ты, правда, не куришь или только в школе не хочешь, чтоб классная не засекла?
Он кривит губы.
– Классную я не боюсь. Просто не курю – и все. Не понимаю, зачем это вообще надо – здоровью только вредить. Экологическая обстановка плохая, Чернобыль один чего стоит, а тут еще этот никотин.
– Ну, все пацаны курят…
Молчим. Пиво немного дало. Я говорю:
– Ну у нас и бабы в классе – одни уродины.
– Точно. Но мне на них наплевать.
– А у тебя что, есть баба?
– Ну, вообще есть. – Антонов лыбится. – Только не на нашем районе, а на Пионерах.
– А как ты ее снял?
– У меня там сестра двоюродная живет, а она – ее подруга.
– И давно вы?
– Полгода.
– На Пионеры не сцышь ездить? Все-таки враги.
– Не-а. Ко мне там ни разу никто не приставал.
– И часто ты у нее?
– Когда она одна дома. Я обычно прихожу, если родители в ночную, и остаюсь до утра.
Вот тебе и отличник. Может, это и понты, но вряд ли. Во как бывает: пацан – лох, на районе своем нулевой, а бабу дерет за всю херню. Ладно, пускай. Лучше про что другое с ним поговорить.
– Уже знаешь, куда будешь поступать?
– Вообще так, приблизительно. В какой-нибудь технический вуз в Москве.
– Ни хера себе!
– А что у нас в городе ловить? Я не собираюсь всю жизнь инженером на сотню рублей. Институт – это ведь только начало, можно сказать, первая ступенька. А потом можно наукой заняться – в аспирантуру пойти. Или начальником какимнибудь стать. Или в райком. Москва – это не то что здесь. Два-три первых года погулять, потом – жениться на москвичке, прописку получить, чтоб по распределению не заперли в дыру, вроде нашей. Я допиваю пиво большим глотком. Антонов спрашивает:
– А ты куда планируешь после школы?
– Не знаю. Не думал про это. Надо еще десятый закончить, а там видно будет.
Автобус тормозит: кто-то из баб попросился посцать.
С обеих сторон дороги – лес. Гриша орет:
– Мальчики налево, девочки направо!
– Только, мальчики, осторожно, смотрите, машины, – говорит классная и ныряет в кусты. Мелькает ее толстая жопа в спортивных штанах.
Я перехожу дорогу и забираюсь подальше в кусты – покурить. Недалеко становятся сцать Сухие. Хуев я не вижу, но вряд ли у них длинней, чем по три сантиметра.
Я курю, сцу, потом прусь назад к дороге. Антонов уже топчется около автобуса. Бабы по одной вылазят из кустов.
– Сейчас бы еще пива, – говорю я Антонову.
– Вообще, да, одной мало.
Едем всю ночь. Утром останавливаемся на стоянке – в туалет и помыться. Пока я сцу в обосранное со всех сторон очко, Антонов чистит зубы над ржавым умывальником. Тут же выкуриваю сигарету, потом стою около автобуса и смотрю, как бабы вываливают из своего туалета. Рожи помятые, на головах – «я летела с сеновала, тормозила головой».
В автобусе я ненадолго вырубаюсь, потом уже не сплю. Едем по окраинам Ленинграда. Обычные серые дома – ничего особенного.
Вытаскиваю из сумки «тормозок» – мамаша собрала: вареные яйца, кусок сала и батон с маслом. Начинаю хавать. Антонов разворачивает фольгу и грызет жареную курицу. Другие все тоже что-то жрут.
Гриша бьет по тормозам. Они долго базарят с батькой Коноплевой, водят пальцами по карте – видно, заблудились. Лохи тупые, им только по Рабочему ездить. Гриша вылазит, спрашивает дорогу у деда в пиджаке с колодками орденов. Дед тыкает куда-то пальцем, что-то объясняет.
Все пялятся в окна, но там ничего интересного – дома как дома. На тротуаре валяются бычки и пачки из-под сигарет – все как у нас.
Я спрашиваю Антонова:
– Ты был раньше в Ленинграде?
– Был давно, малый еще. Ездил с родителями на экскурсию. Но я почти ничего не помню. А ты?
– Я первый раз. Я вообще нигде не был, кроме Минска.
– Что, и на море ни разу ни ездил?
– Не-а.
Автобус трогается. Мы едем еще минут двадцать. За окном – старые облезлые дома и несколько необлезлых, недавно перекрашенных.
– Я узнал это место, – говорит Антонов. – Там Эрмитаж и Дворцовая площадь, а вон то – Невский проспект.
Гриша тормозит на стоянке. Вокруг – море автобусов с номерами разных городов.
– Ребята, сейчас все идем в кассу Эрмитажа, встаем в очередь и покупаем билеты, – говорит классная. – Никуда далеко не отходите. На всякий случай запомните номер автобуса – 72-17 МГС.
Все вываливают на улицу. Гриша прибарахлился: одел облезлую тенниску на пуговицах, года семидесятого, пузо затянул ремнем – оно висит, как мешок с говном.
Он спрашивает у батьки Коноплевой:
– Пойдешь в Эрмитаж?
– На хер надо – похожу лучше по магазинам, может, сервелата найду или конфет хороших.
– А я схожу – посмотрю, что это за зверь такой.
Мы премся через площадь с колонной посередине. Кругом трутся туристы, орут, фотографируются. Некоторые трындят не по-нашему – значит, иностранцы.
Подходим к кассам, становимся в очередь. Впереди – толпа народу. Много пацанов и баб – видно, тоже на экскурсию от школы. Покупаем билеты, и классная говорит:
– Собираемся здесь же, у входа, ровно через два часа.
Я откалываюсь от своих, хожу по залам, ищу голых баб. Есть некоторые ничего, но все жирные – ляжки, как у Капитоновой с восьмого «б». Она чуть в дверь проходит, цепляется жопой.
Хожу, может, всего час, а уже надоело. Иду к выходу.
На ступеньках догоняю Гришу, он спрашивает:
– Ну как?
– Нормально.
– Что тут нормального? Одни ебатые бабы. Я их что, мало видел? Ну и спорол я хуйню, что пошел сюда. Надо было, как Володя, сразу по магазинам, а то еще грошы отдал за это говно.
Я спрашиваю:
– Ты сейчас куда – к автобусу?
– Ага.
– Я тоже.
– Надо взять сумку – и по магазинам. Жонка сказала купить копченой колбасы, а лучше сервелата. Еще конфет шоколадных и печенье… как это его… А, овсяное.
Подходим к автобусу. Гриша спрашивает:
– Ну что, посадить тебя и закрыть?
– Не, я лучше похожу.
– Ну походи, только смотри не потеряйся. Ленинград – это тебе не Могилев.
«Без тебя знаю, не надо меня лечить». Пробираюсь между автобусов, выхожу на тротуар. Нахожу гастроном, беру две пива и сажусь на скамейку. Насрать, что сбор около входа. Поймут, что пошел к автобусу.
Пиво дает – классно. Сижу, балдею. Глоток пива – затяжка, глоток – затяжка. Погода тоже нормальная: тепло, солнце. Кругом – туристы, тыркают пальцами в свои карты, базарят, фотографируются. А мне все до лампочки.
Последний глоток – и к автобусу. Остальные уже там.
– Где ты ходишь? – орет классная. – Мы тебя ждем у входа, а ты шатаешься неизвестно где. Ты что – пил?
– Нет, не пил.
– Ну-ка подойди поближе.
– Ну выпил бутылку пива – хотел попробовать ленинградского.
– Буров, это последний раз, когда я тебя куданибудь беру. Ты понял?
– Понял.
Садимся в автобус, едем в столовую. Я голодный, как будто и не жрал утром. Беру два салата, две котлеты с двойным пюре и компот. Моментально все уминаю – и на улицу, покурить, пока классная в столовой.
Когда все залазят в автобус, классная становится в проходе:
– Завтра у нас экскурсия по городу, а сейчас – свободное время. Какие будут предложения?
– По магазинам! – кричат бабы.
– Какие-нибудь еще варианты?
Молчание.
– По магазинам, так по магазинам. Остановимся на Невском – там и «Пассаж», и «Гостиный двор».
Автобус тормозит, все выходят. Антонов спрашивает у меня:
– Ты что хочешь купить?
– Не знаю.
– А я «саламандеры» – туфли такие западногерманские. Мой папа два года назад привез себе из Ленинграда, так до сих пор носит. Шестьдесят рублей, конечно, дорого, но туфли отличные. А у нас, если и дают в ГУМе, то только югославские или польские. Я даже чешских, «Цебо», давно не видел. В конце того месяца специально ходил по магазинам, смотрел, что где выбросят, а ничего толкового не нашел.
Заходим с Антоновым в «Гостиный двор», ищем обувной отдел. Я хожу с ним просто так, за компанию: денег у меня мало, крупняка не дали, только на мелкие расходы.
В мужской обуви «саламандеров» нет, но есть другие импортные туфли. Антонов смотрит их, трогает, перегибает подошву – гибкая или нет? Я откалываюсь от него, выхожу на улицу и заваливаю в гастроном. Беру бутылку пива, открываю и пью на ходу – сесть негде, скамеек не видно.
Навстречу – Князева с бумажным свертком под мышкой: уже отоварилась.
– Привет.
– Привет. А где ты пиво купил?
– Там, в магазине. Что, тоже хочешь?
– Ага.
– Пошли сходим. Или ты еще шмотки себе ищешь?