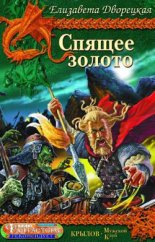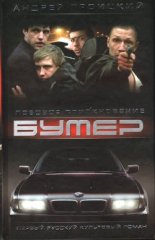Девушка с жемчужной сережкой Шевалье Трейси
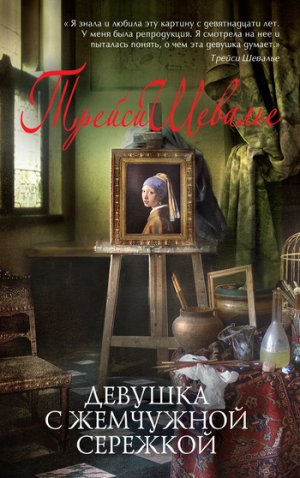
– Хочешь, я скажу твоей бабушке, что ты сделала?
На лице Корнелии мелькнул испуг, и она бросила на землю собранные камни.
Со стороны ратуши по каналу плыл баркас. Я узнала человека, управлявшегося с шестом, – я видела его утром, когда он вел баркас, полный кирпичей и низко осевший в воду. Сейчас баркас шел гораздо легче. Его хозяин улыбнулся мне.
– Пожалуйста, сударь, – покраснев, попросила я, – вы не поможете мне выловить это ведро?
– А, теперь, когда тебе от меня что-то нужно, ты на меня смотришь! А раньше не хотела!
Корнелия с любопытством за мной наблюдала.
– Я не могу достать его отсюда. Может, вы…
Лодочник перегнулся через борт, выловил ведро, вылил из него воду и протянул мне. Я сбежала по ступенькам и протянула руку за ведром.
– Большое спасибо! Я вам очень благодарна.
Но он не выпускал ведро из рук.
– И это все? А поцелуй?
Он протянул другую руку и ухватил меня за рукав. Я вырвала у него ведро.
– В другой раз, – сказала я с напускным кокетством.
Вообще-то это у меня плохо получалось.
– Тогда я каждый раз буду высматривать в этом месте ведро, дорогуша. – Он подмигнул Корнелии. – И причитающийся за него поцелуй.
Он взял шест и поплыл дальше.
Поднимаясь по ступенькам, я увидела, как в среднем окне второго этажа мелькнула какая-то тень. Это была его комната. Я вгляделась, но ничего не увидела, кроме отражавшегося в стекле неба.
* * *
Катарина вернулась, когда я снимала с веревок высохшее белье. Сначала я услышала, как в прихожей бренчат ее ключи. Большая связка ключей свисала у нее с пояса, звякая при каждом ее движении. Мне казалось, что они должны очень мешать ей, но Катарина носила их с гордостью. Потом я услышала ее голос на кухне – она резким тоном отдавала приказания Таннеке и мальчику, который принес ее покупки из магазинов.
Я продолжала снимать с веревок и складывать простыни, наволочки, скатерти, салфетки, носовые платки, воротники и капоры. Их развесили небрежно, как следует не расправив, и отдельные места остались сырыми. И предварительно не встряхнули, так что на белье было полно складок, которые придется долго разглаживать. Эта работа займет у меня чуть ли не весь день.
В дверях появилась Катарина. У нее был разомлевший от жары и усталый вид, хотя солнце светило еще не в полную силу. Блузка некрасиво сбилась у нее под горлом, поверх синего платья был надет сильно измятый зеленый халат. На ней не было капора, и заколотые в пучок белокурые локоны упорно выбивались из-под гребней.
Мне подумалось, что ей лучше всего было бы спокойно посидеть на берегу канала, глядя на воду, – это ее освежит и успокоит.
Я не знала, как себя с ней вести: я раньше не работала служанкой, и у нас в доме тоже никогда не было слуг. На нашей улице их никто не держал, нашим соседям это было не по карману. Я положила собранное белье в корзину, потом поздоровалась с хозяйкой:
– Доброе утро, сударыня.
Она нахмурилась, и я поняла, что мне надо было дождаться, когда она заговорит первой.
– Таннеке показала тебе дом?
– Да, сударыня.
– Значит, тебе понятны твои обязанности? Так будь добра их выполнять.
Она замолчала, словно не зная, что еще сказать, и я вдруг поняла, что она так же мало знает, как вести себя со служанкой, как я не знаю, как вести себя с хозяйкой. Таннеке, наверное, приучала к домашней работе Мария Тинс, и та в первую очередь выполняла приказания старухи.
Видно, мне придется помогать Катарине – только так, чтобы она этого не заметила.
– Таннеке сказала, что кроме стирки и глажки мне надо будет ходить на рынок за мясом и рыбой, сударыня, – подсказала я.
Катарина оживилась:
– Да, она сходит туда с тобой, когда ты кончишь гладить. А потом будешь каждый день ходить на рынок сама. И выполнять другие мои поручения, – добавила она.
– Хорошо, сударыня.
Я помолчала и, видя, что она больше ничего не собирается мне сказать, потянулась, чтобы снять с веревки мужскую рубашку.
При виде рубашки Катарина вспомнила, что еще мне надо сказать.
– Завтра, – объявила она, когда я принялась складывать рубашку, – я покажу тебе комнату на втором этаже, которую тебе надо будет убирать. Пораньше – с самого утра.
И она ушла, не дожидаясь ответа.
Я занесла в дом белье, нашла утюг, почистила его и поставила нагреваться на огонь. Не успела я начать гладить, как появилась Таннеке и вручила мне корзину для покупок.
– Сейчас пойдем к мяснику, – сказала она. – Мне нужно мяса на обед.
До этого я слышала, как на кухне звякают кастрюли и сковородки.
У порога я увидела на скамейке Катарину, Лисбет и спящего в коляске Йохана. Катарина расчесывала волосы Лисбет и искала у нее в голове вшей. Рядом сидели Корнелия и Алейдис и что-то шили.
– Нет, Алейдис, – сказала Катарина, – так ничего не выйдет – надо туже натягивать нитку. Покажи ей, Корнелия.
Я и не думала, что увижу такую мирную домашнюю сцену.
С канала прибежала Мартхе:
– Вы идете за мясом? Можно, я тоже с ними пойду, мама?
– Только держись рядом с Таннеке и во всем слушайся ее.
Я была рада, что Мартхе идет с нами. Таннеке все еще разговаривала со мной очень сдержанно, а Мартхе была веселой и живой девочкой и разбила лед между нами.
Я спросила Таннеке, сколько лет она работает на Марию Тинс.
– Уже давно, – ответила она. – Я к ней поступила еще до того, как молодой хозяин женился на Катарине и они поселились в этом доме. Я начала работать примерно в твоем возрасте… Сколько тебе лет?
– Шестнадцать.
– А мне было четырнадцать, – с торжеством сказала Таннеке. – Я здесь проработала полжизни.
На мой взгляд, этим не стоило гордиться. Изнуренная работой, она выглядела гораздо старше своих двадцати восьми лет.
Мясной ряд помещался за ратушей – к юго-западу от Рыночной площади. Испокон веку в нем было тридцать две палатки – по числу потомственных мясников в Делфте. Здесь было полно женщин – домохозяек и служанок, которые выбирали, торговались и покупали мясо для своих семей. Немало было и мужчин, разносивших по прилавкам туши. Опилки, которыми был посыпан пол, впитывали кровь и прилипали к подошвам и подолам платьев. В воздухе стоял запах крови, от которого мне всегда становилось дурно, хотя одно время я ходила сюда каждую неделю и, казалось бы, должна была к нему привыкнуть. Но все же мне было приятно оказаться в привычном месте. Когда мы шли между палатками, мясник, у которого мы покупали мясо до несчастного случая с отцом, окликнул меня. Я ему улыбнулась, обрадовавшись знакомому лицу. Эта была моя первая улыбка за этот день.
За одно утро мне пришлось узнать так много незнакомых людей и увидеть так много незнакомых вещей, – и все это вдали от всего, к чему я привыкла. Раньше, если я встречала незнакомого человека, это было в кругу семьи и соседей. Если я шла в незнакомое место, со мной был Франс или родители и мне не было страшно. Новое вплеталось в старое, как нитки при штопке носка.
Франс сказал мне вскоре после того, как он начал свой курс обучения на фабрике, что он чуть не убежал оттуда – и не потому, что работа была тяжелой, но потому, что он устал день за днем видеть непривычное окружение и чужие лица. Его заставило остаться только то, что отец отдал за его обучение все сбережения и, если бы он вернулся домой, тут же отправил бы его обратно. А если убежать куда-нибудь подальше, там все будет еще более непривычным и чужим.
– Я приду с вами поболтать, когда буду одна, – шепнула я мяснику и побежала догонять Таннеке и Мартхе.
Они остановились около лавки шагах в десяти от нашей. Тамошний мясник был красивым мужчиной с седеющими русыми волосами и ярко-голубыми глазами.
Я старалась смотреть ему в лицо, но невольно глянула вниз на его забрызганный кровью фартук. Наш мясник всегда обслуживал покупателей в чистом фартуке, меняя его, как только на нем появлялись пятна крови.
– Питер, это Грета, – сказала Таннеке. – Теперь она будет ходить за мясом для нас, а ты, как всегда, будешь записывать это на наш счет.
– Ладно, – сказал Питер, оглядев меня таким взглядом, словно я была упитанной курочкой, которую он собирался зажарить. – А что ты хочешь купить сегодня, Грета?
Я вопросительно посмотрела на Таннеке.
– Четыре фунта отбивных и фунт языка, – распорядилась она.
Питер улыбнулся.
– Что скажете об этом кусочке, барышня? – обратился он к Мартхе. – Правда ведь, у меня самый вкусный язык в Делфте?
Мартхе кивнула и хихикнула, окидывая взглядом выложенные на прилавке куски мяса, отбивные, языки, свиные ножки и сосиски.
– Ты еще поймешь, Грета, что у меня лучшее мясо и самые справедливые цены на всем рынке, – заметил Питер, взвешивая язык. – Тебе на меня жаловаться не придется.
Я поглядела на его фартук и судорожно сглотнула. Питер положил мясо и язык в корзину, которая висела у меня на руке, подмигнул и повернулся к следующему покупателю.
Затем мы пошли в рыбный ряд, который находился рядом с мясным. Над прилавками кружили чайки, дожидаясь рыбных голов и внутренностей, которые продавцы выбрасывали в канал. Таннеке познакомила меня с продавцом рыбы – тоже совсем не похожим на нашего. Мне предстояло один день покупать мясо, а другой – рыбу.
Уходя с рынка, я подумала, что мне страшно не хочется возвращаться к ним в дом, к скамейке, на которой сидела Катарина с детьми. Мне хотелось пойти к матушке и вручить ей корзину, полную отбивных. Мы уже много месяцев не пробовали мяса.
* * *
Когда мы вернулись, Катарина расчесывала волосы Корнелии. На меня они не обратили никакого внимания. Я помогла Таннеке с обедом, переворачивала куски мяса на сковороде, приносила посуду для стола в большую залу, нарезала хлеб. Когда мясо было готово, девочки зашли в дом. Мартхе стала помогать Таннеке в кухне, а остальные уселись за стол в большой зале. Я положила язык в бочку для мяса, стоявшую в одной из кладовок, – Таннеке оставила его на столе, и я едва успела выхватить его из когтей подкравшейся кошки. И тут с улицы вошел он и остановился в дверях в конце длинного коридора. На нем был плащ и шляпа. Я замерла, а он тоже на мгновение остановился в дверях. Свет падал на него со спины, и мне не было видно, смотрит ли он на меня. Через секунду он зашел в большую залу.
Таннеке и Мартхе прислуживали за столом, а меня заставили сидеть с Йоханом в комнате распятого Христа. Когда обед окончился, Таннеке пришла ко мне, и мы ели и пили то же, что и наши хозяева, – отбивные, сельдерей, хлеб и пиво в кружках. Хотя мясо у Питера было ничем не лучше того, что мы покупали у своего мясника, мне оно показалось ужасно вкусным – ведь я так давно его не пробовала. Хлеб был ржаной, из самой дорогой муки, и пиво не было разбавлено. За обедом я не прислуживала за столом и поэтому не видела его. Иногда до меня доносился его разговор с Марией Тинс. По их тону было ясно, что они отлично ладят.
После обеда мы с Таннеке собрали и вымыли посуду, затем подтерли полы в кухне и кладовке. Стены в кухне и прачечной были отделаны белым кафелем, а плита – бело-голубыми делфтскими изразцами, на которых были изображены в одном углу птички, в другом – кораблики, в третьем – солдаты. Я внимательно рассмотрела плитки, но среди них не было разрисованных моим отцом.
Остаток дня я гладила белье в прачечной комнате, лишь иногда останавливаясь, чтобы принести еще охапку, подбросить полено-другое в огонь или выйти во дворик, чтобы немножко остыть. Девочки играли то в доме, то на улице, иногда заходили посмотреть на меня и пошевелить кочергой дрова в очаге. Потом они принялись дразнить Таннеке, которая заснула на кухне и у ног которой ползал Йохан. Меня они не трогали – видно, боялись, что я их отхлещу по щекам. Корнелия смотрела на меня исподлобья и не задерживалась в прачечной комнате больше чем на пару минут, но Лисбет и Мартхе взяли выглаженное белье и отнесли его в шкаф, который стоял в большой зале. Там на кровати спала их мать.
– Весь последний месяц беременности, – сообщила мне Таннеке, – она проведет в постели, обложившись подушками.
Мария Тинс после обеда ушла к себе наверх. Но потом мне показалось, что я слышу ее шаги в коридоре, и, подняв глаза, увидела, что она стоит в дверях и наблюдает за мной. Она ничего не сказала, так что я продолжала гладить, словно ее тут нет. Вскоре я заметила краешком глаза, что она кивнула и ушла.
У него наверху был гость – я слышала, как по лестнице поднимались, разговаривая, двое мужчин. После, когда они спустились, я выглянула из-за двери и посмотрела им вслед. Гость был дородный мужчина, а на шляпе длинное белое перо.
Когда стало темно, зажгли свечи. И мы с Таннеке поужинали с детьми в комнате с распятием хлебом с сыром и пивом. Остальные ужинали в большой зале. Они ели язык. Я села спиной к сцене распятия. За этот день я так устала, что у меня путались мысли в голове. Дома мне приходилось работать не меньше, но я никогда так не уставала: это ведь был чужой дом, мне все было внове, и я все время нервничала. Дома мы часто смеялись с мамой, Агнесой или Франсом. Здесь обмениваться шутками мне было не с кем.
Я все еще не видела подвальную каморку, где мне предстояло спать. Теперь я туда спустилась, взяв с собой свечу, но от усталости не стала разглядывать комнату. Найдя кровать с одеялом и подушкой и оставив люк открытым, чтобы поступал свежий воздух, я сняла башмаки, капор, фартук и платье, наскоро помолилась и легла в постель. Я уже собралась задуть свечу, когда увидела висевшую у меня в ногах картину, и так и подскочила. Сон как рукой сняло. Картина была поменьше той, что висела в комнате с распятием, но тоже изображала Христа и производила еще более гнетущее впечатление. Христос на ней страдальчески закинул голову, а Мария Магдалина смотрела на него, выпучив глаза. Я прилегла, не в силах отвести от нее глаз. Как я буду спать в комнате, где висит такая картина? Мне хотелось снять ее со стены, но я не осмелилась. Наконец я задула свечу – не стоило жечь ее понапрасну в свой первый день в новом доме – и легла на спину, вперив глаза в то место, где, как я знала, висела картина.
Несмотря на усталость, я плохо спала в ту ночь, часто просыпалась и смотрела в сторону картины. Хотя в темноте ничего не было видно, картина во всех подробностях запечатлелась у меня в уме. Когда стало светать и проступили ее очертания, у меня появилось чувство, что Божья Матерь смотрит прямо на меня.
* * *
Встав на следующее утро, я старалась не смотреть на картину и вместо этого стала в тусклом свете, идущем из кладовки, разглядывать мебель в своей подвальной комнатушке. Особенно разглядывать было нечего – несколько обитых гобеленом стульев громоздились в углу, в другом углу было еще несколько сломанных стульев, на стене висело зеркало, и на полу, прислоненные к стене, стояли еще две картины – это были натюрморты. Интересно, заметят ли хозяева, если я повешу вместо распятия натюрморт?
Корнелия, конечно, заметит и скажет матери.
Я не знала, как относится Катарина – и прочие – к тому, что я протестантка. Странно, что я сама в первый раз об этом задумалась. Мне никогда раньше не приходилось бывать в окружении католиков.
Я повернулась к картине спиной и полезла вверх по лестнице. Из передней части дома доносилось звяканье ключей на поясе Катарины. Я пошла ее искать. Она двигалась медленно, как бы в полусне, но, увидев меня, выпрямилась и постаралась взять себя в руки. Она повела меня наверх, медленно одолевая ступеньки и держась за перила, чтобы подтягивать отяжелевшее тело.
Дойдя до двери мастерской, она долго искала в связке ключ и затем отперла комнату. В ней было темно – все ставни были закрыты. Я видела только смутные очертания предметов в свете, проникавшем в щелочки ставен. В комнате стоял чистый резкий запах льняного масла, который напомнил мне о том, как пахла одежда отца, когда он вечером возвращался с фабрики. В этом запахе как бы смешивались запах дерева и свежескошенного сена.
Катарина стола у порога. Я тоже не осмеливалась войти в мастерскую раньше ее. После неловкой паузы она приказала:
– Открой ставни. Но не на левом окне – только на дальнем и среднем. И в среднем окне опусти нижнюю раму.
Я пошла через комнату к среднему окну, обойдя по дороге мольберт и стоявший против него стул, и опустила нижнюю раму. Потом распахнула ставни. Я не стала смотреть на картину, стоявшую на мольберте, решив, что этого не стоит делать в присутствии Катарины.
К правому окну был придвинут стол, а в углу комнаты стоял кожаный стул. На его спинке и сиденье был тисненый узор из листьев и желтых цветов.
– Ничего там не двигай, – напомнила мне Катарина. – Он это рисует.
Даже стоя на цыпочках, я не могла достать до верхней рамы и ставен. Придется влезть на стул, но мне не хотелось этого делать на глазах у Катарины. Она стояла в дверях, как бы дожидаясь, когда сделаю какую-нибудь ошибку, и это меня нервировало.
Что же делать?
Меня выручил Йохан, который громко заплакал внизу. Катарина переминалась с ноги на ногу. Видя, что я стою неподвижно, она в конце концов дернула плечом и пошла к ребенку. Тут я быстро подтащила стул к окну, осторожно встала на его деревянный каркас, подняла верхнюю раму, высунулась и распахнула ставни. Поглядев вниз, я увидела Таннеке, которая мыла кафельную площадку перед парадной дверью. Она меня не видела, но кошка, которая осторожно ступала по мокрым плиткам позади нее, остановилась и подняла голову.
Я опустила нижнюю раму, открыла нижние ставни и слезла со стула. И вдруг увидела в комнате какое-то движение и в страхе застыла. Движение прекратилось. Я увидела, что это – мое отражение в зеркале, которое висело в простенке между окнами. Я стала себя разглядывать. У меня было встревоженное и виноватое выражение лица, но в солнечном свете на щеках выступил теплый румянец. Это меня удивило, и я отошла от зеркала.
Теперь у меня было время оглядеть мастерскую. Это была просторная квадратная комната, по длине чуть меньше нижнего коридора. Теперь, когда окна открыты, побеленные стены, белые и серые мраморные плиты на полу с узором из квадратных крестов как бы наполняли ее светом и воздухом. По низу стены, чтобы защитить побелку от наших мокрых швабр, выложен ряд делфтских изразцов с купидонами. Это тоже не работа моего отца.
Хотя комната и большая, мебели в ней очень мало: мольберт со стулом, установленный перед средним окном, и стол, придвинутый к окну в правом углу. Кроме того стула, на который я залезала, чтобы открыть окно, у стола стоял еще один кожаный стул, но без тиснения – просто обитый гвоздями с широкими шляпками и украшенный поверху резными львиными головами. У задней стены за мольбертом и стулом был небольшой комод. Его ящики были закрыты, а сверху лежали ромбовидный нож и чистые палитры. Рядом с комодом стоял письменный стол, заваленный бумагами, книгами и гравюрами. Еще два стула, украшенные львиными головами, стояли у стены рядом с дверью.
Мастерская была очень опрятной. Она сильно отличалась от остальных комнат: можно было даже подумать, что находишься в совершенно другом доме. При закрытой двери в ней почти не было слышно детских криков, звона ключей Катарины, шуршания наших веников.
Я принесла швабру, ведро воды и тряпку и начала прибирать комнату. Начала я с угла, который должен был попасть в картину и где мне не разрешалось переставлять ни одного предмета. Я встала на колени на стул, чтобы протереть подоконник окна, которое открыла с таким трудом, и провела сухой тряпкой по желтой гардине, висевшей слева от окна в углу, едва касаясь ткани, чтобы не нарушить складки. Стекла окна были грязными, и их следовало бы помыть. Но я не была уверена, что ему это нужно, и решила как-нибудь в другой раз спросить Катарину.
Я вытерла пыль со стульев и хорошенько протерла круглые шляпки гвоздей и львиные головы. Стол, видимо, давно никто не убирал – только проводили тряпкой вокруг расположенных на нем предметов – пуховки, оловянной миски, письма, черного керамического горшочка и синей ткани, как бы небрежно брошенной на стол так, что ее конец свешивался с края. Но чтобы как следует стереть пыль со стола, каждый из этих предметов надо было убрать с того места, где он находился. Матушка сказала, что мне придется изобрести способ сдвигать предметы и потом ставить их точно на старое место.
Письмо лежало близко к углу стола. Если я положу большой палец вдоль одного края письма, а указательный вдоль другого и зацеплюсь мизинцем за край стола, чтобы нечаянно не сдвинуть руку, я смогу убрать письмо, протереть под ним поверхность стола и положить его точно на то же место – в угол, образованный моими двумя пальцами.
Я пристроила пальцы к письму, затаила дыхание, одним быстрым движением убрала письмо, протерла под ним стол и положила его на место: почему-то мне казалось, что это надо проделать очень быстро. Потом я отступила от стола. Вроде бы письмо лежало на прежнем месте, но удостоверить это мог только он.
Так или иначе, надо постараться выдержать это первое испытание.
Потом я измерила рукой расстояние от письма до пуховки, расположила пальцы вокруг пуховки, убрала ее и протерла стол. Положив пуховку на прежнее место, я измерила расстояние между ней и письмом. То же самое я проделала и с черным горшочком.
Так я вытерла весь стол, вроде бы не сдвинув с места ни одного предмета. Я измеряла каждый предмет и расстояние между ними. Делать это было проще с мелкими предметами на столе, но труднее с мебелью: тут мне приходилось пускать в ход ноги, колени, иногда даже плечи и подбородок.
Но я не знала, что делать с небрежно брошенной на стол синей тканью. Если я ее сниму, мне не удастся уложить ее по-старому. Пока что я оставила ее в покое, надеясь, что день-другой он не обратит на нее внимания, а потом я что-нибудь придумаю.
Все остальное не представляло особой трудности – я протерла стены, окна и мебель, вымыла пол. Эту комнату действительно давно как следует не убирали. И мне было приятно навести в ней порядок. В дальнем углу напротив стола и окна была дверь, которая вела в кладовку, заваленную картинами, холстом, стульями, сундуками, посудой, ночными горшками. На стене была вешалка и полка с книгами. Там я тоже прибралась и расставила вещи так, чтобы и в кладовке было какое-то подобие порядка.
Но вокруг мольберта я все еще не убирала. Мне почему-то было страшно взглянуть на стоящую на нем картину.
Но вот все остальное переделано, я вытерла пыль со стула, стоящего перед мольбертом, потом стала протирать мольберт, все еще не смея взглянуть на картину.
Но когда я краем глаза увидела желтый атлас, я остановилась.
Так я и стояла, воззрившись на картину, пока не услышала голос Марии Тинс:
– Правда, поражает воображение?
Я не слышала, как она вошла. Она стояла в дверях, слегка сгорбившись. На ней было красивое черное платье с кружевным воротником.
Я не знала, что ей ответить, и мой взгляд помимо моей воли опять вернулся к картине.
Мария Тинс засмеялась:
– Не ты одна забываешь о правилах вежливости, глядя на его картины, девушка.
Она подошла и встала рядом со мной.
– Да, недурно. Это жена Ван Рейвена.
Я вспомнила, что отец называл это имя, говоря о патроне моего хозяина.
– Она не так уж хороша собой, но он сумел сделать ее красивой, – добавила Мария Тинс. – За эту картину хорошо заплатят.
Это была первая из увиденных мной его картин, и я запомнила ее лучше остальных, даже тех, которые на моих глазах прошли путь от грунтовки до завершающих мазков.
Перед столом стояла дама, повернувшись к зеркалу, в профиль к художнику. На ней была отделанная горностаем атласная накидка густого желтого цвета, а в волосах – красная лента, завязанная модным пятиконечным бантом. Свет, падавший из окна слева, высвечивал тонкие очертания ее выпуклого лба и носа. Она примеряла нитку жемчуга, держа ее за краешки. Ее так поглощало собственное отражение в зеркале, что она словно и не подозревала, что на нее кто-нибудь смотрит. Позади нее на ярко освещенной стене висела старая географическая карта, а на темном фоне стола виднелись письмо, пуховка и прочие предметы, под которыми я только что вытирала пыль.
Как мне хотелось надеть эту накидку и этот жемчуг! И узнать поближе человека, который так ее написал.
Я вспомнила, как сама недавно смотрела в зеркале на свое отражение, и мне стало стыдно.
Мария Тинс безмолвно стояла рядом со мной, глядя на картину. Как странно было смотреть на задний план, где были изображены уже знакомые мне предметы: письмо на углу стола, пуховка возле оловянной миски, синяя ткань, оттеняющая горшочек… Все, казалось бы, было то же самое, но выглядело чище и яснее. Мне, как бы я ни старалась, их так не отчистить.
И вдруг я заметила разницу и тихонько ахнула.
– В чем дело, девушка?
– На картине стул не украшен львиными головами, – сказала я.
– Это верно. Одно время на нем стояла лютня. Он многое меняет в процессе работы. Рисует не то, что видит, а то, что больше соответствует его замыслу. Скажи, как по-твоему – эта картина закончена?
Я посмотрела на хозяйку с удивлением. В ее вопросе была какая-то ловушка, но я не представляла себе, чтобы картину можно было улучшить.
– А разве нет? – неуверенно проговорила я.
Мария Тинс фыркнула:
– Он над ней работает уже три месяца. И наверное, не скоро закончит. Вот увидишь, он еще многое в ней изменит. – Она огляделась. – Закончила уборку? Тогда иди займись другими своими обязанностями. Скоро он придет посмотреть, как у тебя получилось.
Я в последний раз посмотрела на картину, но, когда я глядела на нее в упор, что-то как будто исчезало. Так бывает, когда темной ночью смотришь на звезду: если смотришь прямо на нее, ее едва видно, а если поглядеть уголком глаза, она становится гораздо ярче.
Я собрала швабру, ведро и тряпку. Когда я уходила, Мария Тинс все еще стояла перед картиной.
Я принесла с канала два ведра воды и поставила их на огонь. Потом пошла искать Таннеке. Она была в той комнате, где спали девочки, – помогала Корнелии одеваться. Мартхе помогала Алейдис, а Лисбет одевалась сама. Таннеке была не в духе. Она бросила на меня взгляд, но, когда я хотела с ней заговорить, сделала вид, что меня не замечает. Тогда я подошла и встала прямо перед ней, так что ей пришлось на меня посмотреть.
– Таннеке, я хочу пойти в рыбный ряд. Что мне нужно купить?
– Так рано? Мы всегда ходим позже.
Таннеке опять перевела взгляд на белые банты в виде пятиконечных звезд, которые она завязывала в волосах Корнелии.
– Пока греется вода, мне нечего делать, вот я и решила сходить сейчас, – ответила я.
Не стоит, наверное, ей напоминать, что лучшие доли раскупают с утра, даже если мясник или торговец рыбой обещал отложить для вас хороший кусок.
– Что-то мне сегодня не хочется рыбы. Сходи к мяснику и купи кусок баранины.
Таннеке закончила с бантами, и Корнелия вскочила со стула и пробежала мимо меня. Таннеке отвернулась и, нагнувшись, стала искать что-то в ящике комода. Я смотрела на ее широкую спину, туго обтянутую тускло-коричневым платьем.
Она ревнует. Мне позволили убираться в мастерской, куда ее никогда не пускают, куда, видимо, можем заходить только я и Мария Тинс.
Таннеке выпрямилась, держа в руке капор, и сказала:
– А знаешь, что хозяин однажды написал мой портрет? Я на нем наливаю в кастрюлю молоко. Все говорили, что это его лучшая картина.
– Хотелось бы на нее взглянуть, – сказала я. – Она все еще в доме?
– Нет. Ее купил Ван Рейвен.
Подумав минуту, я сказала:
– Значит, на тебя каждый день любуется один из самых богатых людей Делфта?
Таннеке ухмыльнулась, отчего ее рябое лицо стало еще шире. Мой вопрос ей польстил. Все дело в том, чтобы найти нужные слова.Я повернулась, чтобы идти, пока она опять не впала в дурное настроение.
– Можно, я пойду с тобой? – спросила Мартхе.
– И я, – добавила Лисбет.
– Не сегодня, – твердо сказала я. – Вам надо завтракать, а потом помогите Таннеке.
Я не хотела, чтобы у девочек вошло в привычку сопровождать меня на рынок. Пусть лучше такие прогулки будут им наградой за хорошее поведение.
Кроме того, мне хотелось пройти по знакомым улицам одной, не слушая болтовни, напоминающей мне о моей новой жизни. Когда я оставила позади квартал папистов и оказалась на Рыночной площади, я впервые свободно вздохнула. Оказывается, в этом доме я ни на минуту не давала себе расслабиться.
Прежде чем пойти к палатке Питера, я остановилась поболтать с нашим бывшим мясником, который при виде меня расплылся в улыбке.
– Наконец-то ты решила со мной поговорить! А вчера куда как высоко надо мной вознеслась, – поддразнил он меня.
Я стала объяснять ему, что мои обстоятельства изменились.
– Знаю-знаю, – перебил он меня. – Все только об этом и говорят – дочка плиточника Яна пошла в услужение к художнику Вермееру. И что я вижу: проработав там всего один день, она уже так возгордилась, что не замечает старых друзей!
– Мне нечем гордиться. Что хорошего в том, чтобы быть служанкой. Отец этого стыдится.
– Твоему отцу просто не повезло. Его никто не винит. И тебе не надо этого стыдиться, милая. Разве что того, что больше не покупаешь мясо у меня.
– От меня тут ничего не зависит. Все решает хозяйка.
– Вот как? Значит, ты покупаешь мясо у Питера не потому, что его сын – красивый парень?
– Я еще не видела его сына, – нахмурившись, ответила я.
Мясник засмеялся:
– Еще увидишь. Ну, иди по своим делам. Когда увидишь мать, скажи, чтобы она ко мне пришла. Я оставлю для нее кусочек получше.
Я поблагодарила и пошла дальше. Мое появление как будто удивило Питера.
– Пришла с утра пораньше? Видно, язык понравился?
– Сегодня мне нужен кусок баранины.
– Ну признайся, Грета, что вкуснее языка ты не едала?
Но он не получил от меня комплимента, которого добивался.
– Язык съели хозяин с хозяйкой. Не знаю, как он им понравился.
При этих словах на меня обернулся молодой человек, который рубил позади Питера мясо. Видно, это и был его сын. Он был выше Питера, но у него были такие же ярко-голубые глаза. Светлые густые волосы вились по плечам, окаймляя лицо, которое показалось мне похожим цветом на абрикос. Единственное, что мне в нем не понравилось, – это забрызганный кровью фартук.
Его глаза остановились на мне, точно бабочка, опустившаяся на цветок, и я невольно покраснела. Глядя только на его отца, я повторила заказ: хороший кусок баранины. Питер стал перебирать куски на прилавке. Потом положил один из них передо мной. На меня внимательно глядели две пары глаз.
Кусок был серый по краям. Я понюхала его.
– Это не свежее мясо, – прямиком сказала я. – Хозяйка будет недовольна, что вы прислали им такой кусок.
В моем тоне сквозило высокомерие. Впрочем, они этого заслужили.
Отец с сыном молча смотрели на меня. Я выдержала взгляд отца, стараясь не обращать внимания на сына.
Наконец Питер повернулся к сыну:
– Питер, дай тот кусок, что мы отложили в сторону.
– Но он же предназначался… – Сын Питера оборвал себя и ушел, вскоре вернувшись с другим, гораздо более свежим куском.
Я кивнула:
– Так-то лучше.
Сын Питера завернул кусок и положил мне его в корзину. Я поблагодарила его и, уже уходя, заметила, как отец с сыном многозначительно переглянулись. Даже в тот первый день я поняла, что они имеют в виду и чем это для меня обернется.
Когда я вернулась, Катарина сидела на скамейке и кормила Йохана. Я показала ей баранину, и она кивнула. И после паузы негромко процедила:
– Муж осмотрел мастерскую и решил, что его устраивает твоя уборка.
Она сказала это, не глядя на меня.
– Спасибо, сударыня.
Я зашла в прихожую, посмотрела на натюрморт с фруктами и омаром и подумала: значит, я и в самом деле принята на работу.
Остаток дня прошел примерно так же, как и первый день и как будут проходить последующие. Закончив уборку в мастерской и сходив на рынок за мясом или рыбой, я опять принималась за стирку. Один день я сортировала и замачивала белье и выводила пятна, другой – кипятила, стирала, полоскала, выжимала и вешала белье на веревку, чтобы его выбелило солнце; в третий день я гладила, чинила и укладывала белье в комод. Посреди дня я делала перерыв и шла помогать Таннеке готовить обед. Потом мы убирали со стола и мыли посуду, и у меня оставалось немного свободного времени, чтобы заняться шитьем – на скамейке или во дворике. После этого я заканчивала стирку или глажку и помогала Таннеке готовить ужин. Напоследок мы еще раз мыли пол, чтобы он был чистым и свежим на следующее утро.
Ночью я закрывала висевшую у меня в ногах картину распятия фартуком, который я носила в тот день. Тогда я легче засыпала. На следующий день я клала фартук в грязное белье, которое намечала стирать.
* * *
Когда на второе утро Катарина отперла для меня дверь мастерской, я спросила ее, можно ли вымыть окна.
– А почему бы и нет? – раздраженно отозвалась она. – Что ты меня спрашиваешь о разных пустяках?
– Но ведь от этого изменится освещение, сударыня, – объяснила я. – Вдруг это повлияет на картину.
Она не поняла, о чем я говорю. Она не могла – или не хотела – зайти в мастерскую и поглядеть на картину. По-видимому, она никогда здесь не бывала. Когда Таннеке перестанет злиться, надо будет спросить, почему он ее туда не пускает. Катарина пошла вниз спросить его про окна и крикнула мне оттуда не трогать их.
Убираясь, я не заметила никаких признаков того, что художник побывал в мастерской. Ничто не было сдвинуто с места. Палитры оставались чистыми, в картине как будто не произошло никаких изменений. Но что-то говорило мне, что он все же был здесь.
Первые два дня после того, как я начала работать на Ауде Лангендейк, я почти совсем его не видела. Иногда я слышала его голос на лестнице или в прихожей: он шутил с детьми или тихо обсуждал что-то с Катариной. В эти минуты у меня возникало ощущение, что я иду по самому краю канала и вот-вот в него упаду. Я не знала, как он будет обращаться со мной в своем собственном доме, обратит ли он внимание на овощи, нарезанные мной у него на кухне.
Никогда прежде ни один важный господин не проявлял ко мне такого интереса.
На третий день моего пребывания в его доме мы встретились лицом к лицу. Перед самым обедом я пошла за тарелкой, которую Лисбет оставила на улице, и чуть не натолкнулась на него в коридоре. Он нес на руках Алейдис.
Я попятилась. Он и его дочь смотрели на меня одинаковыми серыми глазами. Он не улыбался, но и не хмурился. Мне было трудно заставить себя встретиться с ним взглядом. Я вспомнила женщину на картине, которая смотрит на себя в зеркало, вспомнила жемчуг и желтую атласную накидку. Этой даме было бы вовсе не трудно взглянуть в глаза важному господину. Когда я наконец сумела поднять взгляд, художник на меня уже не смотрел.
На следующий день я увидела даму с картины. Когда я возвращалась от мясника, впереди меня по Ауде Лангендейк шли мужчина и женщина. Поравнявшись с нашим домом, мужчина повернулся к ней, поклонился и пошел дальше. На нем была шляпа с большим белым пером. Это, наверное, тот самый человек, который несколько дней назад был у хозяина в гостях. Я мельком увидела его профиль: у него были усы и толстое – под стать телу – лицо. Он улыбался, словно намереваясь сделать даме лестный, но неискренний комплимент. Женщина вошла в наш дом. Я не увидела ее лица, в волосах у нее был красный пятиконечный бант. Я задержалась у входа, пока не услышала, как она поднимается по лестнице.