Собака Баскервилей. Острие булавки (сборник) Честертон Гилберт
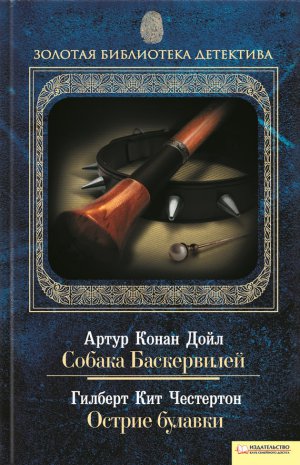
– Вы забыли, там же выбито окно. – Лицо преподобного Люка Прингла растянулось в широкой улыбке, он вышел из ресторана и скрылся в ночи.
– Странный все-таки он человек, – произнес профессор, задумчиво нахмурив брови и проводив его взглядом.
Однако, повернувшись к отцу Брауну, он с изумлением увидел, что тот беседует с официантом, принесшим коктейли, явно о каких-то его (официанта) делах, поскольку разговор шел о ребенке, которому «уже ничего не грозит». Профессор поинтересовался у Брауна, откуда он знает этого человека, на что тот ответил:
– О, я здесь обедаю раз в два-три месяца, и мы время от времени разговариваем.
Профессор, который обедал здесь примерно пять раз в неделю, подумал, что ему никогда не приходило в голову о чем-то разговаривать с официантами, но мысли его были прерваны неожиданным резким звонком, после чего его пригласили к телефону. Голос, донесшийся из трубки, сказал, что это Прингл. Голос звучал приглушенно, но причиной тому могла быть и кустистая борода миссионера. Впрочем, кто говорит, можно было понять и без представления.
– Профессор, – зашуршал голос, – я больше этого не вынесу. Я собираюсь заглянуть в нее. Я звоню из вашего кабинета, и книга лежит передо мной. Если со мной что-нибудь случится, я хочу заранее попрощаться… Нет, не пытайтесь меня отговорить, и вы все равно не успеете сюда добраться. Я уже открываю книгу. Я…
Опеншоу показалось, что он услышал какое-то дрожание или вибрацию, почти беззвучный толчок. Он несколько раз прокричал в трубку имя Прингла, но ответа не последовало. Профессор повесил трубку, придал лицу бесстрастное академическое спокойствие (впрочем, сильно смахивающее на оцепенение, вызванное отчаянием), вернулся к столику, занял свое место и ровным, четким голосом, как будто рассказывал о каком-то глупом закончившемся провалом ухищрении очередного медиума-шарлатана, подробно поведал священнику обо всем, связанном с этой чудовищной загадкой.
– Это невообразимо, но уже пять человек исчезли, – сообщил он. – Каждый из этих случаев можно назвать исключительным, но меня больше всего поразил мой секретарь, Бэрридж. И потому, что он был, наверное, тишайшим существом на земле, его исчезновение кажется самым загадочным.
– Да, – согласился отец Браун. – В любом случае, Бэрридж поступил довольно странно. Он ведь человек невероятно сознательный и всегда разделял работу и свою личную жизнь. Мало кто знал, что в домашней обстановке это был весельчак, каких поискать, и к тому же…
– Кто, Бэрридж? – воскликнул профессор. – О чем вы говорите? Вы что, были знакомы с ним?
– Нет, – беспечно ответил отец Браун. – Не больше чем с этим официантом. Мне частенько приходилось ждать вас у вашего кабинета, и, разумеется, я проводил какое-то время рядом с бедным Бэрриджем. Знаете, он был немного чудаковатым человеком. Я помню, однажды он рассказал, что хочет начать коллекционировать всякие безделушки. Вы, наверное, слышали, что некоторые люди собирают всякие ненужные вещи, в которых они видят какую-то ценность. Помните ту историю про женщину, которая собирала бесполезные вещи?
– Понятия не имею, о чем вы говорите, – сказал Опеншоу, – но даже если мой секретарь был человеком со странностями (хотя, если честно, уж кого-кого, а его я никогда не считал чудаком), это не объясняет того, что с ним произошло. Ну а того, что произошло с другими, и подавно.
– С какими другими? – спросил священник.
Профессор оторопело посмотрел на него и медленно, с расстановкой сказал, будто обращался к ребенку:
– Дорогой мой отец Браун, исчезли пять человек!
– Дорогой мой профессор Опеншоу, ни один человек не исчез.
Отец Браун смотрел на своего соседа так же внимательно, и говорил так же отчетливо. Тем не менее профессор потребовал от него повторить эти слова, и они были повторены с той же отчетливостью.
– Я сказал, что никто не исчезал. – Через секунду он добавил: – Самая трудная штука в мире – убедить кого-то, что 0+0+0=0. Люди верят в самые безумные вещи, если они не единичны, а повторяются. Именно поэтому Макбет поверил предсказаниям трех ведьм, хотя первая сказала то, что он и сам знал, а третья – то, что зависело только от него. Но в вашем случае самое слабое звено промежуточное.
– Как вас понимать?
– На ваших глазах не пропал никто. Вы не видели, как исчез человек на лодке, вы не видели, как исчез человек в палатке. Об этом вам известно только со слов мистера Прингла, о котором я пока что не буду говорить. Но признайте: вы бы никогда не поверили его словам, если бы не получили подтверждение в виде исчезновения вашего секретаря. Точно так же Макбет никогда не поверил бы, что станет королем, если бы не сбылось другое предсказание – что он станет кавдорским таном.
– Можно и так сказать, – согласился профессор, медленно кивнув. – Но ведь я получил подтверждение и убедился, что все это правда. Вы говорите, что я сам ничего не видел. Но я же видел! Я видел, как исчез мой собственный секретарь. Что ни говори, но ведь Бэрридж исчез!
– Бэрридж не исчез, – сказал отец Браун. – Напротив.
– Как, черт подери, вас понимать? Что значит «напротив»?
– Это значит, – спокойно произнес отец Браун, – что он не исчезал. Он появился.
Опеншоу уставился на сидящего перед ним друга, но во взгляде его возникло то выражение, которое появлялось всякий раз, когда какой-то вопрос неожиданно представлялся ему в новом свете. Священник тем временем продолжал:
– Он появился в вашем кабинете с густой рыжей бородой и в неудобном наглухо застегнутом плаще и представился преподобным Люком Принглом. Вы же до этого обращали на своего секретаря настолько мало внимания, что не узнали его в этом грубом маскараде.
– Но ведь… – начал было профессор, но священник перебил его:
– Вы смогли бы назвать полиции его приметы? Нет. Возможно, вы вспомнили бы только, что он всегда чисто выбрит и носит затемненные очки. Ему, чтобы замаскироваться, даже не нужно было переодеваться, он мог бы просто снять очки, и вы бы ни за что его не узнали. Глаза его вы знали не больше, чем его душу. А глаза эти были насмешливыми. Он приготовил свою нелепую книгу, потом спокойно выбил окно, нацепил бороду, надел плащ и вошел в ваш кабинет, зная, что вы до этого никогда не смотрели ему в лицо.
– Но зачем ему понадобилось проделывать такие безумства? – не унимался Опеншоу.
– Неужели вы не понимаете? Именно потому, что вы никогда не смотрели ему в лицо! – сказал отец Браун, при этом пальцы его несильно сжались, и он приподнял руку, словно хотел ударить кулаком по столу. – Вы называли его счетной машиной, потому что ни для чего другого вы его не использовали. Вы не знали о нем даже того, что узнал бы за пять минут разговора любой посторонний, зайдя в вашу приемную: что он был человеком, что он был весельчаком, что у него имелись свои суждения насчет вас, насчет ваших теорий и насчет вашего умения «выводить на чистую воду» других людей. Неужели вы не понимаете, как ему хотелось доказать, что вы не сможете изобличить даже собственного служащего? У него было множество самых невероятных идей. Например, насчет коллекционирования разного хлама. Неужели вы не слышали о женщине, купившей две совершенно ненужные вещи: старую медную табличку врача и деревянную ногу? С их помощью ваш изобретательный секретарь и создал образ достопочтенного доктора Хэнки, которого поселил в своем же доме. Это было не сложнее, чем придумать воображаемого капитана Уэйлза.
– Погодите, не хотите же вы сказать, что тот дом за Хэмпстедом, в котором мы побывали, это дом самого Бэрриджа? – ошеломленно спросил Опеншоу.
– А вы бывали у него раньше? Хотя бы адрес его вы знали? – возразил священник. – Послушайте, я не хочу принизить ни вас, ни вашу работу. Вы – великий служитель истины и знаете, что я никогда бы не позволил себе проявить к вам неуважение. Вы видели множество лжецов и сумели уличить их в обмане. Но не смотрите вы только на обманщиков. Смотрите, хотя бы изредка, и на честных людей… таких, как официант.
– А где сейчас Бэрридж? – спросил профессор после долгого молчания.
– У меня нет ни малейшего сомнения, – сказал отец Браун, – что сейчас он в вашем кабинете. Более того, он оказался там в тот самый миг, когда преподобный Люк Прингл открыл ту злосчастную книгу и растворился в небытии.
Снова надолго наступила тишина, а потом профессор Опеншоу рассмеялся, и это был смех человека, который достаточно умен, чтобы не бояться признать свою неправоту.
– Наверное, я заслужил это тем, что не замечал своих ближайших помощников. Но, признайте, сочетание обстоятельств было достаточно убедительным. Неужели у вас хоть на секунду не возникло страха перед этой жуткой книгой?
– Что? Ах да! Нет, не возникло, – ответил отец Браун. – Я раскрыл ее, как только увидел. Там одни пустые страницы. Я, видите ли, не суеверен.
Преступление коммуниста
Трое мужчин вышли через низкую тюдоровскую арку, прорезающую ровный, спокойный фасад Мандевильского колледжа, на яркий вечерний свет погожего летнего дня, которому, казалось, не будет конца, и в этом свете они увидели нечто подобное сверканию молнии, нечто настолько поразительное, что вряд ли кто-то из них забудет об этом до конца своих дней.
Еще до того, как они успели подумать о катастрофе, у всех троих появилось ощущение контраста. Сами они каким-то странным образом вписывались в то место, в котором находились. Хоть тюдоровские арки, обегавшие сады колледжа монастырской стеной, были сооружены четыре столетия назад, в те времена, когда холодная готика низверглась с небес и склонилась или даже почти пала на колени перед гуманизмом и Ренессансом с их более уютными залами и теплой домашней атмосферой; хоть на них была современная одежда (то есть одежда, уродству которой поразились бы в любом из четырех минувших веков), все же что-то объединяло их с этим местом. Сад здесь был ухожен столь заботливо, что красота его достигала верха совершенства – выглядела естественной; даже прелесть цветов здесь казалась как будто случайной, как у иного изящного сорняка; ну а современные костюмы все же имели ту единственную особенность, которая могла придать им хоть какой-то колорит, – они были неряшливы.
Первый из троих, лысый и бородатый верзила – фигура довольно известная в колледже – был в берете с квадратным верхом и в мантии, чуть сползшей с одного плеча. Второй при маленьком росте отличался очень широкими квадратными плечами, он весело улыбался и был в обычном пиджаке, мантия его висела у него на руке. Третий же был и того ниже, его наряд казался совсем уж потрепанным, хоть это и была черная ряса. И все же трое вписывались в это место и в ту не поддающуюся описанию, неповторимую атмосферу, которая царит в Мандевильском колледже одного из двух старейших английских университетов. Они соответствовали ей и казались на ее фоне незаметными, что ценится здесь больше всего.
Двое мужчин, сидевших на садовых стульчиках у небольшого столика, казались чем-то вроде блестящей кляксы на этом серо-зеленом пейзаже. Одеты они были почти во все черное, но, несмотря на это, сверкали с ног до головы: от лощеных цилиндров до идеально начищенных туфель. При взгляде на них возникало смутное ощущение, что в Мандевильском колледже, месте, где свобода пестовалась веками, просто неприлично находиться в столь изысканной одежде. Оправданием им могло служить лишь то, что они иностранцы. Первый – американец, миллионер по фамилии Хейк – был одет так безупречно и элегантно, как одеваются только первые богачи Нью-Йорка. Второй, к блеску которого было добавлено еще и каракулевое пальто (не говоря уже о размашистых рыжих бакенбардах), был немецким графом, обладателем громадного состояния. Самая короткая часть его имени звучала как фон Циммерн. Однако тайна, о которой повествует этот рассказ, не связана с тем, почему эти люди оказались здесь. Они находились здесь по той причине, которая часто сводит вместе несовместимые вещи: они хотели пожертвовать колледжу деньги. Эти господа прибыли сюда для того, чтобы поддержать идею, разработанную совместно финансистами и магнатами многих стран, а именно: открытие в Мандевильском колледже кафедры экономики. Они проинспектировали колледж с тем неутомимым и радетельным тщанием, на которое из сынов Евовых способны лишь американцы и немцы. Теперь же они, видимо, отдыхая от трудов праведных, молча смотрели на сады колледжа. Вокруг царили покой и умиротворение.
Трое других мужчин с ними уже встречались раньше, поэтому прошли мимо, едва кивнув в знак приветствия, но один из них, самый невысокий, в черном церковном одеянии, приостановился.
– Ой, не нравится мне, как эти господа выглядят, – тихо сказал он, и в глазах его появилось выражение испуганного кролика.
– Еще бы! – воскликнул самый высокий из трех, который был мастером[19] Мандевильского колледжа. – Хорошо еще хоть у нас некоторые богатые люди не похожи на манекены в мастерской портного.
– Да-да, – пробормотал клирик, – я об этом и говорю. Манекены.
– Вы что имеете в виду? – настороженно поинтересовался средний по росту мужчина.
– Они похожи на жуткие восковые фигуры, – слабым голосом ответил священник. – Они ведь не шевелятся. Почему они не шевелятся?
И вдруг, словно скинув с себя оковы страха, он бросился со всех ног через сад и прикоснулся к плечу немецкого барона. Немецкий барон не повернул головы, даже не вздрогнул. Он повалился на бок, и его согнутые ноги в черных брюках, застыли в воздухе так же безжизненно, как ножки опрокинувшегося стула.
Мистер Гидеон П. Хейк продолжал взирать на сад остекленевшими глазами, и прозвучавшее только что сравнение с восковой фигурой еще более усилило впечатление, будто глаза эти действительно сделаны из стекла. Кроме того, яркий солнечный свет и сочная зелень сада подчеркнули жуткое сходство этих фигур с выряженными в строгие одежды куклами, с итальянскими марионетками. Коротышка в черном – это был священник по фамилии Браун – неуверенно тронул миллионера за плечо, и тот тоже завалился на бок и, что самое страшное, не изменив позы, одним целым, как вырезанная из дерева фигура.
– Rigor mortis[20], – еле слышно произнес отец Браун. – Но так быстро? Хотя кто знает, это по-разному бывает.
Причину, по которой первые трое так поздно (если не сказать, слишком поздно) присоединились ко вторым двум, будет проще понять, если станет известно, что незадолго до этого происходило внутри здания за тюдоровской аркой.
Они вместе обедали в столовой за профессорским столом, но двое филантропов, которых долг звал закончить осмотр колледжа, встали из-за стола раньше и чинно удалились в капеллу, где еще остались непроверенными одна галерея и лестница. Они пообещали присоединиться к остальным в саду, чтобы с тем же пристрастием оценить здешние сигары. После этого оставшиеся, будучи людьми более здравыми и почитающими традиции, передислоцировались за длинный узкий дубовый стол, за которым по старинной, известной каждому традиции, заложенной еще в средние века сэром Джоном Мандевилем, было принято пить послеобеденное вино, предназначенное для того, чтобы настраивать на открытую душевную беседу. Мастер, обладатель окладистой русой бороды и совершенно лысого черепа, сел во главе стола, коренастый мужчина в пиджаке с квадратными плечами – а это был казначей колледжа – устроился по левую руку от него. Рядом с ним разместился странноватого вида человек с лицом, которое иначе как кособоким не назовешь, поскольку его темные лохматые усы и брови смотрели в разные стороны под разными углами в форме зигзага, что создавало впечатление, будто половина его физиономии то ли сморщена, то ли парализована. Звали этого человека Байлз, в колледже он читал курс лекций по римской истории, и в своих политических взглядах опирался на Корилана[21], не говоря уже о Тарквинии Гордом[22]. Нельзя сказать, чтобы подобный радикальный торизм и фанатично-реакционное восприятие всех насущных проблем для преподавателей старой закалки было чем-то неслыханным, но в случае с Байлзом казалось, что это было больше результатом, чем причиной присущей ему резкости. Не у одного внимательного наблюдателя складывалось впечатление, что с Байлзом творится что-то неладное, что таким его сделала некая тайна или какое-то страшное несчастье, и что увядшее наполовину лицо его действительно расщепилось пополам, как дерево, в которое ударила молния. За ним сидел отец Браун, а в конце стола – профессор химии, большой светловолосый добряк с сонными и, возможно, чуточку озорными глазами. В колледже было прекрасно известно, что этот философ от природы считал остальных философов классической школы старыми замшелыми логиками. С другой стороны стола, напротив отца Брауна, расположился очень смуглый молчаливый молодой человек с черной острой бородкой, появившийся здесь благодаря чьему-то решению создать в колледже кафедру иранистики. Прямо перед мрачным Байлзом сидел маленький тихий капеллан с гладкой лысой головой, напоминающей яйцо. Место напротив казначея, по правую руку от мастера, пустовало, и надо сказать, что многие из присутствующих были этому весьма рады.
– Не думаю, что Крейкен придет, – сказал мастер, нервно покосившись на пустой стул, что никак не вязалось с его обычной вальяжно-расслабленной манерой держаться. – Я понимаю, что людям надо давать свободу, но, признаться, я уже достиг той точки, когда чувствую себя спокойнее и увереннее, когда он рядом, только из-за того, что в это время он не находится где-нибудь в другом месте.
– Никогда не знаешь, что у него на уме, – весело заметил казначей. – Особенно, когда он наставляет молодежь.
– Да, яркая личность. Только вот больно горяч, – промолвил мастер, к которому внезапно вернулось самообладание.
– Фейерверк – тоже штука горячая и яркая, – проворчал старик Байлз, – но я бы не хотел сгореть в своей постели ради того, чтобы Крейкен почувствовал себя настоящим Гаем Фоксом[23].
– Вы действительно думаете, что, случись вооруженный переворот, он стал бы в этом участвовать? – усмехнувшись, поинтересовался казначей.
– По крайней мере, он сам так думает, – повысил голос Байлз. – Недавно он перед полной аудиторией выпускников заявил, будто теперь уже ничто не сможет предотвратить превращение классовой войны в настоящую войну со стрельбой и убийствами на улицах и что все это не важно, если приведет к установлению коммунистического строя и победе рабочего класса.
– Классовая война, – задумчиво произнес мастер и чуть поморщил нос, словно вспомнил что-то неприятное: когда-то давно он был знаком с Уильямом Моррисом[24] и достаточно хорошо представлял себе идеи более утонченных и досужих социалистов. – Мне все эти разговоры вокруг классовой войны непонятны. Когда я был молод, говоря «социализм», подразумевали отсутствие классов.
– Как будто социалисты – это не класс, – ехидно заметил Байлз.
– Вы, конечно же, больше настроены против них, чем я, – серьезным голосом ответил на это мастер, – мне кажется, что мой социализм устарел уже почти так же, как ваш торизм. Интересно было бы узнать, что по этому поводу думают наши молодые друзья. Вот вы, Бейкер? – Он неожиданно повернулся к сидевшему слева от него казначею.
– Ну, если говорить по-простому, я вообще не думаю, – рассмеялся казначей. – Не забывайте, я ведь очень простой человек. Я не мыслитель, я всего лишь человек, считающий деньги, делец, если хотите. И как делец я думаю, что все это – вздор. Нельзя уравнять всех людей, и было бы полнейшей глупостью платить всем одинаково. Особенно тем, кто вообще не заслуживает, чтобы им платили. Как бы там ни было, нужно искать практический выход, потому что это единственный возможный выход. Не наша вина, что в природе все распределено неравномерно.
– В этом я с вами согласен, – заговорил молчавший до этого профессор химии. Он немного шепелявил, отчего голос такого крупного мужчины звучал как-то по-детски. – Коммунизм старается казаться чем-то современным, но это не так. То, что они проповедуют, это возвращение к монашеским предрассудкам и законам первобытных племен. Только правительство во главе с учеными, действительно понимающими свою моральную ответственность перед вечностью, способно быть передовым и стремиться к истинному прогрессу вместо того, чтобы втаптывать все, что ни появляется нового, в грязь. Социализм сентиментален, но он опаснее чумы, потому что при чуме хотя бы выживают самые крепкие и здоровые.
Мастер горько улыбнулся.
– Знаете, мы с вами никогда не сойдемся в том, как понимать разницу во мнениях. Разве кто-то здесь, рассказывая о прогулке с другом у озера, не говорил «мы совпадали во всем, кроме взглядов»? Не это ли девиз нашего университета? Иметь сотни убеждений, но оставаться непредубежденным. Если кто-то у нас не преуспел, то из-за того, какой он человек, а не из-за своих взглядов. Возможно, я – всего лишь пережиток восемнадцатого века, и все же мне больше по душе старая сентиментальная ересь. «Бессмысленно хвалить чужой устав; кто счастлив, тот пред Богом прав»[25]. А что вы об этом думаете, отец Браун?
Он посмотрел на священника, и лукавинка в его взгляде сменилась некоторым удивлением. Дело в том, что он привык видеть священника веселым, дружелюбным и готовым поддержать разговор. Круглое улыбчивое лицо его обычно излучало хорошее настроение, но по какой-то причине сейчас на него словно наползла туча. Никто из присутствующих еще не видел, чтобы отец Браун когда-либо был столь мрачен и хмур. На какое-то мгновение даже померещилось, что он стал угрюмее и суровее грозного Байлза. Впрочем, уже через секунду облака развеялись, но, когда отец Браун заговорил, в голосе его все еще слышалась некоторая твердость.
– Я в это не верю, – коротко произнес он. – Как его жизнь может быть правильной, если он неправильно понимает саму жизнь? В наши дни беспорядок и возникает оттого, что люди не понимают, насколько разными могут быть взгляды на жизнь. Баптисты и методисты знали, что в вопросах нравственности они мало чем различались, но такими же незначительными были их различия в религии и философии. Совсем другое дело сравнивать баптизм и анабаптизм или рассматривать не теософистов, а индийскую секту разбойников-душителей. Ересь всегда оказывает влияние на мораль, если содержит в себе достаточно еретического. Я подозреваю, что человек может искренне верить, что в воровстве нет ничего предосудительного. Но есть ли какой-нибудь смысл в заявлении: «Я искренне верю в неискренность»?
– Совершенно верно! – воскликнул Байлз, и на лице его появилась жуткая гримаса, которая, считалось, должна была означать приятную улыбку. – Именно поэтому я и возражаю против того, чтобы в этом колледже вводили кафедру теоретического воровства.
– Понятно, вам, конечно же, не по душе коммунизм, – вздохнув, произнес мастер. – Но, скажите, вы действительно считаете, будто в нем столько отрицательного, чтобы так уж его бояться? Вот неужели среди ваших ересей есть достаточно серьезные, чтобы их можно было опасаться?
– Я боюсь, эти ереси набрали уже такую силу, – вдумчиво сказал отец Браун, – что в определенных кругах они воспринимаются как должное, неосознанно, то есть без участия сознания.
– И закончится это, – подытожил Байлз, – крахом этой страны.
– Это закончится чем-то еще более страшным, – добавил отец Браун.
По обшитой панелями дальней стене быстро скользнула длинная тень, и в следующий миг возникла фигура, которая ее отбросила, – высокая, но сутулая фигура, неясными очертаниями напоминающая хищную птицу. Сходство подчеркивалось еще и тем, что человек этот появился и приблизился совершенно неожиданно – так испуганная птица вылетает из кустов. Это оказался всего лишь высокий человек с длинными руками и ногами и вздернутыми плечами, хорошо знакомый всем собравшимся, однако что-то в полумраке и свечном свете, что-то в метнувшейся нескладной тени странным образом соединило его с пророческими словами священника, словно произнесены они были авгуром, в древнеримском понимании этого слова, и смысл их был явлен полетом этой призрачной птицы. Возможно, мистер Байлз знал достаточно об этой древнеримской практике гадания по полету птиц, чтобы посвятить одну из своих лекций и уделить особое внимание вестнику несчастья, который только что появился в столовой.
Высокий человек тенью собственной тени прошел вдоль стены, опустился на свободный стул по правую руку от мастера и обвел сидевших напротив него казначея и остальных запавшими глазами. Прямые длинные волосы и усы его были довольно светлыми, глаза посажены так глубоко, что было невозможно рассмотреть, какого они цвета. Они вполне могли оказаться и черными. Каждый из присутствующих знал или мог догадаться, кем был вновь прибывший, но вслед за его появлением произошло нечто такое, что значительно прояснило ситуацию. Профессор римской истории, не произнеся ни слова, с каменным лицом поднялся со своего места и гордо вышел из столовой, давая таким бесхитростным образом понять свое отношение к профессору теоретического воровства, иными словами, к коммунисту, мистеру Крейкену.
Мастер Мандевильского колледжа поспешил сгладить неловкость положения.
– А я защищал вас или, вернее, некоторые ваши взгляды, мой дорогой Крейкен, – с улыбкой произнес он, – хотя, не сомневаюсь, что вы меня самого считаете беззащитным существом. Но что поделать, я не могу выбросить из головы своих друзей-социалистов, которых знал в юности, и их идеалов братства и товарищества. Уильям Моррис прекрасно все объяснил одним предложением: «Общность – это рай, разобщенность – ад».
– Другими словами, наши преподаватели – демократы, – не очень-то вежливо ответил мистер Крейкен. – И узколобый мистер Хейк, очевидно, назовет новую кафедру торгашества именем Уильяма Морриса, так надо понимать?
– Я надеюсь, – сказал мастер, все еще отчаянно пытаясь сохранить дружелюбный вид, – что на всех наших кафедрах царит дух добрососедства.
– Ну да, эдакая академическая версия утверждения Морриса, – зло бросил Крейкен. – Общность – это, видите ли, рай, а разобщенность – ад.
– Не горячитесь вы так, Крейкен, – вклинился в опасный разговор казначей. – Выпейте портвейна. Тенби, передайте портвейн мистеру Крейкену.
– Можно и портвейна, – несколько смягчился профессор-коммунист. – Я вообще-то хотел покурить в саду, но выглянул в окно и увидел там ваших драгоценных миллионеров: два свежих невинных одуванчика! Наверное, все-таки стоит потратить время и потолковать с ними.
Из последних сил стараясь казаться любезным, мастер встал из-за стола и с превеликим облегчением покинул столовую, предоставляя казначею возможность совладать с оголтелым профессором. Остальные тоже начали подниматься и расходиться. Наконец за длинным столом остались только казначей и мистер Крейкен. Да еще отец Браун продолжал сидеть, сосредоточенно глядя в одну точку.
– Что касается этих двух, – сказал казначей, – я, честно говоря, уже и сам от них порядком устал. Провозился с ними почти весь день: все им посчитай, все им расскажи. С ума можно сойти с этой новой кафедрой. Только, Крейкен, – тут он подался вперед и заговорил мягко, но назидательно, – не стоит вам так уж кипятиться из-за этой кафедры. Ваш-то курс она никак не затрагивает. Вы ведь единственный в Мандевиле профессор политической экономики. Я не собираюсь делать вид, что разделяю ваши взгляды, но все знают, что ваше имя известно всей Европе. Эту новую науку они называют прикладной экономикой. Ох, даже сегодня я весь день только то и делаю, что этой экономикой прикладной занимаюсь, я уже говорил вам. Другими словами, битый час обсуждал дела с двумя деловыми людьми. Вот скажите, вам бы этого хотелось? Может, вы мне позавидуете? Вы вообще вынесли бы такое? Неужто вы не видите, это совершенно разные сферы, и кафедру наверняка тоже сделают отдельной?
– Господи Боже! – воскликнул Крейкен, с искренностью атеиста устремляя вверх взор. – Вы что, думаете, я против того, чтобы экономика была прикладной? Только когда мы используем ее в практических целях, вы кричите о красной угрозе и анархии, а когда вы ее используете – я вижу в этом эксплуатацию и не боюсь об этом заявлять открыто. Да если бы вы на самом деле знали, как сделать экономику прикладной, народ бы не голодал. Мы – люди практичные, вот поэтому вы и боитесь нас. Поэтому вам и понадобились двое грязных капиталистов, чтобы открыть свою новую кафедру. И причина тут одна: я выпустил кота из мешка.
– Скорее тигра, – улыбнулся казначей.
– А вам не терпится поскорее вернуть его обратно в золотой мешок! – с убеждением воскликнул Крейкен.
– Что ж, вряд ли мы с вами когда-нибудь сойдемся во мнениях, – ответил его собеседник. – Но эти двое уже вышли из капеллы в сад, так что, если собираетесь покурить, идемте к ним.
Он с некоторым удивлением наблюдал, как его компаньон сначала долго хлопал себя по карманам, потом достал трубку, посмотрел на нее, как будто увидел в первый раз, встал и снова принялся ощупывать себя со всех сторон. Веселый смех мистера Бейкера, казначея, восстановил мир.
– Да, вы, конечно, люди практичные и когда-нибудь подымете этот город на воздух. Да только, когда соберетесь его взрывать, забудете прихватить с собой динамит. Готов держать пари, вы забыли табак! Верно? Ну ничего, возьмите мой. Спички? – Он бросил кисет и коробку спичек мистеру Крейкену, и тот поймал их на лету с ловкостью, присущей игроку в крикет, хоть и бывшему, даже тому, чьи взгляды давно перестали укладываться в понятие «честная игра». Теперь уже оба мужчины встали из-за стола, но Бейкер не смог удержаться от последнего замечания: – И вы считаете себя единственными в мире практичными людьми? А что вы скажете о тех, кто занимается прикладной экономикой, но, собираясь покурить, не забывает табак и трубку?
Крейкен бросил на него взгляд, в котором все еще тлел огонь, потом медленно допил вино и произнес:
– Скажем так: существуют разные виды практичности. Да, я могу забыть что-нибудь неважное и мелкое, но я хочу, чтобы вы поняли вот что, – он механически протянул руку, возвращая кисет, но где-то в глубине его глаз при этом вспыхнули недобрые, почти страшные огоньки. – Из-за того что наш разум изменился изнутри, из-за того что мы пришли к новому пониманию добра, мы будем делать то, что вам кажется злом. И поступки наши будут очень практичными.
– Да, – неожиданно заговорил отец Браун, как будто очнувшись от транса. – Это именно то, о чем я и говорил. – Со стеклянной, даже потусторонней улыбкой он посмотрел на Крейкена. – В этом мы с мистером Крейкеном полностью согласны.
– Что ж, – вздохнул Бейкер, – Крейкен собирается выкурить трубку с плутократами. Только сомневаюсь я, что это будет трубка мира. – Он порывисто повернулся и позвал престарелого слугу, державшегося поодаль. В Мандевиле, последнем из колледжей, еще сохранились старые обычаи, да и Крейкен был одним из первых коммунистов (большевизм тогда еще не появился). – Это, кстати, напомнило мне, – продолжил казначей, – раз уж вы не собираетесь передавать по кругу свою трубку мира, нужно послать нашим уважаемым гостям сигары. Если они не противники курения, им давно уже не терпится покурить, ведь они шныряли по капелле с самого обеда.
Неожиданно Крейкен разразился резким неприятным смехом.
– Я отнесу им сигары, – воскликнул он. – Ведь я всего лишь пролетарий!
И Бейкер, и Браун, и слуга видели, как коммунист широкими шагами быстро вышел из столовой в сад, чтобы встретиться лицом к лицу с миллионерами, и после этого о них ничего не было известно до тех пор, пока (о чем уже упоминалось) отец Браун не нашел их мертвыми на стульях в саду.
Было решено, что мастер и священник останутся сторожить место трагедии, пока казначей, как младший из них и наиболее проворный, помчался вызывать полицию и врачей. Отец Браун подошел к столу, на котором лежала сигара, успевшая истлеть почти полностью, так что остался всего один-два дюйма. Вторая сигара выпала из мертвой руки и разлетелась искрами на садовой дорожке, мощенной неровной плиткой. Потрясенный увиденным глава Мандевильского колледжа опустился на стоящий неподалеку стул и, уткнувшись локтями в колени, обхватил лысую голову руками. Через какое-то время он поднял глаза. Взгляд его, поначалу опустошенный, постепенно сделался удивленным, и неожиданно застывший в напряженной тишине сад огласился полным ужаса возгласом мастера, прозвучавшим, как небольшой взрыв.
Отцу Брауну было присуще одно качество, которое кое-кто мог бы назвать чудовищным: он всегда думал, что делает, но никогда не задумывался о том, как это выглядит со стороны. Он мог делать что-нибудь мерзкое, ужасное, недостойное или грязное со спокойствием производящего операцию хирурга. В его простодушном сознании на том месте, где обычно находятся понятия, связанные с предрассудками и сентиментальностью, зияла пустота. Он сел на стул, с которого упал труп, взял недокуренную сигару, аккуратно отделил столбик пепла и внимательно осмотрел окурок, после чего сунул его в рот и закурил. Это могло показаться какой-то глумливой, чудовищной насмешкой над мертвецом, для самого же отца Брауна эти действия, похоже, были наполнены здравым смыслом. Облако дыма медленно поползло вверх, напоминая о жертвенных кострах дикарей и идолопоклонничестве, но священнику, судя по всему, представлялось очевидным, что узнать вкус сигары можно, лишь ее выкурив. Впрочем, это ничуть не уменьшило ужас, охвативший мастера Мандевиля, когда его осенила догадка, что его старый друг, взяв в рот сигару, рискует жизнью.
– Нет, похоже, все нормально, – священник вернул окурок на место. – Превосходные сигары. Ваши сигары совсем не то, что американские или немецкие. Думаю, дело не в самих сигарах, хотя пепел все равно не мешало бы проверить. Этих людей отравили каким-то веществом, которое заставляет тело быстро коченеть… А вот, кстати, идет тот, кто разбирается в этом лучше нас.
Мастер довольно неуклюжим резким движением выпрямился, потому что действительно вслед за большой тенью, упавшей на садовую дорожку, показалась фигура, которая, хоть и была достаточно массивной, передвигалась почти так же бесшумно, как и сама тень. Профессор Уодем, бессменный глава кафедры химии, несмотря на свой немалый рост и вес, всегда передвигался очень тихо, и в том, что он прогуливался по саду, не было ничего необычного. Однако его появление именно в ту минуту, когда была упомянута химия, не могло не показаться пугающе своевременным.
Надо сказать, что профессор Уодем очень гордился своим умением держать чувства при себе, хотя многие принимали это за бесчувственность. На широком жабьем лице профессора не дрогнул ни один мускул, когда его большая голова с прилизанными соломенно-желтыми волосами склонилась над мертвыми телами. Потом он перевел взгляд на пепел сигары, сохраненный священником, прикоснулся к нему одним пальцем и поднес палец к глазам, после чего как будто стал еще более спокоен, чем раньше, только взгляд его вдруг сделался таким внимательным, что показалось, будто глаза его телескопически выдвинулись из орбит, наподобие тех микроскопов, которыми он пользовался у себя в лаборатории. Наверняка он что-то увидел или понял, хотя не сказал ничего.
– Господи, что же тут стряслось? Что теперь делать? – пробормотал мастер.
– Я бы начал с того, – сказал отец Браун, – что выяснил бы, где эти несчастные провели большую часть сегодняшнего дня.
– Они долго слонялись по моей лаборатории, – наконец заговорил Уодем. – Бейкер ко мне часто поднимается поболтать, а на этот раз явился с двумя своими патронами, чтобы осмотреть мою кафедру. По-моему, у нас вообще не осталось места, куда бы не заглянули эти двое. Туристы! Я слышал, они даже в капеллу наведались, и даже в подземный ход под криптой, хоть им там пришлось со свечками ходить. Нет, чтобы спокойно отдохнуть после обеда, как нормальные люди! Думаю, Бейкер их повсюду поводил.
– У вас в лаборатории их ничто особенно не заинтересовало? – спросил священник. – Чем вы конкретно занимались, когда они там были?
Профессор буркнул какую-то химическую формулу, которая начиналась словом «сульфат», а заканчивалась чем-то похожим на «селен» (ни одному из его слушателей это название ничего не сказало), после чего устало отошел в сторону, сел на залитую солнцем скамеечку, закрыл глаза и поднял тяжелое бесстрастное лицо вверх, точно приготовился ждать.
В ту же секунду лужайку пересекла маленькая подвижная фигура, которая перемещалась стремительно и целенаправленно, как пуля. Отец Браун узнал аккуратный черный костюм и лисье лицо полицейского хирурга, с которым раньше уже встречался в бедных кварталах города. Это был первый представитель официальных властей, прибывший на место трагедии.
– Послушайте, – сказал мастер священнику, прежде чем доктор приблизился настолько, что смог бы услышать его слова. – Мне нужно кое-что знать. Вы говорили серьезно о том, что считаете коммунизм опасным, и думаете, что он приведет к преступлениям?
– Да, – ответил отец Браун, невесело усмехнувшись. – Я действительно вижу, как распространяется коммунизм и его влияние. И можно сказать, что это преступление в некотором смысле имеет коммунистическую подоплеку.
– Спасибо, – сказал мастер. – В таком случае у меня есть одно немедленное дело. Полиции скажите, что я вернусь через десять минут.
Мастер растворился в одной из тюдоровских арок почти в ту же секунду, как только полицейский доктор подошел к столику и обрадовался, узнав отца Брауна. Когда последний предложил ему присесть рядом, доктор Блейк бросил быстрый подозрительный взгляд на огромную фигуру химика, который с отрешенным видом неподвижно сидел на скамейке чуть поодаль. Узнав, кем он является, доктор стал молча осматривать тела, прислушиваясь к тому, что на данный момент было известно из рассказа профессора. Естественно, что больше внимания он уделял самим трупам, чем показаниям, да еще с чужих слов, но вдруг одна подробность отвлекла его от занятий анатомией.
– Над чем профессор работал? – переспросил он, резко повернувшись к священнику.
Отец Браун старательно повторил химическую формулу, которую сам не понимал.
– Что?! – неожиданно громко вскричал доктор Блейк и добавил: – Так-так. Это уже не хорошо!
– Это яд? – поинтересовался отец Браун.
– Это чушь, – ответил доктор Блейк. – Бессмыслица. Профессор – известный химик. Зачем известному химику говорить заведомую ерунду?
– На это я, пожалуй, могу ответить, – спокойно произнес клирик. – Он говорит заведомую ерунду, потому что лжет. Он что-то скрывает, и особенно он хотел что-то скрыть от этих людей, – он кивнул на два трупа, – или от их представителей.
Доктор посмотрел на мертвецов, потом перевел взгляд на сидевшего неестественно неподвижно великого химика. Создавалось впечатление, что он спит. Ему на плечо села бабочка, и его покой тут же уподобился величавой неподвижности каменных идолов. Тяжелые обвислые щеки его жабьего лица напомнили доктору свисающие складки кожи носорога.
– Да, – очень тихо произнес отец Браун. – Это очень нехороший человек.
– Черт возьми! – вскричал пораженный до глубины души доктор. – Вы что, хотите сказать, что такой великий и знаменитый ученый, как он, замешан в убийстве?
– Строгий критик указал бы на его причастность к убийству, – голосом, не выражающим никаких чувств, произнес священник. – Я не скажу, что самому мне нравятся люди, которые подобным образом причастны к убийствам. Но, что намного важнее, я не сомневаюсь, что эти двое несчастных пребывали в числе его строгих критиков.
– Вы хотите сказать, что они раскрыли его тайну, и он таким образом заткнул им рот? – спросил Блейк, нахмурившись. – Дьявол, да что же это за тайна такая могла у него быть? Как вообще можно было убить кого-то на таком открытом месте?
– Я уже рассказал вам о его тайне, – сказал священник. – Это тайна души. Он плохой человек. Только, ради Бога, не подумайте, что я это говорю, поскольку мы с ним представляем противоположные школы или традиции. У меня есть тысяча друзей среди ученых, и большинству из них на самом деле начхать, на чьей стороне правда, они попросту равнодушны к этому вопросу. Даже наибольшим скептикам из них на самом деле попросту все равно. Но встречаются и такие люди, которых можно назвать материалистами в зверином смысле. Повторяю, он – плохой человек. Намного хуже, чем… – отец Браун замолчал, как будто подбирая слово.
– Вы хотите сказать: намного хуже, чем коммунист? – предположил второй мужчина.
– Нет, я хочу сказать, намного хуже, чем убийца, – ответил отец Браун.
Он встал, рассеянно глядя перед собой и, видимо, не замечая, с каким удивлением смотрит на него собеседник.
– Но разве вы не хотели этим сказать, – наконец спросил Блейк, – что этот Уодем – убийца?
– Нет, что вы. – Отец Браун улыбнулся. – Убийца – личность куда более приятная и понять его намного проще. А им двигало отчаяние. У него были причины для внезапного гнева и безрассудного поступка.
– Так что же, – воскликнул доктор, – выходит, это все же был коммунист?
И надо такому случиться, что именно в эту секунду и, надо сказать, весьма кстати, к ним подошли несколько полицейских с известием, которое могло бы самым решительным и однозначным образом поставить точку в этом деле. То, что сыщики несколько задержались на пути к месту преступления, объяснялось тем простым фактом, что они уже задержали преступника. Более того, они задержали его почти у самых дверей полицейского участка. В полиции уже подозревали коммуниста Крейкена в причастности к некоторым беспорядкам, произошедшим в городе, поэтому, узнав, что произошло, посчитали за лучшее арестовать его и, как оказалось, поступили совершенно правильно. Инспектор Кук с явным удовольствием сообщил собравшимся на лужайке Мандевильского сада преподавателям и докторам, что сразу после ареста печально известный коммунист был подвергнут обыску, и обнаружилось, что у него при себе был коробок отравленных спичек.
Как только отец Браун услышал слово «спички», он подскочил так, будто под ним самим зажгли спичку.
– Вот оно что! – воскликнул он, просияв. – Теперь все понятно!
– Что значит, теперь все понятно? – сухо спросил глава Мандевиля, который вернулся в строгом официальном виде, чтобы соответствовать требованиям официальных представителей властей, наводнивших колледж, точно маленькая победоносная армия. – Вы хотите сказать, что это убедило вас в виновности Крейкена?
– Это убедило меня в невиновности Крейкена, – без тени сомнения произнес отец Браун. – И дело против него можно закрывать. Неужели вы действительно считаете Крейкена человеком, который станет отравлять людей при помощи спичек?
– Все это очень хорошо, – ответил мастер с тем взволнованным видом, который не покидал его с той минуты, когда он увидел то, что произошло. – Но вы же сами указывали, что фанатики с ложными принципами способны творить зло. Кстати, именно вы сказали, что коммунизм расползается повсюду, и влияние его усиливается повсеместно.
Отец Браун смущенно хихикнул.
– Что касается последнего, – сказал он, – наверное, я должен перед всеми вами извиниться. Вечно от моих глупых шуточек одни неприятности…
– Шуточек! – закипая, воскликнул мастер.
– Ну, как вам сказать, – принялся объяснять священник, почесывая лоб, – когда я говорил о том, что влияние коммунизма усиливается, я говорил о том, что вижу вокруг себя каждый день. Даже сегодня я столкнулся с этим пару раз. Это привычка, которая, вне всякого сомнения, полностью совпадает с идеями коммунизма, хотя присуща не только самим коммунистам, но и многим другим людям. Особенно здесь, в Англии. Я говорю о привычке оставлять себе чужие спички. Конечно, это совершеннейшая мелочь, о которой не стоит и говорить, но в данном случае это имеет самое непосредственное отношение к тому, как было совершено преступление.
– Ничего не понимаю, – признался доктор.
– Если почти каждый человек может позабыть вернуть спички, могу вас заверить, что и Крейкен мог по рассеянности сунуть себе в карман чужой коробок. Именно таким образом отравитель, изготовивший эти спички, избавился от них, передав их Крейкену. Все, что для этого требовалось, – дать их ему и не забрать обратно. Поистине, превосходный способ снять с себя ответственность, ведь сам Крейкен вряд ли смог бы вспомнить, от кого он их получил. Но, когда Крейкен, ни о чем не подозревая, использовал их, чтобы зажечь сигары, предложенные двум нашим гостям, он попал в ловушку. Конечно, все очевидно: убежденный революционер убивает двух миллионеров.
– А кому же еще нужно было их убивать? – проворчал доктор.
– И действительно, кому? – повторил священник, и голос его вдруг сделался очень серьезным. – И этот вопрос подводит нас к тому, о чем я тоже говорил, и это, позвольте заметить, была отнюдь не шутка. Я говорил о том, что разного рода ереси и ложные учения стали обычным делом и превратились в нечто повседневное. Люди привыкли к ним настолько, что никто их уже не замечает. Думаете, говоря об этом, я имел в виду коммунизм? Как раз наоборот. Все вы вздрагиваете от одного лишь упоминания о «коммунизме», и Крейкен вам представляется чуть ли не хищным зверем, поэтому вы и не спускали с него глаз. Конечно же, коммунизм – это ересь, но эта не та ересь, к которой вы, люди, испытываете неприятие. Вы принимаете на веру капитализм, или, вернее, пороки капитализма, скрывающиеся под маской отжившего свое дарвинизма. Помните, что вы все говорили в профессорской о том, что жизнь – это хаос, что природа требует выживания самых приспособленных и что поэтому нет никакой разницы, справедливо оплачивается труд бедняков или нет? Это та ересь, к которой вы, друзья мои, привыкли, с которой свыклись, и тем не менее это такая же ересь, что и коммунизм. Вы с легким сердцем принимаете антихристианские законы нравственности или безнравственности. И именно такой вид безнравственности сегодня превратил человека в убийцу.
– Какого человека? – вскричал мастер, и голос его неожиданно дрогнул.
– Позвольте, я зайду с другой стороны, – спокойно продолжил священник. – Вы все говорите о Крейкене, что он хотел сбежать. Но это не так. Увидев, что случилось с этими двумя, он просто выбежал на улицу, стал кричать в окно доктору, после чего, собираясь вызвать полицию, помчался в участок, где и был арестован. Но вам не кажется странным, что до сих пор не вернулся мистер Бейкер, казначей, который тоже отправился вызывать полицию?
– И где он? Чем занимается? – насторожился мастер.
– Думаю, уничтожает бумаги. Или обыскивает комнаты этих людей, чтобы убедиться, что они не оставили нам какого-либо письма. А может быть, все это как-то связано с нашим другом Уодемом. Что мы о нем знаем? Ну, тут все очень просто. Это, можно сказать, своего рода шутка. Мистер Уодем экспериментирует с ядами, которые можно было бы использовать в военных целях. Давайте представим, что он изобрел вещество, которое даже в микроскопическом количестве при контакте с огнем в состоянии убить человека. Конечно же, сам он не убивал этих людей, но свое химическое открытие он утаил и по очень простой причине. Один из наших гостей был янки пуританином, второй – евреем космополитом. Как правило, такие люди являются ярыми приверженцами пацифизма. Узнай они о его работе, они обвинили бы его в подготовке массового убийства и, возможно, отказали бы колледжу в помощи. Бейкер же был другом Уодема, и для него было не сложно получить доступ к этому веществу и обработать им спички.
Еще одной особенностью маленького священника было то, что разум его имел необычайно целостный характер, и он не замечал того, что его слушателям казалось непоследовательностью. Он мог начать говорить в общем и незаметно для себя перейти на частности. Сейчас же он озадачил большинство своих слушателей тем, что начал обращаться к одному человеку, хотя только что обращался к десяти, и его, похоже, совершенно не беспокоил тот факт, что только один из тех, кто внимал его словам, понимал, о чем он говорит.
– Прошу прощения, доктор, если я запутал вас своей метафизической болтовней о грешниках, – извиняющимся тоном сказал он. – Конечно же, это не связано напрямую с убийством. Просто на какую-то минуту я забылся, и убийство вылетело у меня из головы. Вообще, все у меня вылетело из головы, кроме одного образа – я представил себе этого человека с его широким звериным лицом, как он сидит среди цветов, точно слепой идол каменного века. Я задумался о том, что среди людей встречаются по-настоящему отвратительные люди с каменными сердцами. Впрочем, все это не имеет отношения к делу. Испорченная душа имеет мало общего с нарушением законов. Самые страшные преступники не совершают преступлений. Вопрос в том, почему истинный преступник совершил данное преступление. Почему казначей Бейкер захотел убить этих людей? Для нас сейчас это самое важное. И ответ будет ответом на вопрос, который я повторил уже дважды. Где находились эти двое, когда не рыскали по капеллам и лабораториям? По словам казначея выходит, что они обсуждали дела с самим казначеем.
При всем уважении к мертвым я не чувствую пиетета к умственным способностям этих двух финансистов. Их взгляды на экономику и нравственность были варварскими и бессердечными. То, как они представляли себе жизнь без войны, я бы назвал полной чушью, а их суждения насчет портвейна были совсем уж прискорбными. И все же кое в чем они разбирались прекрасно. Финансы. Они почти сразу поняли, что человек, которому вверены денежные дела колледжа, был мошенником. Или лучше сказать, истинным последователем теории о бесконечной борьбе за жизнь и выживании самого приспособленного.
– Что-то мне не понятно. Вы хотите сказать, он убил их, опасаясь разоблачения? – спросил доктор, нахмурившись.
– Мне и самому еще не все понятно, – честно признался священник. – Например, я подозреваю, возня со свечками в подземелье нужна была для того, чтобы выманить у миллионеров их собственные спички или удостовериться, что их у них нет. Но я полностью уверен в одном: я прекрасно помню, каким легким и небрежным движением Бейкер бросил коробок спичек беспечному Крейкену. И движение это стало смертельным ударом.
– А я одного не понимаю, – заговорил инспектор. – Почему Бейкер не побоялся, что Крейкен сам закурит, прямо там же, за столом, воспользовавшись его спичками? Ведь тогда появился бы ненужный ему труп?
Отец Браун помрачнел, во взгляде появилась укоризна, но в печальном голосе его была и искренняя теплота.
– Не берите в голову, он ведь был всего лишь атеистом.
– Не могли бы вы пояснить? – вежливо произнес инспектор.
– Просто-напросто он хотел упразднить Бога, – сдержанным тоном произнес отец Браун. – Он всего лишь хотел уничтожить десять заповедей, искоренить всю ту религию и всю ту цивилизацию, которая создала его как человека, лишить здравого смысла такие понятия, как право собственности и честность, и позволить ордам дикарей уничтожить свою культуру, сровнять с землей свою страну. Вот и все, что ему было нужно. Ни в чем другом обвинить его мы не имеем права. Ох, пропади все пропадом! У всего есть границы. Вот вы являетесь сюда и спокойно заявляете, что считаете профессора Мандевильского колледжа, человека старшего поколения (а Крейкен, какими бы ни были его взгляды, все-таки принадлежит старшему поколению) убийцей, предполагая, что это он закурил или даже просто зажег спичку, когда еще не допил свой выдержанный портвейн восьмого года. Нет, нет! Люди еще не настолько испорчены! Есть еще какие-то законы, границы. Я был там, я видел его. Он еще пил вино, как же можно спрашивать, почему он не закурил?! Да такого анархического вопроса еще не слышали стены Мандевильского колледжа. Ох, странное место этот колледж. Странное место – Оксфорд. Странное место – Англия.
– А вы сами имеете отношение к Оксфорду? – полюбопытствовал доктор.
– Я имею отношение к Англии, – сказал отец Браун. – Это моя родина. И самое странное то, что, даже если ты любишь эту страну и считаешь себя ее частью, все равно тебе ее не понять.
«Зеленый человечек»
Молодой гольфист, с открытым оживленным лицом, в бриджах тренировался среди тянущихся вдоль посеревших от сумерек моря и песчаного пляжа дюн. И он не просто так гонял мячик, он оттачивал определенные удары, и та микроскопическая толика злости, с которой он с размаха бил клюшкой, делала его похожим на маленький аккуратный вихрь. Молодой человек быстро обучался новым видам спорта, но имел непреходящее желание делать это еще быстрее, тратить на это даже меньше времени, чем необходимо для того, чтобы овладеть всеми таинствами той или иной игры. Он имел все признаки жертвы тех соблазнительных предложений, которые призывают, к примеру, выучиться игре на скрипке за шесть уроков или приобрести идеальное французское произношение, окончив заочные курсы. Вся его беспокойная жизнь была насыщена подобными прожектами и приключениями. Сейчас он занимал должность личного секретаря адмирала сэра Майкла Крейвена, хозяина большого дома за парком, выходящим к дюнам. Юноша был честолюбив и вовсе не собирался всю жизнь оставаться в секретарях у кого бы то ни было. Но он был и достаточно благоразумен, чтобы понимать: самый надежный способ выбиться из секретарей – это быть хорошим секретарем. Памятуя об этом, он стал очень хорошим секретарем и научился управляться с постоянно увеличивающимися кипами адресованных адмиралу писем с той же быстрой, центростремительной энергией, с которой бил клюшкой по мячику. Сейчас ему приходилось воевать с корреспонденцией в одиночку и на свое усмотрение, поскольку последние полгода адмирал находился в плавании и, хоть его возвращение было не за горами, в ближайшие часы, а то и дни его не ждали.
Пружинистым спортивным шагом молодой человек, которого звали Хэрольд Харкер, поднялся на покрытый дерном холм, ограничивающий полосу дюн, и, посмотрев через песчаный берег на море, увидел нечто необычное. Видно было плохо, потому что сумерки под грозовыми тучами сгущались с каждой минутой, но то, что он увидел, на какой-то миг показалось ему чем-то вроде образа из далекого прошлого, драмой, разыгранной призраками давно минувших эпох.
Последние лучи заходящего солнца лежали длинными слитками меди и золота на темной глади моря, казавшегося скорее черным, чем синим. И на фоне этого озаряющего запад блеска четкими черными силуэтами, точно плоские персонажи театра теней, прошествовали две человеческие фигуры в треуголках и с саблями, как будто они только что сошли на берег с одного из деревянных кораблей Нельсона[26]. И это была вовсе не галлюцинация, которая могла бы показаться мистеру Харкеру естественной, если бы он был склонен к галлюцинациям. Он относился к тем людям, которые, имея жизнерадостный, заводной характер, отличаются научным складом ума, и в видениях ему скорее бы явились летающие корабли будущего, чем боевые корабли прошлого. Поэтому он пришел к очень благоразумному заключению: доверять своим глазам может даже мечтатель.
Его иллюзия продлилась не больше мгновения. Присмотревшись, он понял, что то, что он видит, необычно, но никак не невероятно. Двое мужчин, шагавших по песку один за другим на расстоянии пятнадцати футов, были обычными современными морскими офицерами, только при полном параде: в той пышной до нелепости форме, которую никто не надевает, если только того не требует какое-либо особо торжественное событие, как, скажем, визит представителя монаршей семьи. В шагающем впереди мужчине, который шел с таким видом, будто не знал, что за ним следует кто-то еще, по орлиному носу и острой бородке Харкер сразу узнал своего патрона – адмирала. Второй офицер был ему не известен. Но ему было кое-что известно об обстоятельствах, обусловивших торжественность их облачения. Он знал, что, когда корабль адмирала должен был встать на якорь в расположенном неподалеку порте, ожидалось, что его с официальным визитом посетит одно очень высокопоставленное лицо. Правда, он достаточно хорошо знал и офицеров (по крайней мере, адмирала), и что могло заставить адмирала сойти на берег при полном параде, когда у него ушло бы не более пяти минут на то, чтобы переодеться в штатское или, по крайней мере, в повседневную форму, оставалось для его секретаря загадкой. Это было совершенно не в его духе, и еще несколько недель это оставалось одной из главных загадок во всей этой таинственной истории. Как бы то ни было, в очертаниях причудливых фигур на фоне пустынного пейзажа, разделенного на полосы темным морем и песком, наблюдавший за ними молодой человек увидел что-то от комической оперы, ему тут же вспомнился «Пинафор» Гилберта и Салливана[27].
Вторая фигура была намного необычнее: во-первых, офицер и выглядел несколько странно, даже помимо его парадной лейтенантской формы и всех регалий, еще более странным было его поведение. Он шел чуднй неровной походкой, то ускоряя, то замедляя шаг, как будто никак не мог решить, стоит ему догнать адмирала или нет. Адмирал был туговат на ухо и поэтому наверняка не слышал шагов на мягком песке у себя за спиной. Если бы какой-нибудь сыщик вздумал изучить следы, оставленные идущим в арьергарде офицером, он наверняка увидел бы в них двадцать различных видов поступи, от хромоты до танца. У человека в форме лейтенанта было смуглое лицо, накрытое к тому же тенью, но от этого глаза его блестели, словно подчеркивая возбуждение. Один раз он даже пустился бежать, но вдруг резко остановился и продолжил путь медленной развалистой походкой. А после лейтенант сделал такое, что, по представлению мистера Харкера, не мог сделать ни один нормальный офицер Его Британского Величества военно-морского флота даже в стенах дома для умалишенных. Он вытащил из ножен саблю.
И именно в этот миг, когда загадка достигла своей высшей точки, две шагающие фигуры скрылись за мысом. Секретарь успел лишь заметить, как смуглый незнакомец, когда к нему вернулось спокойствие, срубил сверкающим клинком цветок синеголовника. К этому времени он, кажется, уже оставил мысль догнать адмирала, и все же мистер Хэрольд Харкер нахмурился. Какое-то время он постоял, о чем-то напряженно думая, после чего направился в сторону дороги, которая шла рядом с калиткой, ведущей к большому дому, и уходила широкой дугой к морю.
На этой дороге и должен был появиться адмирал, если судить по тому, в каком направлении он двигался, и предположить, что он направлялся домой. Тропинка, идущая по песку между дюн, уходила в сторону от моря, едва обогнув высокий безжизненный мыс, где и превращалась в дорогу, ведущую к Крейвен-хаусу. Именно по этой дороге и поспешил секретарь навстречу своему возвращающемуся домой патрону. Но, очевидно, патрон не собирался возвращаться домой. Впрочем, самому секретарю тоже не суждено было вернуться домой, по крайней мере, еще несколько часов, что в Крейвен-хаусе вызвало тревогу и недоумение.
За колоннами и пальмами этого не в меру роскошного загородного дома ожидание постепенно перерастало в беспокойство. Грайс, дворецкий, большой статный мужчина с желтушным лицом, до странного молчаливый как на верхнем хозяйском этаже, так и внизу со слугами, выказывал некоторые признаки беспокойства, прохаживаясь по главному переднему залу и время от времени выглядывая из окон портика на дорогу, белой змейкой уходившую к морю. Сестра адмирала Мэрион заведовала в доме хозяйством. Точно такой же, как у брата, орлиный нос придавал ее лицу некоторую надменность. Она была говорливой, довольно несобранной, не лишенной чувства юмора женщиной, и голос ее в волнении становился резким и пронзительным, как у попугая. Оливия, дочь адмирала, была темноволоса, задумчива и, как правило, немногословна, даже печальна, так что разговор обычно вела ее тетя, а не она (о чем та, надо сказать, ничуть не жалела). Была у девушки и одна особенность: она могла неожиданно рассмеяться, и смех ее был очаровательный.
– Не понимаю, что могло их так задержать? – удивлялась старшая из женщин. – Почтальон совершенно ясно сказал, что видел, как адмирал шел по пляжу с этим жутким Руком. И почему они называют его «лейтенант Рук»? Ума не приложу.
– Может быть, потому, – предположила девушка, и на миг ее грустное лицо озарилось, – может быть, они называют его лейтенантом, потому что он и есть лейтенант?
– И зачем только адмирал держит его? – фыркнула ее тетя с таким видом, будто говорила о горничной. Она чрезвычайно гордилась своим братом и всегда называла его адмиралом, но ее представление об офицерских обязанностях в военно-морском флоте несколько не соответствовало действительности.
– Роджер Рук – человек, конечно, не очень приятный и малообщительный, – ответила Оливия, – но ведь это не мешает ему быть хорошим моряком.
– Моряком! – вскричала тетушка, и в голосе ее прорезались попугаичьи нотки. – Ну нет, я себе моряков совсем другими представляю… Помнишь песню «Та, что любила моряка»?[28] О, так пели, когда я был молода… Сама подумай, какой из него моряк: он не веселый, не свободный, что там еще… Он не поет, не танцует матросских танцев под дудку.
– Адмирал тоже не часто танцует матросские танцы, – веско заметила ее племянница.
– Ой, ну ты же понимаешь, о чем я… Он не яркий какой-то, скучный, да и вообще, – отозвалась Мэрион. – Да вот секретарь наш и тот веселее будет.
Приступ смеха преобразил трагическое лицо Оливии, сделав его на несколько лет моложе.
– Не сомневаюсь, мистер Харкер уж точно спляшет вам под дудку, – сказала она. – Наверняка он уже изучил парочку матросских танцев по своим самоучителям. Он ведь с ними ни днем ни ночью не расстается. – Неожиданно она прекратила смеяться, посмотрела на напряженное тетушкино лицо и добавила: – И мистера Хорнпайпа почему-то до сих пор нет.
– Мне нет дела до мистера Хорнпайпа, – строго произнесла тетя, встала и подошла к окну.
Лунный свет, ставший из желтого серым, а потом почти белым, разливался по широкому плоскому прибрежному пейзажу, единообразие которого нарушалось только рощицей искореженных морским ветром деревьев, которые окружали пруд и на фоне горизонта казались совершенно черными и мрачными, да старенькой рыбацкой таверной «Зеленый человечек» на берегу. И ни на дороге, ни на всем берегу не было ни души. Никто в доме не видел фигуры в треуголке, которая была замечена на пляже раньше, никто не видел и второй, следовавшей за ней более странной фигуры. Никто не видел даже секретаря, который заметил первых двух.
Было уже за полночь, когда секретарь ворвался в дом и поднял на ноги всех обитателей. Его бескровное лицо казалось совсем белым оттого, что за его спиной маячил рослый полицейский в черной форме. Однако каким-то образом красная тяжелая невозмутимая физиономия человека в форме походила на маску рока даже сильнее, чем бледный и взволнованный лик секретаря. Новость, с которой они явились, была преподнесена двум женщинам со всей возможной взвешенностью выражений и осторожностью. Известие заключалось в том, что мертвое тело адмирала Крейвена нашли в пруду, где оно плавало у берега под деревьями, окутанное водорослями и тиной. Предполагалось, что он утонул.
Любой, кто знаком с секретарем, мистером Хэрольдом Харкером, поймет, что каким бы ни было охватившее его волнение, этим утром его обуревало страстное желание взять ситуацию в свои руки. Инспектора, которого он накануне повстречал на дороге недалеко от «Зеленого человечка», секретарь затаил в одну из комнат, чтобы посоветоваться без посторонних. Там он учинил ему истинный допрос, но это ничуть не смутило бесстрастного инспектора Бернса – он был либо слишком глуп, либо слишком умен, чтобы обижаться на подобные мелочи. Вскоре стало ясно, что он был далеко не так глуп, как казалось, поскольку на шквал вопросов Харкера отвечал хоть и медленно, но четко и рассудительно.
– Что ж, – наконец сказал Харкер, в голове которого вертелись многочисленные названия пособий наподобие «Как стать сыщиком за десять дней», – надо полагать, мы имеем дело с обычным треугольником: несчастный случай, самоубийство или убийство.
– Мне не кажется, что это могло произойти случайно, – ответил полицейский. – Тогда ведь еще даже не стемнело, да и пруд-то находится в пятидесяти ярдах от прямой дороги, которую к тому же он знал как свои пять пальцев. Для него утонуть в том пруду было все равно, что пойти и аккуратно лечь в лужу посреди улицы. А что касается самоубийства, я бы не стал заявлять, что он свел счеты с жизнью, это тоже маловероятно. Адмирал был весьма деятельным и успешным человеком, к тому же баснословно богатым, чуть ли не миллионером, насколько я знаю. Хотя, понятно, это ничего не доказывает. В личной жизни у него тоже как будто все складывалось. Уж кто-кто, а он не стал бы топиться.
– Значит, – от волнения перешел на шепот секретарь, – остается третий вариант.
– Я бы не стал торопиться с таким выводом, – возразил инспектор к явному неудовольствию Харкера, который торопился всегда и во всем. – Есть еще пара вопросов, с которыми не мешало бы разобраться. Вот, к примеру, его состояние. Вам известно, к кому оно перейдет. Вы его личный секретарь, вам что-либо известно о его завещании?
– Не настолько личный, – ответил молодой человек. – У него был свой адвокат из конторы господ Уиллиса, Хардмана и Дайка на Сатфорд-хай-стрит. Думаю, завещание находится у них.
– Надо бы наведаться к ним поскорее, – сказал инспектор.
– Едем сейчас же! – вскричал нетерпеливый секретарь, но не бросился на улицу, а нервно походил по комнате и неожиданно поинтересовался: – А как вы поступили с телом, инспектор?
– Сейчас его в участке осматривает доктор Стрейкер. Отчет, думаю, будет готов где-то через час.
– Что же так долго-то? – воскликнул Харкер. – Мы выиграем время, если встретимся с ним у адвокатов. – Тут он остановился, и порывистость его вдруг сменилась смущением. – Послушайте, – сказал он. – Я бы хотел… Думаю, нужно бы позаботиться о юной леди, дочери бедного адмирала. У нее появилась одна идея… Может быть, это и ерунда, но мне бы не хотелось ее расстраивать. Она хочет посоветоваться с каким-то другом, который сейчас остановился в городе. Какой-то Браун, священник, кажется… Она дала мне его адрес. Я не очень-то доверяю попам, но…
Инспектор кивнул.
– Я тоже не очень-то доверяю попам, но отцу Брауну я доверяю полностью, – сказал он. – Однажды мне пришлось с ним заниматься одним делом о пропаже шкатулки с драгоценностями. Ему в сыщики, а не в священники нужно было идти.
– Хорошо, – на ходу бросил секретарь, выходя из комнаты. – Его тоже пригласим к адвокатам.
Как оказалось, когда они в спешном порядке прибыли в соседний городок, чтобы встретиться с доктором Стрейкером в адвокатской конторе, отец Браун был уже там. Он сидел, сложив руки на большом старом зонтике, и приятно беседовал с единственным присутствующим представителем фирмы. Доктор Стрейкер уже тоже прибыл, но, как видно, только что, поскольку, когда они его увидели, он бросил перчатки в цилиндр, а цилиндр поставил на столик у стены. Мягкая улыбка на круглом, как луна, приветливом лице священника, его весело поблескивающие очки, вместе с тихим смехом жизнерадостного седого адвоката указывали на то, что доктор еще не сообщил им о том, какое печальное дело собрало их здесь.
– Нет, все же прекрасное утро выдалось, – говорил отец Браун. – Похоже, буря все-таки прошла мимо нас. Вы эти тучи видели? Огромные, черные, а с неба – ни капли.
– Да, – поигрывая ручкой, согласился адвокат. Это был третий из партнеров, мистер Дайк. – И сейчас, смотрите, небо чистое, ни облачка. В такой день и работать-то грешно. – Тут, заметив посетителей, он отложил ручку и встал. – А, мистер Харкер! Здравствуйте, здравствуйте. Как поживаете? Я слышал, скоро адмирал возвращается.
Когда заговорил Харкер, его голос глухо разнесся по комнате.
– К сожалению, мы принесли с собой плохие новости. Адмирал Крейвен утонул по пути домой.
Что-то неуловимое изменилось в настроении, царившем в комнате, хотя оба находившихся здесь, застыв, по-прежнему смотрели на секретаря так, будто ожидали от него какой-то шутки. Оба они повторили слово «утонул», переглянулись и изумленно уставились на вестника. Потом одновременно заговорили:






