Светорада Медовая Вилар Симона
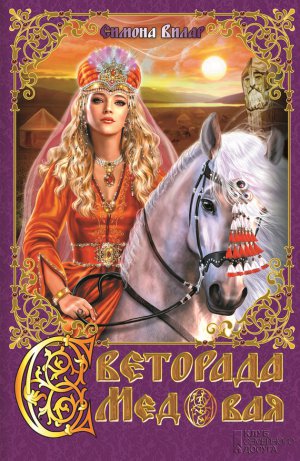
Княжна вошла, но никто не последовал за ней. Дверь закрылась. Светорада огляделась. Огни освещали только проход по высокой лестнице из полированного дерева. Светорада поднялась по ней, отвела легкую занавесь на дверном проеме. Впереди был сводчатый коридор, тоже освещенный высокими светильниками, которые указывали ей путь. Она медленно двинулась, чувствуя в душе тревожную пустоту. В конце коридора она толкнула дубовую дверь и очутилась в спальне. Здесь освещение исходило только от очага в нише стены, отчего комната казалась трепещущей. Светорада шагнула вперед, и ее ноздри уловили запах свежих роз. Оказалось, весь пол был усыпан лепестками этих цветов, распространявших удивительный аромат. В полумраке поблескивали позолоченные карнизы под потолком, у стен стояли отполированные до блеска столики из пахучего камфорного дерева, на них мерцали кувшины с чеканкой и вазы с фруктами, повсюду были живописно разбросаны цветные подушки. Но внимание княжны привлекло, прежде всего, ложе. Низенькое и очень широкое, оно словно таилось за легким, как дымка, пологом, красивыми фалдами спускавшимся с потолка. Его окружала резная деревянная балюстрада с широкими подставками по углам, на которых стояли вазы с цветами.
Светорада, немного помедлив, шагнула к ложу и опустилась на покрывавшие его светлые меха. Посидев немного, она закинула ногу на ногу и подперла подбородок кулачком. Что ж, все это очень мило, но она еще поглядит, что будет дальше.
Однако время шло, а ее никто не тревожил. От огня в очаге было жарко, и, поразмыслив немного, княжна скинула роскошный халат, оставшись в легкой рубашке из желтого шелка. Через некоторое время она стала зевать, сняла с готовы свой роскошный головной убор, сбросила сапожки и, скрестив ноги, села среди подушек. У нее даже мелькнула мысль: не позвать ли кого? Только, разумеется, не Овадию, иначе он поймет, как она устала ждать и как ей не терпится встретиться с ним.
Когда же она прилегла и стала подремывать, ее внимание привлек неясный звук из-за двери, точно звенел, приближаясь, колокольчик. Светорада резко села, напряглась. А потом изумленно ахнула, увидев, как в покои вбежала маленькая обезьянка, звеня бубенчиками, прикрепленными к ее ошейнику. Зверушка, торопливо перебирая задними лапками и держа в передних что-то блестящее, засеменила к княжне, уставилась на нее, протягивая подношение. Когда оторопевшая княжна взяла у нее шкатулку, довольная обезьянка побежала дальше, заскочила на один из столиков и, схватив из вазы большое яблоко, стала с удовольствием грызть его, чавкая и поблескивая черными бусинками глаз.
Светорада невольно улыбнулась, перевела взгляд на шкатулку и, открыв ее, снова ахнула: на атласной подкладке покоились сверкающие подвески из изумрудов. Смоленской княжне еще ни разу в жизни не приходилось видеть подобное великолепие.
Подумав немного, она все же позвала:
– Эй, Овадия! Мне понравился подарок.
Но вместо шада в дверь влетел большой сине-желтый попугай. Описав круг, он уселся на балюстраду и сказал по-славянски:
– Перун в помощь! Перун в помощь!
Теперь Светорада рассмеялась. Все выходило так забавно и весело, что ее напряжение прошло само собой. Она уже ждала новых чудес, и они не замедлили произойти. Дверь вновь отворилась, и в покой ввалился медвежонок. Кувыркаясь, он урчал, пока не докатился до самого ложа, где сидела княжна. Но самым необычным было то, что следом за ним, также переворачиваясь через голову, вкатился… сам шад Овадия. И так же кувыркаясь, докатился до колен заходившейся от смеха княжны. Первые несколько минут они просто смеялись, глядя друг на друга, и этот смех растопил го отчуждение, что возвела вокруг себя, словно стену, Светорада. Она даже незлобиво толкнула шада в плечо, когда гот ткнулся бритой головой ей в колени.
– Ах, светлейший шад, если бы тебя сейчас видели те, кто гак преклонялся перед тобой при дворе моего отца.
– Ну, уж нет, – заявил он. – Таким я могу быть только подле тебя, моя Светлая Радость.
Овадия налил себе и княжне по чаше сладкого вина, и, пока она пила, он прохаживался по комнате, рассказывая ей, что послал, как и обещал, людей с известием на Русь, но ситуация сейчас такова, что он не осмелился раскрыть место пребывания княжны. Объяснять причину Овадия не стал, но она и так все поняла. Только заметила, что теперь ее положение гостьи может превратиться в нечто более обязывающее по отношению к нему.
Наверное, в ее голосе зазвучали металлические нотки, так как Овадия опустился на ковер подле ее ног и, не спуская с нее глаз, заговорил о том, что он ни за что не будет ее неволить.
Он убеждал княжну, что сдержит свои чувства и подождет до тех пор, пока она не поймет, что ей не так уж плохо рядом ним. И еще шад заверил Светораду, что готов на многое пойти, и, если она захочет, он будет ей просто другом. Нежным другом, всегда ожидающим от нее того искрометного взгляда, каким она некогда приманивала и мучила его, буду недосягаемой для него при дворе Эгиля Смоленского.
– Неужели вы не понимаете, моя дивная царевна, что я хочу быть вашим избранником – не господином, а возлюбленным? И я готов ждать вашей любви, сколько бы вы ни пожелали.
– И вы ничего не потребуете от меня, шад? – медленно произнесла Светорада, чуть склоняя голову и испытующе глядя на него.
Овадия смотрел на нее, любуясь и чувствуя, как сильно хочет ее, хочет эти пухлые манящие уста, эти нежные руки, хочет коснуться ее изящной шеи, провести пальцем по ложбинке между ключицами, заметной сейчас в вырезе ее легкого желтого одеяния…
Светорада даже в полумраке увидела его жаркий взгляд, отвела глаза, и ее рука, сжимавшая чашу, так задрожала, что она едва не расплескала вино. Поставив чашу на маленький столик, и не зная, что делать с забрызганными пальцами, Светорада просто слизнула капли вина. Овадия, возбужденный этим зрелищем, кинулся прочь. Даже проведенная в любовных утехах предшествующая ночь не могла избавить его от желания обладать этой манящей славянкой. Подвластной ему, но еще такой дикой.
Светорада слышала его тяжелое дыхание. Он стоял у противоположной стены, его шаровары были заправлены в полусапожки, мощный торс несколько раз обернут шелковым поясом, белая рубаха расстегнута у горла, где чуть поблескивал амулет на цепочке. Он вдруг показался ей привлекательным, даже его непривычно бритая голова с заправленной за ухо длинной прядью не казалась больше варварской. И все же она не хотела его и потому вновь почувствовала неприязнь.
– Если вы сохраните мое пребывание в тайне, если не сообщите моим братьям на Русь, где я… Это будет означать только то, что я ваша пленница и…
– Перун в помощь! – крикнул попугай, и оба вздрогнули от неожиданности.
Овация приблизился к ней мягким, почти кошачьим шагом, что как-то не вязалось с его грузной комплекцией.
– Все, чего бы я хотел, – это узнать вашу тайну, проведать, как вышло, что вы не стали княгиней на Руси, а оказались у ловцов людей.
Светорада прикрыла глаза. Ее тайна… Ее сладкая и запретная тайна.
– Это больно вспоминать, Овадия.
Накрыв ладонью ее руку, он смотрел на нее своими темными блестящими глазами.
– Это больно хранить в себе. И если моя Светлая Радость позволит другу выслушать ее историю и тем самым облегчит свою душу, то, может, мы вместе решим, как нам быть дальше.
Светорада горько улыбнулась. Он сказал «друг». Но она не сомневалась, что как раз другом он и не хочет быть. Что ж, она готова рассказать ему о своей тайне… О своей великой любви, которая живет в ее сердце, несмотря на то, что человека, к кому была обращена ее любовь, уже нет в этом мире…
Прикрыв глаза, Светорада стала рассказывать, как жила все это время. Голос ее звучал почти спокойно, но из-под ресниц выкатывались медленные тяжелые слезы. Эти воспоминания… Она словно вновь переживала все, вновь любила и была любима. Ранее она запретила себе упиваться прошлым счастьем, но сейчас опять окунулась в него.
Овадия молча слушал, и его переполняла грусть и даже глухая ярость, оттого что какому-то простому парню удалось пробудить в душе Светлой Радости такое сильное чувство, столь отличное от той легкой приязни, какой сам он когда-то добился от смоленской княжны. А ведь именно это игривое расположение княжны дало шаду надежду, что он ей небезразличен, и оставило в душе осадок от неисполнившейся мечты. Сейчас же, когда Светорада говорила о том, другом, ее лицо светилось одухотворенной красотой, и она казалась ему необыкновенно прекрасной. Овадия зачарованно смотрел на княжну, но при этом думал о том, как скрыть от Светорады, что именно по его приказу ее отыскали и вырвали из счастливой жизни с каким-то Стрелком, которого она любит и по сей день.
Когда Светорада поведала, как Стема умер у нее на руках, ее спокойная речь прервалась рыданиями. Овадия осмелился подсесть к ней и негромко сказал:
– Я уважаю вашу печаль, Светорада. Я понимаю, что не смогу заменить в вашей душе того, кого вы любили, но я могу оберегать вас и постараться обеспечить вам приятную жизнь. Даю слово – слово сына кагана! Однако и вы должны понимать, что тоска и печаль не изменят вашей судьбы. Я же всегда буду рядом, буду петь про ваши лучистые глаза, про нежную тень, про звон ваших браслетов, когда вы идете, легкая, будто пантера… Но вы никогда не почувствуете ни нажима, ни властности с моей стороны.
Наверное, именно эти слова ожидала услышать от него Светорада. Ей так хотелось защиты, так хотелось изжить свои страхи в мире, где она осталась совсем одна! И княжна даже склонилась к Овадии, положила головку ему на плечо, а потом как-то так вышло, что она лежала у него на коленях, он держал ее в руках, покачивая и баюкая, но не проявляя ни малейшей страсти, какая могла ее напугать. Его голос звучал почти по-отечески, когда он стал говорить:
– Усни, моя маленькая. Ты измучилась. Тебе пришлось вынести много страданий. Постарайся заснуть, а когда проснешься, увидишь, что боль осталась позади. Ты начнешь свою жизнь заново. И да поведут тебя боги по светлому пути удачи!
Когда она уже засыпала, он осмелился коснуться губами золотистого завитка на ее виске. Она что-то сонно пробормотала во сне, словно птичка, а он бережно уложил ее на ложе, накрыл покрывалом и ушел.
На другой день Светорада проснулась спокойная и обновленная. Она позволила себе поваляться на широкой постели, испытывая благодарность и расположение к шаду, который был так добр и участлив к ней. И когда явились слуги, княжна пребывала в хорошем настроении, с аппетитом поела и даже немного покапризничала, оттого что ее сперва угостили плодами и сладостями, а потом принесли такие вкусности, что она, уже наевшись, не смогла к ним прикоснуться.
Как ей сообщили, Овадия отбыл из усадьбы еще с рассветом. Вернулся он после полудня, оживленный и веселый, и нашел Светораду в саду, когда та играла с подаренным ей медвежонком. Она чесала ему брюшко, и тот довольно урчал, смешно вытягивая задние лапы, веселя и умиляя этим княжну. По знаку Овадии им принесли поесть прямо в сад, где накрыли стол под раскидистой шелковицей. Шад сам поджаривал для княжны кебаб, суетясь у находившейся тут же жаровни, накладывал в миску желтые зернышки приправленного пряностями риса. Потом предложил прогуляться с ним.
Сперва они плыли по реке, потом причалили и пересели на верблюдов. Светораде еще не доводилось передвигаться таким способом, и она невольно ахала и визжала, когда огромный серый верблюд припустил ходкой рысью, а ее стало качать между его горбов. Она цеплялась за луки непривычного мягкого седла, и Овадия смеялся ее милой неуклюжести.
– Куда мы все-таки едем? – спросила Светорада, когда увидела, что они приближаются к Итилю.
– Мы едем на праздник! У одного из ишханов, благородного Барджиля, жена родила тройню. Причем все трое мальчики – великая удача для мужчины! И по этому случаю хан Барджиль решил устроить праздник в честь благословляющей Умай.[117]
Так Светорада неожиданно оказалась на торжестве в становище кочевников, кара-хазар, то есть черных хазар, о которых с таким пренебрежением отзывались во дворце ее подруги-иудейки.
По сути, становище в эту пору было как бы продолжением самой столицы Хазарии. Вдоль всего берега раскинулся нескончаемый лагерь палаток и юрт, полный людей, костров и наскоро изготовленных идолов, перед которыми с бубнами плясали шаманы. Здесь царило необычайное оживление, но Светорада сразу заметила, какую радость вызвало тут появление Овадии. Все эти люди в мехах и коже, смуглые и кривоногие, как большинство кочевников, просто боготворили его, встречали радостными криками, когда он проезжал мимо.
Светорада с невольным уважением взглянула на шада. Овадия держался приветливо, как любимец толпы. Однако, несмотря на то, что он, спешившись, по-приятельски обнимался со многими из них, все равно чувствовалось, что царевич тут первый и главный, что всякий стремится ему услужить.
Светораду окружили женщины, что-то говорили ей, но так как их речь несколько отличалась от той, к какой княжна привыкла ранее, она не все понимала, и это вызывало смешные недоразумения, заставляя всех вокруг, включая саму княжну, весело смеяться. Потом ее проводили в шатер к счастливой матери. Та лежала на ложе из мехов и слабо улыбалась гостье, а ее трое туго спеленатых сыновей покоились тут же в широкой деревянной люльке-качалке. Женщины показали Светораде подвешенную у входа в юрту куколку, сшитую из синей материи, и пояснили, что это изображение самой Умай, которая будет охранять мать и младенцев. Светорада растерялась, ведь по обычаю надо было бы преподнести подарки, но только она об этом подумала, как рядом возник один из людей Овадии. Он протянул княжне небольшой ларчик, дав понять, что это и есть предусмотрительно захваченный Овадией дар. В ларчике оказались мягкие льняные ткани, мешочек с ароматическими притираниями и небольшой ножичек в посеребренных ножнах для подрезания ногтей. Женщины восхищенно ахали, довольные подарком, говорили Светораде, как той повезло, что ее выделил вниманием сам благородный Овадия, которого они все так любят. Сам же Овадия в это время сидел на разостланном перед большим костром ковре, пил кумыс и разговаривал с тарханами хазар. По правую руку от него сидел счастливый отец, глава одного крупного рода, ишхан Барджиль. Это был еще молодой мужчина со скуластым смуглым лицом, узкими черными глазами и заплетенной в косицы бородой. Голову его покрывала пышная лисья шапка, а пестрый стеганый халат был увешан золотыми амулетами.
– Я лучший твой друг, Овадия, – говорил Барджиль, протягивая шаду чашу с кумысом. – Я всегда рад тебе, и я…
– …стал бы еще ближе, если бы присягнул мне на верность, – закончил за него Овадия. – Как ты, один из самых достойных наших людей, можешь так покорно терпеть власть иудея Вениамина? Лучшие из наших ишханов уже давно поняли, что хазарами должны править хазары, как было в старые времена, до прихода иноверцев. Иудеи навязали нам своего Яхве, опустив хозяина неба Тенгри-хана до положения бесправного кагана при всемогущем беке.
Некоторые из сидевших рядом тарханов согласно закивали, однако ишхан Барджиль только засмеялся, лукаво грозя царевичу пальцем.
– Я не глуп, Овадия. Я люблю тебя, но я мудрый и забочусь как о себе, так и о своих людях. Даже то, что небо послало мне тройню сыновей, является признаком благоволения ко мне высших сил. Только я смогу позаботиться о детях и о тех, кто признает мою власть. Ты же свободен, как орел над степью. У тебя нет ни семьи, ни рода, который ты обязан защищать. И ты не можешь быть признан полноправным ишханом, пока не женишься, и пока твое семя не покажет, что ты настоящий мужчина.
Овадия не обиделся на такие слова.
– Ну, то, что я настоящий мужчина, тебе могут доказать то какие красавицы из твоего рода, которые рожали от меня. А то, что я воин, скажут даже аларсии, с которыми я порой упражняюсь в поединках, и которые гордятся, что во мне, как и в них, течет хорезмская кровь, ибо моей матерью была женщина из Хорезма. Что касается защиты своих людей… Пусть отзовутся те, кто присягал мне на верность и не получил поддержки даже перед всемогущими рахдонитами.
Он обвел присутствующих рукой, и многие тут же в знак согласия склонили головы в пышных меховых шапках. Но все же кое-кто поддержал и Барджиля, заметив, что, дабы стать полноправным главой, Овадия должен жениться и по обычаю хазар иметь статус взрослого и самостоятельного.
– Но вы ведь знаете, с кем я обручен! – воскликнул Овадия. – Моя женитьба на Рахиль, дочери Шалума бен Израиля, кровно соединит меня с иудеями, и я, как их родич, не смогу враждовать с ними.
– Но ты можешь жениться и на другой женщине, – заметил хан Барджиль, указав на вышедшую из юрты Светораду. Другие хазары тоже повернулись в ту сторону и восхищенно зацокали языками.
– Красавица!
Светорада, освещенная мягкими лучами осеннего солнца, стройная и нарядная, в одеянии из коричневой замши, расшитой узорами, и пушистой шапочке, с переброшенной на грудь длинной золотистой косой, и впрямь походила на сияющее видение. Она переговаривалась с окружавшими ее женщинами, потом почувствовала на себе взгляды, повернулась, но не смутилась, а приветливо улыбнулась. Всем сразу. И ее очарование нахлынуло на мужчин, как теплый порыв ветра. Она вдруг напомнила Овадии ту смоленскую княжну по имени Светлая Радость, одно появление которой дарило людям непонятное ощущение счастья и надежды на лучшее.
Ишхан Барджиль сказал:
– Она красавица, но ведь она и дочь русского князя, так ведь? И отчего ты, Овадия бен Муниш, не объявишь ее своей законной женой? Она достойна стать твоей любимой шадё, твоей ханшей, а за это русы пришлют нам войска, на которые ты мог бы опереться.
– Такое вполне вероятно, – ответил Овадия, понимая, что на это он как раз не может рассчитывать.
Тем не менее, царевич стал уверять, что его люди уже ведут переговоры с Русью. Пусть его соратники поверят в это, а там… Там как милость великого Тенгри повернется.
Сама же Светорада даже не ведала, что ее тут все уже считают сговоренной невестой Овадии. Однако то, что она оказалась среди огромного скопления людей, да еще на празднике, заметно подняло ей настроение. Княжна расхаживала по становищу, ела кебаб, пила кумыс, вкушала мясо, срезанное прямо с боков вращаемых на вертеле барашков, знакомилась с кем-то, разглядывала, спрашивала, училась понимать язык черных хазар.
На закате все собрались на традиционные скачки, на которых женихи выбирали себе невест. Молодой воин должен был догнать свою избранницу, а та, если не противилась его ухаживаниям, позволяла себя настигнуть и даже поцеловать на всем скаку. Но если же красавице не нравился жених, она могла нестись во всю прыть, а то и отбиваться от него скрученной из ремней плеткой. Такое противостояние больше всего веселило толпу зрителей, а когда один из наездников, бросившийся за девушкой, выпал из седла, хазары хохотали так, что даже их привычные ко всякому кони заволновались, поднимаясь на дыбы.
Светорада тоже смеялась, поддавшись общему веселью. К ней осторожно подошел Овадия, приобнял за плечо.
– А если бы я догнал тебя в таком поединке, моя Светлая Радость, что бы я получил от тебя – плетку или поцелуй?
– Попробуй угадать! – хитро прищурилась Светорада. Она шутила, но лицо Овадии было серьезным, глаза напряженно блестели. Улыбнувшись, княжна осадила его: – Конечно, плетку! Кого же мне еще стегать, как не тебя, богатого шада, так и не подарившего мне достойной лошади?
Овадия наигранно хлопнул себя по выпуклому лбу, тут же включившись в ее игру:
– Вай, вай, вай! Я и впрямь заслужил плетку, если до сих пор не усадил столь славную наездницу на лучшую кобылицу хазарских степей!
Над становищем гасло вечернее солнце. В сумерках юрты и шатры становились черными, только их проемы светились внутренним огнем.
Светораду водили по шатрам, знакомили с людьми, поили кумысом. Княжна поначалу решила, что кумыс – это просто перебродившее молоко, и не сразу заметила, как охмелела, стала беспричинно смеяться. Все вокруг казалось ей забавным, и она продолжала веселиться, ощущая все более нараставшее возбуждение. Когда мужчины, а среди них и многие ишханы, освещенные пламенем костров, сошлись в танце, она стояла среди зрителей, хлопала в такт пляске, что-то возбужденно выкрикивала. Хазарские мужчины, полуодетые, с обнаженными саблями в руках, ловко подпрыгивали, быстро перебегали с места на место, притопывая ногами, били себя оружием плашмя по подошвам сапог, спине, плечам. Глядя друг другу в глаза, следя за каждым движением, они бросались навстречу, как будто хотели пронзить один другого саблями, ловко отбивали удары и отскакивали назад. Высшим мастерством считалось умение не поранить кого-нибудь в танце и не пораниться самому. Пляска была даже опасной, но это почему-то никого не тревожило. И хотя то один, то другой из танцующих все же отходил в сторону – кто устал, кто сбился с ритма, а кто-то просил, чтобы ему помогли обработать порез, – танец не прекращался.
Овадия все время оставался среди танцующих. Как и большинство мужчин, он был полуодет, только в сапогах и широких шароварах, двигался ритмично и быстро, самозабвенно и ловко вплетая в узор танца свое умение владеть остро наточенной саблей, которая вспыхивала в алых отсветах костров. И Светорада в какой-то миг поймала себя на том, что любуется царевичем… Она смотрела на него, раскрасневшегося, полуголого, ловкого и грациозного, несмотря на некоторую тучность. Ну, не настолько он и тучен… К тому же у Овадии были широкие плечи, привлекательное лицо, горящие глаза, на которые сбился с бритой головы клок черных волос. И еще Светорада вдруг подумала, каково это, когда тебя обнимает столь сильный мужчина, степняк… ловкий и прославленный… опасный, как волк, но ласковый, как кошка… и покорный ей… потому что любит… несмотря на то, что она призналась ему, что до сих пор хранит любовь к другому…
Когда после танца улыбающийся и разгоряченный Овадия подошел к ней, на ходу вставляя блестящую саблю в ножны, Светорада, не отдавая себе отчета, посмотрела на него почти с нежностью. У нее кружилась голова, звуки точно двоились, тело было тяжелым и непослушным. Сделав глоток кумыса из чаши, Светорада вдруг выронила ее – такой тяжелой она показалась. Ноги стали подгибаться, и княжна упала бы, если бы Овадия не подхватил ее на руки. Он отнес княжну в юрту, уложил на меха и какое-то время смотрел на нее, забывшуюся во сне. Потом отвернулся и вышел.
Утром она обнаружила подле себя присланную из дворца Руслану. Как приятно было увидеть рядом знакомое лицо! Но на протянутую Русланой чашу с кумысом Светорада не могла даже смотреть. Зато в чан с подогретой водой погрузилась с явным удовольствием. Руслана, довольная, что ее назначили здесь главной служанкой, терла княжну мочалкой, расчесывала волосы, не переставая говорить, какие тут все дикие и шумные, как ее пугает становище кара-хазар. Однако Светорада только улыбалась.
– По крайней мере, тут веселее, чем в покоях гарема.
Руслана промолчала. В гареме хоть роскошь, а тут все так дико, по-степняцки, неудобно…
Следующие несколько дней княжна провела в становище, причем каждый день находила для себя что-то новое и интересное. Она расспрашивала про богиню Умай и грозного Тенгри-хана, играла с хазарскими женщинами в нарды, ходила смотреть на новорожденных ягнят, наблюдала за отъезжавшими на соколиную охоту ишханами. А по вечерам ханы собирались у костров, пили кумыс, разговаривали, пели что-то долгое и монотонное, обнимались и лили хмельные слезы, раскачиваясь из стороны в сторону.
Иногда все становище объединялось в общем заклинании. Шаманы плясали у огней, били в свои огромные бубны, а люди то пели, вторя их завываниям, то выкрикивали какие-то слова, обращенные к повелителю неба Тенгри. Шаманы тянули свое громкое «О-о-о-о!», женщины пели «Мяса и молока!», старики, тоже присоединившиеся к ним, просили здоровья и сил, а воины выкрикивали «Слава!». Как ни странно, несмотря на весь этот шум, звуки не смешивались, а складывались в некий гимн, и все веселились, выстраиваясь в огромный хоровод. Светораду все это забавляло и наполняло непонятной силой. Ее отношения с Овадией складывались легко и непринужденно. Даже Руслана как-то заметила:
– А он добрый и… почти красивый. Я бы поняла, как это – полюбить его. Вот только зря царевич не хочет возвращаться во дворец.
Руслана скучала по Взимку, которого не осмелилась взять с собой в становище диких хазар и оставила на попечение гаремных служанок.
Как-то Овадия пришел к юрте Светорады со стройным красивым юношей, у которого была наголо обрита голова.
– Светорада, позволь представить тебе моего младшего брата Захарию бен Муниша. – И шлепнув по обритой голове паренька, заметил: – Он побрился, как степняк, избавился от своих пейсов и за это получил нагоняй от нашего братца Юри, ярого приверженца иудейского Яхве.
Парнишка беспечно улыбнулся княжне, на старшего же брата посмотрел с обожанием.
– Я хочу быть с тобой, Овадия, – сказал он еще по-детски ломким голосом. – Если ты отправишь меня назад, в Итильский дворец, я убегу к нашему брату Габо, к морю. В заросли.
– Когда это я прогонял тебя, ястребенок? К тому же сегодня я буду выбирать лошадь для своей невесты и, возможно, мне понадобится твой совет. Ибо кто лучше тебя разбирается в добрых конях?
Так Овадия впервые назвал Светораду невестой. К собственному удивлению, она отнеслась к этому абсолютно спокойно.
Потом они поехали в степь, где паслись табуны Овадии бен Муниша. Светорада сидела за шадом, на крупе его любимого каурого коня, а «ястребенок» Захария лихо скакал рядом на легконогом мышастом жеребце, время от времени уносясь вперед. Вертясь в седле вьюном, он вдруг садился на коня задом наперед, и на его мальчишеском лице появлялась задорная улыбка. Светорада подумала, что он и впрямь чем-то неуловимо схож с ястребенком – порывистостью движений, худощавым лицом с тонким, изогнутым, как у ястреба, носом, большими округлыми глазами желто-зеленого цвета.
Вскоре они выехали на холм и увидели пасущийся на степных просторах табун прекрасных кобылиц. В большинстве своем тут были лошади светлой масти, причем непривычно миниатюрные и легкие. Овадия пояснил, что это его лучшие лошади арабской породы, великолепные силагви,[118] с которыми сводят жеребцов хазарской породы и получают прекрасное потомство.
– Ты можешь выбрать любую, Медовая, – обратился к Светораде Овадия. – Самую красивую, быструю и легкую – какую только пожелаешь. И тогда уж тебе самой решать, умчишься ли ты от меня верхом, или позволишь поцеловать тебя на всем скаку.
Светорада только стрельнула на него глазами из-под длинных ресниц. Игриво и кокетливо, обещающе и отчужденно… пусть сам гадает как. А потом… она увлеклась, ведь выбирать себе лошадь было не менее приятно, чем красивый наряд или украшения.
В итоге она отдала предпочтение темно-серой изящной кобыле в яблоках, тонконогой, с длинным белым хвостом и такой же белой гривой. Овадия одобрил ее выбор, и Светорада только ахала, наблюдая, как табунщики загоняли и ловили арканом выбранную ею полудикую красавицу, как удерживали лошадь на аркане и надевали на нее седло. А потом едва не кричала, когда Овадия взялся объездить ее для княжны.
На это стоило посмотреть. Светорада следила за действиями Овадии, угадывая в нем силу и ласку, постепенно усмирявшие непокорное животное. Она дивилась его умению и терпению, его мастерству держаться в седле на полудикой лошади, что бы ни выделывала серая, словно покрытая инеем, арабка, сколько бы ни пыталась взвиться на дыбы и бить копытами. А под конец кобылка просто понеслась в открытое поле и скакала все дальше, пока не скрылась за длинным пологим холмом.
– С ним ничего не случится, – беспечно покусывая сухую травинку, заметил Захария. – Мой брат – прирожденный кара-хазарин, а лошадь для нас – наши крылья.
Овадия вернулся не скоро, уже ближе к закату. Он ехал на смирившейся, спокойной лошади, которая послушно шла под его рукой, понурив голову.
Приблизившись к Светораде, Овадия легко соскочил с кобылы.
– Чудесный выбор, Медовая, – сказал он и добавил, обращаясь к табунщикам: – Поводите ее шагом под седлом до захода солнца и не давайте воды до полуночи.
Светорада смотрела на усталую лошадь. Та была в клочьях пены, ноги ее подрагивали, но она покорно дала почесать пятно у себя на лбу под длинной светлой челкой.
– Я назову ее Судьба.
– Не слишком ли громкое имя для лошади? – начал было Овадия, потом осекся и внимательно посмотрел на Светораду.
В розоватом вечернем освещении лицо княжны казалось печальным и нежным, по пунцовым губам пробегала едва заметная усмешка, в которой улавливалась горечь. Она и впрямь видела в усмирении этой кобылы нечто роковое. Ибо понимала, что Овадия своим ласковым упорством так же подчинит и ее саму…
Но на другой день никто не смог бы догадаться, что русская княжна предавалась печали. Она шутила с Захарией, забрала у него шапку, и они гонялись друг за другом вокруг юрт. Потом ей принесли плов, и, когда приехал Овадия, Светорада рассказывала ему, как ее утомлял ритуал в несколько смен блюд во время трапезы во дворце, правда, призналась, что пристрастилась есть фрукты вместо обеда, а вот от сладостей и мучного стала отказываться.
– А если фрукты правильно протушить с мясом, у-у-у… какое объедение получается! – сообщила она, когда они уже отправились верхом в степь. – Я стряпала подобное у Мариам, и ваша хваленая красавица ханша нашла, что подобное блюдо, да еще если к нему добавить подходящих специй, просто изумительно.
По пути они с Овадией обсуждали, что ни шафран, ни имбирь, ни гвоздика, которыми шад пробовал приторговывать на Руси, не имели там успеха. Овадия сокрушался, что русы слишком любят свой чеснок и укроп и иных приправ не признают. Светорада только смеялась, припомнив, что в Смоленске ее хазарский жених с огромным удовольствием ел чесночные пампушки, поглощал окрошку и свекольник, отнюдь не жалуясь, что они не вкусны, или плохо приготовлены.
Приятный разговор с царевичем, легкое общение, неяркое, но согревающее осеннее солнце над степным раздольем, где они целый день катались верхом, стремительный бег коней дарили неповторимое ощущение воли. Они носились наперегонки, съезжали к реке, смотрели на юрты многочисленных родов, собравшихся на зимовье, и повсюду, где появлялся Овадия, люди начинали его славить, сбегались и приветственно кричали.
Спустя какое-то время Светорада с Овадией отправились в Итиль, чтобы купить подходящую сбрую для ее Судьбы. Овадия утверждал, что сбруя для лошади так же важна, как Украшения для красивой женщины. Ведь для степняков хазар чем богаче украшена лошадь, тем выше статус того, кто на ней ездит.
Они ехали между станов кочевников, и Светорада думала, что столь теплой зимы (а на Руси сейчас было самое время отмечать дни Мороза[119]) ей еще не приходилось переживать. Солнце тут светило необычайно ясно, не было ветра, и даже птицы весело щебетали в садах вокруг Итиля. Оказавшись в самом Итиле, а не в его торговой части, Хамлидже, Светорада невольно обратила внимание, как тут все пышно и богато, какие красивые строения видны за заборами, как плотно утрамбованы проходы узких улиц, как красиво украшены мозаикой арки въездов во дворцы знати.
Когда же они въехали в узкий проход между улицами, их нагнал один из людей шада, сообщив, что за ними к Итилю подъезжает войско аларсиев во главе с беком Вениамином. Светорада при этом ощутила только любопытство – она была наслышана о величии и могуществе этого подлинного правителя Хазарии и была бы не прочь увидеть его. Лицо Овадии, наоборот, сразу помрачнело. Он огляделся, решая, где бы им скрыться, но потом, словно передумав, взял лошадь Светорады под уздцы и отвел под глубокую арку одного из дворов.
– Держись за мной. Здесь нам ничего не будет угрожать.
Светорада, заслышав приближающийся топот копыт многочисленного отряда, различила перезвон металла и заметила, как поспешили убраться с улицы люди, как женщины стали уводить детей и даже уличные собаки кинулись врассыпную. Вскоре проход между увенчанными башенками стенами совсем опустел. Зато где-то вверху открылись окошки, в которых появились любопытные лица.
Войско основной хазарской гвардии аларсиев и впрямь представляло собой красивое и грозное зрелище. Впереди скакали глашатаи, трубя в медные трубы, за ними – всадники с вымпелами на высоких шестах. Следом двигались одетые в броню воины на сильных лошадях, покрытых чешуйчатыми чалдырями[120] с богатой отделкой. У всадников был надменный и суровый вид, их начищенные до блеска металлические юшманы[121] закрывали тела, спускаясь до самых шпор, сверкающие мисюрки[122] защищали головы. Все это смотрелось грозно, мощно и великолепно. Светораде, не раз наблюдавшей за варягами в их лучшей броне и личными гриднями своего богатого отца Эгиля Золото в воинском облачении, еще не доводилось видеть столь грандиозную и опасную силу, как этот отряд неуязвимых аларсиев.
Сам бек Вениамин ехал не впереди отряда, а в середине – защищенный со всех сторон, величественный и гордый. Это был уже немолодой воин, властный и надменный, с небольшой холеной бородкой и густыми сросшимися бровями под золоченым ободком высокого островерхого шлема, острую маковку которого украшал пышный плюмаж из перьев. Казалось, что он смотрит прямо перед собой, но, тем не менее, он сразу заметил в арке ворот Овадию и поднял руку в стальной перчатке – почти небрежный жест, заставивший весь отряд замереть мгновенно.
Светорада немного оробела, слушая, с какой холодной вежливостью обменялись приветствиями бек и сына кагана.
– Здоров ли ты? Силен ли ты? Радуют ли тебя твои близкие?
В какой-то миг взгляд бека Вениамина устремился на Светораду. И пока Овадия цветисто расхваливал Вениамина за удачный поход и победу над очередными врагами благословенной Хазарии, Вениамин не спускал с нее взгляда своих темных, немного навыкате глаз.
– Это и есть русская девка, ради которой ты отказываешься от брака с моей родственницей Рахиль?
– Род этой девушки, – веско начал Овадия, – один из лучших на Руси. И для меня великая честь, что она оказалась подле меня. Она моя мечта и награда. И разве ты сам не мужчина, Вениамин, чтобы не заметить, насколько она достойнее и красивее толстощекой дочери торговца Шалума бен Израиля?
В его тоне послышались вызывающие нотки, и Вениамин сурово нахмурил брови.
– Если я правильно понял, это твоя любимая шлюха. Эти мерзкие язычницы не имеют ни на щелег[123] чести и отдаются по первому же зову, что и отличает их от богоизбранного еврейского народа, чьи женщины благородны и целомудренны, а брак с ними способен ввести мужей в общество высокородных.
От подобных грубых речей Светораду взяла оторопь, а тут еще как на грех ее пятнистая Судьба, взволнованная таким количеством незнакомых чужих коней, стала фыркать и рваться, так, что княжне пришлось приложить немало усилий, чтобы успокоить ее. Она не услышала, что ответил Овадия Вениамину, но заметила, как тот поменялся в лице.
– Кто не ценит доброго отношения и помышляет интригами, готовит себе высокий конец: его голова поднимется выше всех голов. На высоком колу! – заявил бек.
Это была прямая угроза, да и потемневшее лицо Вениамина не предвещало ничего хорошего. Потом стальная лавина аларсиев двинулась дальше за своим предводителем.
Светорада взглянула на Овадию. Он улыбался, но как-то сдержанно, одними губами. В глазах же плясали недобрые огоньки.
Светорада чуть коснулась стременем его стремени.
– Царевич, этот человек опасен.
Не глядя на нее, Овадия произнес:
– Я тоже опасен. И жидовский выродок знает это. Как и то, что однажды я его убью. И это воля небес!
Тем не менее, Светорада была встревожена, и ее не очень обрадовало последовавшее вскоре возвращение во дворец. Даже в становище черных хазар с их нехитрым бытом и хмельным весельем она чувствовала себя лучше, чем в роскошном дворце, где по углам шептались евнухи, у стражей были лица убийц, а внутренние интриги разъедали душу. Только Руслана была довольна, вновь оказавшись с сыном. Зато евнух Сабур держался почти надменно.
– Благородные жены пригласили вас к себе отведать изысканных яств на праздник Хануки, – передал он княжне приглашение иудеек.
Светорада была довольна. Ей нравилось общество образованных иудеек, их манера общения и ненавязчивая приветливость. Она засиделась у них, изумляя собеседниц своими суждениями о жизни кара-хазар. Светорада оказалась достаточно наблюдательной, чтобы отметить, что, в отличие от большинства иудеек, Рахиль не стремилась поддержать с ней беседу, да и взгляды этой полноватой хорошенькой девушки вряд ли можно было назвать приветливыми. Доброжелательная Сара даже шепнула русской княжне перед уходом, что ей все же стоит замолвить словечко о Рахиль шаду Овадии…
– Ты только окажешь услугу Овадии бен Мунишу, ибо упорство может сделать его изгоем. Если шад, как и другой сын кагана, Габо, осмелится противиться воле рахдонитов, он просто навредит себе.
Светорада ничего не знала об этом, и женщины поведали ей, как второй сын кагана, царевич Габо, осмелился резко высказаться о Вениамине, и тот, разгневавшись, схватил плетку и выбил Габо глаз.
– С тех пор Габо живет в далеких степях или в зарослях низовий Итиля и, как говорят, совсем одичал. Однако не в этом дело. Погляди лучше на нашу Рахиль. Разве она недостойна стать женой царевича? Она хороша собой и добра. И когда она станет женой Овадии, вы с ней прекрасно поладите.
Светорада предпочла сперва обсудить все это с Мариам. Когда она пришла к своей подруге, та была немного не в себе. Нет, она была все также красива, грациозна и величественна в своем изысканном одеянии – этакая смесь византийской роскоши, хазарской пышности и собственного пристрастия к ослепительно белым тонам, – но ее удлиненные лиловые глаза казались до странности пустыми, а голос звучал медленно и вяло. Она курила кальян, и, как заметила Светорада, так и не пристрастившаяся к этому занятию гаремных женщин, его ароматы ввели жену кагана в необычное состояние.
В покоях Мариам горели свечи, и только что прибывшая от иудеек Светорада спросила, не отмечает ли та праздник Хануки?
На равнодушном лице ханши мелькнула легкая усмешка.
– Ты ничего не понимаешь, маленькая язычница. Просто так вышло, что нынче наше христианское Рождество совпало с иудейской Ханукой, и я тут праздную тихо… сама…
Она стала медленно и отстраненно рассказывать Светораде, как был зачат от Святого Духа младенец Иисус, как святое семейство прибыло в Вифлеем, и дева Мария родила Спасителя в простом хлеву. Светорада сначала слушала, а потом неожиданно спросила:
– А у тебя самой были когда-нибудь дети, Мариам?
– Был… сын. Но я родила его совсем молоденькой, и сразу после родов ребеночек умер. Наверное, так было угодно Богу. Я же больше не могла иметь детей.
Для Светорады отсутствие детей казалось величайшим горем, однако Мариам говорила об этом с каким-то безразличием. Зато упоминание о молодости вдруг словно бы пробудило ее. Она поведала княжне, как некогда жила в благословенной Италии, как ее соблазнил красивый молодой сеньор, от которого она и понесла. Но внебрачные союзы среди богобоязненных христиан не приветствуются, и к Мариам стали относиться с презрением, так как простолюдинка, которая не соблюла себя, не пользуется доброй славой. И Мариам – Марию, как ее тогда называли, – начали гнать прочь, пока она не решилась уйти из родного селения с отрядом латников, проходившим мимо. Но и это был не лучший способ устроить свою жизнь.
Светорада сказала:
– У нас таких женщин называют волочайками, и каждая из них мечтает о том, чтобы какой-нибудь витязь взял ее в жены.
– Вы варвары, – холодно и сухо произнесла Мариам, никогда ранее не позволявшая себе пренебрежительно отзываться о родине княжны. – Вы не знаете, что такое чистота женщины. Я же на себе прочувствовала, что значит потерять честь.
Светорада уловила в голосе Мариам недобрые нотки. Ей стало грустно, она даже хотела было уйти, но Мариам продолжала рассказывать, и княжне пришлось остаться. Она слушала о том, как Мариам встретилась с умелой сводней, которая объяснила ей, что, бродя шлюхой за солдатами, Мария потеряет настоящую цену себе, как сводня отвезла молоденькую блудницу в Рим, где правителем был сам наместник Бога на земле, Папа. В Риме умелые наставницы сделали из Мариам куртизанку – женщину культурную и изысканную. Умеющую поддержать беседу с мужчиной и стать украшением его жизни, а также способную подарить ему утонченную любовную радость.
Светорада вновь подала голос:
– У нас на капище богини любви Лады тоже есть умелые женщины, которых волхвы выбирают из первых красавиц для особого служения. Но они живут уединенно, и их ласки служат наградой для самых достойных мужчин. Если же кто и добивается любви такой служительницы Лады, то это великая милость, поскольку вместе с прекрасной женой он получает от служительниц капища богини особые дары и благословение.
В глазах Мариам появился некий интерес. Она даже повернула к княжне свою небольшую аккуратную головку. Вероятно, она наконец-то признала, что в варварской жизни на Руси есть кое-что приемлемое и для нее. А вот там, где жила она…
– Как бы высоко ни вознеслась куртизанка благодаря своему покровителю, она всегда остается порочной, – продолжала Мариам. – А когда сменяется Папа на престоле, то каждый новый понтифик считает своим долгом изгонять из благословенного Рима распутных блудниц. И вышло так, что мой тогдашний покровитель оказался достаточно богобоязненным и выполнил волю Папы, избавившись от меня. Правда, используя свое положение, он счел достойным не просто изгнать свою содержанку, а отправить ее туда, куда она пожелает. Я выбрала Византию, о которой была наслышана как о богатой и культурной земле, где, по рассказам, блудница может стать даже императрицей.[124] Однако все это были только иллюзии. На самом деле патриарх в Константинополе относился к куртизанкам еще строже, чем Папа Римский. И я уже стала всерьез опасаться, что меня запрут в монастыре, когда судьба свела меня с одним высокородным хазарином, который как раз подбирал женщин для гарема кагана. Он предложил мне отправиться на смотрины, хотя я была куда старше, чем девушки, которых он выбрал. Однако мои манеры и внешность привлекли его, и он счел меня достойной предстать пред каганом Мунишем. Хазарин предложил мне солидную сумму, чтобы я отказалась от свободы в обмен на безбедное и замкнутое существование при гареме в Итиле, и я, тогда мало понимавшая, на что иду, решила продать себя.
Светорада ахнула. Она все еще гадала, пленница она тут или гостья, а мудрая Мариам добровольно отказалась от воли ради спокойной жизни в этом роскошном и скучном дворце!
Мариам как будто прочитала мысли княжны и нахмурила тонкие брови.
– Ты, Медовая, маленькая дикарка, и тебе не дано понять, что если у человека нет счастья, то лишь богатство и почести могут создать иллюзию вполне благополучной жизни. Ты, молодая и глупая, не понимаешь, что сама отказываешься от счастья.
В ее голосе вдруг прозвучала злость, а узкие глаза смотрели с такой ненавистью, что Светорада опешила. А потом Мариам неожиданно призналась, что ненавидит Медовую за то, что та лишает ее самого дорогого… Чего именно, она так и не сказала, однако ее голос сочился ядом, и Светорада молча встала и ушла, все еще слыша за спиной презрительный смех Мариам.
На другой день, когда служанка Мариам как ни в чем не бывало явилась, чтобы пригласить Светораду в гости, княжна отказалась, сославшись на нездоровье, хотя вид прихворнувшей княжны – она весело плясала и кружилась вместе с другими танцовщицами – свидетельствовал об обратном. Не пошла она и на следующий день. И на следующий, пока Мариам не перестала ее зазывать.
Зато весть, что русская красавица отказалась от дружбы с Мариам, быстро разошлась по дворцу. Даже Захра решилась подойти к ней во время прогулки, завела разговор о том, что все в гареме понимают, почему Светорада перестала общаться с этой змеей. А еще Захра милостиво предложила Светораде отправиться вместе с ней и иными женами тарханов на жестокие бои в Итиль. И, как ни странно, Светорада согласилась. Овадия все время был занят, гаремная монотонная жизнь изводила ее, а тут еще начали моросить дожди, вызывая скуку и дремоту.
Однако же, вновь посетив жестокие поединки, Светорада, как и в прошлый раз, убедилась, что они не развлекают ее, а только вызывают оторопь и омерзение. Она не могла понять, что так заводит всех этих благородных женщин, и даже удивилась, заметив, что и ее Руслана, наблюдая, как здоровые полуголые мужчины пытаются покалечить, или убить один другого, пришла в неописуемое возбуждение.
У себя в покоях Светорада играла с Взимком, смеялась, когда ее служанки с недоумением смотрели на восхвалявшего Перуна попугая. Забавная обезьянка, наоборот, вызывала у всех восторг, и девушки веселились, глядя, как ловкая зверушка наскакивает на полусонную ящерицу, а потом с криком убегает, карабкается на занавески и испуганно верещит, стоит рептилии резко дернуться в ее сторону. Но всеобщим любимцем, бесспорно, стал медвежонок. Его выводили гулять на поводке, в покоях закармливали сладостями, учили выделывать всякие трюки в обмен на подачки. Так что какое-то время было чем себя занять. А потом княжна опять заскучала. Сидела в своей опочивальне у окна, вышивая по тонкому полотну пестрых петушков и цветы на манер оберегов-узоров ее родины. Жизнь в Итиле по-прежнему казалась ей чужой, и по вечерам, после ванны и массажа, Светорада подолгу лежала на своем широком ложе, вспоминая, как трепещут листочки берез под солнечным ветром, как плывут струги по глади Днепра. Она представляла, как волхвы собираются перед жертвоприношениями на капищах, а девушки по вечерам поют под перезвон слепых бродячих гусляров. Ах, как же она тосковала по Руси! И постепенно в душе княжны стала просыпаться досада на Овадию. В его присутствии она хотя бы чувствовала, что нужна ему, а так, ведя однообразную дворцовую жизнь, только и делает, что пытается отбросить навязчивые горькие мысли, которые лезли в голову. А ведь дай он ей волю – так бы и полетела на Русь! И ее уже не страшили ни права на нее княжича Игоря, ни жесткая властность Олега, ни ревнивое коварство Ольги Вышгородской. Она бы вернулась в милый ее сердцу Смоленск, увиделась бы с братьями, приникла бы к груди взрастившей ее няньки Теклы… А потом слушала бы пение теремных девушек в ткацкой, вдыхала бы морозный воздух во время святок на Корочун.[125] Морозы наверняка уже сковали Днепр, валит пушистый снег, и так заманчиво было бы прокатиться в санях с бубенцами навстречу холодным закатам и ядреным колючим ветрам! А тут… Тихо и скучно…
Светорада как-то заговорила об этом с Русланой, но та в последнее время была какой-то отчужденной, задумчивой и все чаще отпрашивалась на бои в Итиль. Княжне казалось, что ее, кроме этих жестоких и будоражащих схваток, ничего больше не волновало. Да и в самом дворце что-то происходило, некое волнение, оживление, которое было непонятно и интриговало. Однажды во время прогулки в саду Светорада увидела наблюдавших за ней со стены бека Вениамина и его родича Аарона. Знатные иудеи о чем-то переговаривались, не сводя с нее глаз, и княжне стало неуютно. Прежде приветливые иудейки сторонились ее, держались надменно и холодно. Они все словно бы о чем-то знали, в то время как Светорада пребывала в полном неведении.
Овадия все не появлялся, и как-то княжна, не выдержав, потребовала от евнуха Сабура, чтобы тот передал шаду ее желание встретиться с ним. Однако Овадия не явился. Зато прислал ей, как знак внимания, множество изысканных плодов, очень редких в зимнюю пору на Руси. Здесь, в Хазарии, их умели хранить в подземных хранилищах, так что они совсем не портились и были свежими, как будто их только что сорвали с ветки. Получив подношение, Светорада только хмыкнула и откусила кусочек от нежного персика. Фруктами ее и так по традиции здешней трапезы закармливали каждый день, а изысканный плод или обычный, при сытой гаремной жизни не имело особенного значения. Поэтому Светорада почти уже по привычке поела сладких фиг, персиков и сочных зимних груш, полакомилась и ломтиками ароматной дыни, а когда подали халву и изюм, она даже не посмотрела на них. И уж совсем не возбудило в ней аппетита большое блюдо с ароматным, сдобренным пряностями пловом и сочными кусками баранины. По обычаю то, к чему не притрагивалась госпожа, доставалось ее служанкам. Однако в этот раз запах баранины привлек и ручного медвежонка. Он урчал, становился на задние лапы, натягивая цепочку, которой был прикован в углу, подпрыгивал и забавно махал лапами, смеша и развлекая княжну и ее девушек. В итоге его накормили пловом, и медвежонок, сытый и довольный, облизывал кормящие его руки, откидывался на спину, позволяя чесать свое разбухшее брюшко.
Вскоре Светорада отправилась отдыхать. Она удобно устроилась на своем ложе, вытянула ноги, и служанки занялись ее маленькими ноготками, подпиливая их и втирая столь пахучие мази, что Светорада велела даже приоткрыть окно, ибо уже не раз бывало, когда от насыщенных ароматов у нее к утру начинала болеть голова. Светорада уже засыпала, укутавшись в покрывало из лебяжьего пуха, когда поздно ночью вернулась опять отпросившаяся на бои Руслана. Сквозь сон княжна слышала, как она выговаривала служанкам за то, что эти оглоедки съели почти весь ужин. Девушки оправдывались, что, дескать, они и за сыном Русланы присмотрели, и ей оставили пару ложек жирного плова. Светорада окончательно уснула под эту болтовню, а когда ночью неожиданно разразилась гроза, ей самой пришлось встать, чтобы прикрыть ставень. Именно тогда княжне показалось странным, что рядом никого нет. Но она снова легла и некоторое время ворочалась, натягивая на голову покрывало, чтобы не слышать доносившихся из соседнего покоя странных звуков – то ли это были крики, то ли стоны и плач. И все время жалобно ревел медвежонок. Светораде даже захотелось прикрикнуть на прислужниц, чтобы прекратили мучить бедное животное, однако ей приснился Смоленск, отец, мать… Она не хотела расставаться со столь приятными сновидениями.
Проснулась княжна раньше обычного и удивилась, что рядом нет привычно улыбающихся служанок. И еще она почувствовала неприятный запах, почти тошнотворный…
Светорада, позевывая и потягиваясь со сна, вышла в соседний покой… и замерла, пораженная увиденным.
Казалось, тут произошел какой-то лихой шабаш. Ковры, сорванные со стен, были сплошь в зловонных пятнах. Столики перевернуты, посуда разбросана. И никого нет, кроме свернувшегося калачиком медвежонка, вокруг которого все было измарано блевотиной и экскрементами, от которых распространялась невообразимая вонь. От изодранных покрывал и занавесок, сброшенных в кучу, исходил такой смрад, что хотелось зажать нос и бежать прочь.
Растерявшаяся Светорада сперва позвала Руслану, потом окликнула других служанок. Медленно подошла к скорчившемуся медвежонку, осторожно переступая через нечистоты, чуть коснулась его ногой. Он был мягким, но даже не пошевелился. И когда Светорада перевернула его, она увидела, что медвежонок мертв, его перепачканная мордочка неподвижна, а тусклые глаза застыли в обводе темной мокрой шерсти, как будто зверь плакал.
Когда рядом захлопал крыльями попутай с его извечным «Перун в помощь!», Светорада испуганно подскочила.
– Ради всех богов! Что тут произошло?
От напряжения ее голос сорвался на крик, она стремительно кинулась к двери и с ходу налетела на Сабура, который шел в сопровождении евнухов. Перед ней стали извиняться, кланялись, а Сабур, оставив свое прежнее величие, склонил полный стан и предложил ей идти за ним. По пути он сам открывал перед ней двери и говорил, что ее до последнего не хотели тревожить, надеясь, что справятся до того, как она проснется, и впечатление не будет столь угнетающим.
Светорада резко остановилась.
– Я желаю знать, что произошло! Где мои женщины? Где Руслана?
Сабур нервно сцепил пальцы на необъятном животе и, вращая большими пальцами, словно он растирал что-то, ответил:
– Они отравлены. Некоторые уже отошли в мир иной.
Светорада судорожно сглотнула и плотнее запахнула тонкое покрывало. Она даже толком не была одета, ее золотистые волосы рассыпалась каскадом по плечам и спине.
Сабур вздохнул с обреченным видом и, пригласив княжну опуститься на покрытую ковром скамью в нише, начал рассказывать.
Кто-то отравил ее служанок, они почувствовали себя худо вскоре после полуночи. Сначала, очевидно, женщины не решались поднять переполох, сдерживались, стонали, хотя их донимали рези в животе и дурнота. Однако настоящий шум поднял медвежонок, он ревел и рвался с цепи, его пропоносило. И тогда одна из служанок решила позвать кого-либо из евнухов и сообщить о случившемся. Но едва она добралась до служителя гарема, как ее просто скрутило пополам, она стала биться, пока не вытянулась, испустив дух. Евнух не сразу понял, что происходит, но все же решил сходить в покои Медовой. И уже при подходе он услышал стоны и плач. А потом понял, что служанки не просто больны, что они умирают, не смея пожаловаться и поднять шум, надеясь невесть на что… или уже вообще ни на что не надеясь…
Светорада слушала евнуха, постепенно осознавая, что ее прислужницы оказались случайными жертвами, а отрава была принесена ей во время вечерней трапезы. Она отказалась от еды, поскольку насытилась присланными Овадией плодами.
– Яд был в плове, – подытожила она, когда Сабур, наконец, умолк. – Я не прикоснулась к нему, а вот мои служанки… Они и медвежонка угощали… И Руслана… – Она вдруг встрепенулась: – Где моя Руслана? О матерь Макошь, а что с Взимком?
И вдруг схватила Сабура за полы его шелкового полосатого халата, тряхнула так, что тучный евнух, не ожидавший подобной силы от хрупкой женщины, едва не упал со скамьи, а пышный султан на его тюрбане заколыхался, качаясь из стороны в сторону.
– Это ведь ты следил за подачей блюд, толстый боров! – почти у его лица прошипела сквозь сжатые зубы Светорада. – Ты пытался меня отравить… нас отравить. Но учти, если с Русланой или ее малышом что-то случится… Клянусь, я паду в ноги самому кагану, но заставлю тебя поплатиться за все!..
Ее светло-карие глаза неистово светились во мраке, лицо исказилось в злобной гримасе, белые зубки сверкнули, как у хищного зверька. Опешивший Сабур торопливо сообщил, что с ребенком все в порядке, его передали гаремным нянькам, а Руслана, которой сейчас хоть и худо, жива. Да и к лекарям она попала как раз вовремя, ей успели дать сильное противоядие до того, как она впала в беспамятство. И если будет воля Аллаха…
– Молись за нее своему богу, евнух, – перебила его княжна, – ибо если я потеряю ее… Клянусь всеми богами нашей земли, тебя от моей мести не спасет даже твой хваленый Аллах.
У Сабура нервно задергался пухлый подбородок. Евнух стал объяснять, что он только следит за доставкой блюд, а не за их приготовлением, что сейчас он и княжну отведет к врачам, чтобы они позаботились о ней на всякий случай.
Однако не успел евнух договорить, как из бокового перехода возник запыхавшийся полуодетый Овадия. Он кинулся к Светораде, обнял, прижав к себе так сильно, словно ее у него отнимали, и княжна невольно ахнула. А потом Светорада и сама вцепилась в него, приникла, пряча лицо у него на груди. Овадия сейчас казался ей самым надежным другом, единственным, кто мог ее спасти и уберечь от этой опасной гаремной жизни. И только спустя какое-то время, когда шад, оставив ее, накинулся на Сабура и, свалив того мощным ударом, стал пинать евнуха ногами, она вдруг поняла, что попытка отравить ее как-то связана с самим Овадией, с его непокорностью и противостоянием воле рахдонитов.
Дворцовые евнухи, видя, как Овадия избивает Сабура, разбежались кто куда. А Сабур только тихонько подвывал, скорчившись в углу и закрываясь от ударов шада. Он долго молил царевича смилостивиться над ним, а потом тоненько заскулил, когда Овадия выхватил у одного из прибежавших на шум стражей саблю и уже занес ее над головой евнуха.
– Постой, Овадия, – успела перехватить его руку Светорада. – Пускай этот пес сделает все возможное, чтобы спасти близкую мне служанку.
Пожалуй, Светорада сама не осознавала, насколько для нее важно, чтобы Руслана осталась жива. Поэтому она настаивала, сказав, что ей нужно, чтобы Руслана выжила, что пусть жизнь Сабура зависит от того, насколько лекари смогут помочь Руслане. Ведь у этого мусульманского славянина тут большие возможности, и Светорада хочет, чтобы он лично проследил за выздоровлением ее служанки.
Сабур, жадно вслушивающийся в ее слова, стал уверять, что он сделает все необходимое, а потом принялся целовать колени Овадии.
– Я все сделаю, что велишь, благородный шад. Все, что пожелает эта звезда твоих грез.
Овадия чуть наклонился и что-то сказал ему. Светорада только расслышала, что, мол, «не так уж приятно, когда раздирают дикими лошадьми». Княжне не было жаль Сабура, и, хотя сама она еще плохо соображала и ее била дрожь, Светорада сказала, что хочет повидать Руслану и Взимка.
Овадия какое-то время смотрел на нее.
– Я бы сам умер, случись с тобой неладное, моя княжна.
Его голос срывался, в темных глазах, похожих на глаза больной собаки, затаились страдание, страх и мука. Похоже, он тоже понимал, что попытка отравить ее связана с ним самим. И когда он заговорил, его голос звучал глухо:
– Сейчас я увезу тебя, Светорада. Увезу туда, где тебя никто не отыщет. А там… Пусть даже сам могучий Итиль потечет вспять, но тебе нечего будет больше опасаться. Я клянусь тебе в том жизнью моего отца!
ГЛАВА 14
Я видела, как они смотрели на меня, – говорила Светорада Овадию, – и бек Вениамин, и его родич Аарон. В их глазах были неприязнь и угроза.
Овадия мрачно отмалчивался, налегая на правило лодки, уводя ее в темноту узких речных проток среди зарослей высокого тростника. Царевич понимал, что русская княжна могла пострадать из-за него, что враги нашли его уязвимое место и хотели принудить к повиновению.
Светорада, видя, что он молчит, добавила, что зла ей могла желать и Мариам, которая как-то не сдержалась и проявила к ней… почти ненависть. А ведь о Мариам всякое говорят в гареме.
– Не клевещи на Мариам, – почти гневно оборвал Светораду Овадия, мотнув головой в пушистой шапке. – Она знает, что ты для меня значишь, и никогда не причинит мне зла.
– А мне? – тихо спросила княжна.
Овадия сильнее налег на весло, потом что-то крикнул гребцам на непонятном наречии. Они продвигались все дальше, вглубь зарослей, и высокий тростник порой шумел под порывистым ветром, точно вздыхал кто-то.
Светорада сидела подле Овадии, кутаясь в накидку из куньего меха. Было так сыро и пронзительно холодно, что и не верилось, как совсем недавно она дивилась непривычно теплой хазарской зиме. За бортом узкой лодки чуть плескалась вода. Она и не заметила, когда широкая многоводная река вдруг разошлась на множество речных проток и их обступили заросли тростника, которым, казалось, не было ни конца, ни края.
Овадия увез княжну из дворца сразу же после случившегося. Сперва в свою загородную усадьбу, а затем, едва стемнело, по воде подошла эта длинная лодка, на носу которой сидел младший царевич Захария.
– Поехали! – крикнул паренек. – Они уже знают, что ты с русской здесь, и к рассвету могут прислать за вами.
Светорада мало что понимала. Но одно было ясно: подле Овадии она в опасности. Ибо, как бы ни был знатен и почитаем черными хазарами ее нынешний жених, его враги нацелили удар именно на нее.






