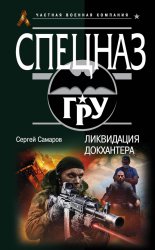Защита Хабаров Станислав

– Нет, – испугался Невмывако, – я говорю об актуальности задачи. Она возникла из насущных сегодняшних нужд военно-промышленного комплекса.
За последние дни Невмывако сдал, ходил с одышкой и, когда услышал о защите в институте, подумал: «А хорошо бы к ним на кафедру! В институте – тишина и порядок. Туда бы мне». Он вспоминал последние дни в Краснограде. Тогда чувствовал – не выдержит. Вынесут ногами вперёд. А на кафедре – тишь да благодать и академический отпуск чуть ли не в полгода. Кайф полный!
Невмывако говорил о вкладе. Слова его протискивались сквозь щель рта, словно неповоротливые садовые рыбы, которые, покинув его, медленно плыли по сторонам. Он и сам напоминал снулую рыбу, вытащенную из воды.
Мокашов завидовал тем, кто умеет говорить. Он многое бы отдал за это умение. Сколько раз в его жизни всё зависело от языка. Ум – хорошо, но с языком – ещё лучше. Он считал, что в каждом умеющем говорить скрыт талант. У Невмывако в этом смысле выходило от противного, невесть что, и об эффекте можно было только догадываться.
– Кто это? – спросил Пальцев.
– Невмывако. В своё время был замом Викторова.
– А… слышал. Дуб, говорят, порядочный.
2
Выражение «офисный планктон» вошло в общий разговорный лексикон. Оно годилось и водам института… Если первые ряды были заполнены околонаучной публикой, то дальше гужевался совершенно странный народ. Его можно было сравнить по аналогии с болельщиками. Известных учёных здесь просто почитали. Но и бескорыстно десятки лет сочувствовали околонаучным фигурам – малозаметным, неясным в смысле научных перспектив и самим себе, и с истовостью игроков на бегах ставили на них. Тем и правда внимания не хватало. Успех и оправдание многолетних чаяний, пожалуй, считался здесь не менее важным, чем для основных участников.
Странная это была публика. Она жила отражённым светом. Не сотвори себе кумира – сказано именно о них. Волнения, переживания, и чаще в итоге – ноль. Они досконально знали историю вуза и кафедр. Подобно довоенным бабушкам, судачившим у подъездов, у них наиполнейшие сведения о профессорах-преподавателях. Планктону известно всё: кто, с кем, когда и по какому поводу? Причем у них своя ценностная шкала. Для истинной оценки им не хватает конкретных знаний, однако ошибки у них редки, и все расставлены по местам в табеле о рангах, и они могут поспорить с ВАКом по поводу заслуг.
Да и планктон ли это? Скорее, низшее звено института, институтский технический персонал. Они знакомы друг с другом и связаны между собой и даже с научным кругом общенаучными интересами, но больше житейскими байками и общей институтской судьбой. На всё про всё у них собственное выверенное мнение. Они похожи на болельщиков, хранящих в памяти буквально всё о любимых командах: существенное и мелочи, вплоть до пристрастий, – играя роль непризнанных знатоков, авторитетов, третейских судей и хранителей личных тайн.
К подобной публике можно относиться по-разному. Пренебрежительно и отрицая её, хотя такое чаще плохо заканчивается, и остаётся признать способность этого слоя иметь негласное мнение и влиять на порядок вещей.
У этого мира есть своё божество. Оно, говоря без патетики, – будущее. Мир этот с виду несовершенен, в нём масса интриг, неумения, недомолвок, однако он всё переживёт. Адепты его воспитают внуков не в религии, и Мокашов готов спеть им гимн!
Религия в наше время тоже необходима. Для милосердия. Хотя порой у неё милосердия ни на грош, и церковь нынче не та. Религиозные стали оголтелыми. Ещё немного, и станут наказывать тех, кто, скажем, не верит не только в высший смысл, но и в Деда Мороза, а заодно в гномов и ведьм! «Помилуйте, как же? – скажут вам они. – Кругом действительно много ведьм, может, с виду и не страшных, но с ними приходится считаться. Факт налицо».
Религия, по-Мокашову, скроенный древними свод правил. А полезны ли они в изменившихся условиях? Не факт. Религия – порядок жизни. Из утверждения принятого порядка порой возникали войны. Да, это правила с наивной мифологией и дорогой театральной постановкой, можно сказать. Так ведь нужны какие-то правила, чтобы, не тратя времени, поступить правильно. Порой и подумать некогда, а нужно действовать.
– Не к месту он, – прошептал Кирилл, а шум с задних рядов словно подтверждал его мысль, – не в кайф, и зануда неимоверная.
– Примитивен очень. Начал за здравие, а кончит за упокой. Напоминает отпевание.
3
«Стороннее непременно лезет в голову, – рассуждал Мокашов. Он думал, чтобы отвлечься, занять себя, хотя мучаться оставалось недолго. – А религии, хотя и разные, но все об одном. Они расцветают в наивном обществе и неизбежно отомрут. Разумным обществам не нужны религии. Их могут, конечно, сохранить по традиции, как раритет, как сказки детям или старухам о загробном мире. Это не помешает. Наоборот.
По-крупному мысли планктона совпадают с заботами человечества. У человечества ограниченные пути. Неизбежны ассимиляция народов и их объединение, и, конечно, научное прозрение. Оно на повестке дня. Иного не дано. Иначе гибель как вида, витки иной эволюции до тех пор, пока планета не высохнет и взрыв центрального светила не возвестит о её конце.
Наука, увы, единственная спасительная соломинка, которая может что-то и продлит, но вряд ли спасёт. Но на науку надежда, в конечном счёте, и стоит молиться на неё и связывать с ней надежды. Сегодняшнее – временное баловство и неизбежный тупик в плане исторических перспектив.
Когда-нибудь неизбежно сольётся всё, исчезнут кафедры, споры, и станет общим правительство. И будет ужасно, если и в него по головам пролезут недоумки. А как бы хотелось поскорей перескочить ужасную эпоху, когда забегают по головам. За ней грезится спокойная жизнь и неизбежная перестройка. Ведь каждый строит собственный мир, свою сотовую ячейку, подобно клеткам организма, обеспечивающим жизнь.
Все, как и здесь, повторится на Земле, но в ином масштабе».
4
Всё было так и не так, и в шефовом взоре появились беспредельность тоски павшего гладиатора и вопрос: где гарантия, что его вот-вот не схватят и не проволокут сообща по вселенской грязи, ославив притом?
За что? За жульничество, за идею, обманув всех, стать мистификатором. Добиться почёта в своей деревне, посёлке, своих кругах. По просёлку гордо расхаживать. Как же, профессор, а скорее, «профессор кислых щей», но это поди докажи, лишь самому известно в деталях. Однако ты обставил всех, как говорится, поставил на место, оставил в дураках.
Возможно такое? Конечно. Нередко, но не всегда, и выручает порой институтский планктон. Он создаёт общественное мнение. Хотя, казалось бы, что зависит от него? Оказывается, зависит. Гулом на защите создаётся общий фон и, хотя это пресекается, можно захлопать выступающих. Так-то оно так, да что будет потом?
Ощущение уклона защиты не пропадало. Выступление Невмывако сформулировало как бы общий изъян, хотя и его было достаточно. Невмывако сел.
– Не выступление, а чушь и срам.
– Обгадил, можно сказать, с добрыми намерениями.
5
У осьминогов пугающие глаза. Он не только таращит свои квадратные зрачки, но может рисовать на теле огромные фальшивые глаза, пугая окружающих их размерами и формой. Теперь шефовы глаза выглядели молящими о помощи. Завезённый на сушу осьминог чувствует спасительную воду. Но где нынче ваша вода, Дим Димыч? Выступления в поддержку закончились, а другие выступят «и нашим, и вашим», в лучшем случае. Не пачкаясь.
Осталась поддержка шефа взглядом: мол, держись. А шеф нам не сват и не брат, и плодит себе на кафедре выгодноподобных. Типа Толи Овчинникова. Мол, а куда денешься? От реакции их умножения и растёт инертная масса. Масса трутней, через которую сложно пробиться к руководящему телу. В результате шеф в последнее время практически недоступен, а ты барахтаешься в болоте.
Копаясь в шефовом столе, Мокашов обнаружил маленький конверт с квадратиками из плотной бумаги. Он даже представил себе, как Протопопов вырезал двенадцать квадратиков по числу сотрудников кафедры и смеялся от удовольствия: мучившая его проблема приобретала кажущуюся простоту. Фамилии на квадратиках были тщательно выписаны. Выходит, не зря участились на кафедре эти досужие разговоры, и не бывает дыма без огня. А нелегко, наверное, выступать в роли Зевса-громовержца? Тщательно, как только мог, выписывал он, должно быть, фамилии и прикидывал. Пробовал, комбинировал тот или иной расклад, совмещая разными гранями, означавшими рабочее взаимодействие, и лишь богу известно, каким вышел последний вариант.
Забава руководителя – пасьянс из сотрудников и лозунги: «Не падайте духом, ведь будет значительно хуже, и остаётся только марку держать». Непросто решать человеческие судьбы, и можно себе представить, как он рассуждал: «А что сделаем с Дарьей Семёновной? Так или так? Да очень просто: голубушка, к чертям собачьим! Хотя и… А Мокашов с Кириллом? Это же блоковая система, а apexstone противостояния Теплицкому, и что получится, если их взаимное притяжение разорвать?» А может, он мыслил святее Папы: «Безжалостно гнать с кафедры нечистей! Пора от скверны очиститься. Гнать, гнать, гнать».
6
«И молит жалости напрасно мутный взор…» Но не дай бог, если Дим Димыч вдруг от всего откажется. Изменит этим весь порядок вещей. Мол, я – не я и лошадь не моя; и то, и это сделал не сам, даже листы демонстрационные и те по идее – не мои. Тогда наступит хуже не придумаешь, хуже всем. И что за этим последует? У осьминогов есть странное свойство – автофагия, для животных необоснованное. Осьминог в неволе обкусывает щупальца и гибнет без видимых причин. И шеф если дрогнет, то всё пойдёт под откос.
Способен ли шеф на подобное? Пить-есть, выполнять привычные обязанности, набухая непогрешимостью и безнаказанностью, как скат электричеством, и вдруг разом разряд вытечет из него. Начав разбег, он возьмёт одно за другим препятствия и, споткнувшись перед последним, сойдёт с дистанции. А ведь Дим Димыч теперь смотрит на него.
На каждом месте есть свои особые правила. Они – баланс интересов, складываются постепенно, и в одиночку их не поломать. А если не шеф, то кто тогда? Левкович уйдёт. Зачем ему мышиная возня? Для молодых кафедра обернётся чёрной дырой… Нет, шеф нужнее им, хотя дрожит сейчас как осиновый лист и жаждет милосердия. А Мокашову дано опустить его теперь или покарать.
Когда-нибудь все окажутся в океане общей судьбы. Ах, не смешите, мало вам собственных бед, вы озабочены общей судьбой. Масштабами мира и Вселенной. А почему бы и нет? И как всеобщей судьбой не озаботиться?
Мы на затерянной планете, среди осколков несущегося межпланетного вещества, с прогнозом губительной эволюции светила. О, люди, откройте же, наконец, глаза! Одумайтесь, объединитесь, выработайте правила, способствуйте тем, кто обдумывает путь в темноте. Уважайте знания. Опиум понадобится лишь в агонии, когда останется прошептать: всё.
Красота спасёт мир. А может, любовь? Любовь во всём вокруг присутствует. Любить склонны даже осьминоги. На самом деле у осьминога не восемь, а девять ног. Девятая – гектокотиль – особая, по сути, это осьминожий половой член в виде щупальца. Восемью щупальцами самец придерживает самку, а девятым входит в неё, и не в силах расстаться, нередко, отрываясь, остаётся в ней. Но для него это не трагедия: у него вскоре отрастает новый гектокотиль. У осьминогов-аргонавтов он даже в принципе автономен: отрываясь от мужской особи, самостоятельно разыскивает самку и, найдя, вступает с нею в интимную связь. Природе, наверное, неважно «как?», и существуют разные способы. Важно, чтобы семя попало в плодотворную почву.
И акулы способны любить. Акулы в жизни жестоки. Зародыши тигровых акул начинают пожирать своих братьев и сестёр ещё в утробе матери, но и акулы не лишены любви. Даже избыточно. Акульи брюшные плавники преобразовались в орудия любви, в два пениса-класпера. И не дай бог стать акульим предметом любви. Ласкаясь, они кусаются и могут партнёршу загрызть.
По-крупному речь теперь идёт о кафедре с неизбежным выводом: «Не поддавайтесь амбициям, складывайте усилия». Так утопить или спасти?
Не просто выступить. Куда ему со своим копытом? В зале – умницы, они вмиг взнуздают и подкуют. Меня, тебя, любого из копытных, хотя бы черта самого. Необходимо решать. Не второпях, не со спанталыку. Холодно. Но из окопа только стоит высунуться, и разом вверх тормашками полетишь. Да и ему жаль не идеи, а изюминки расчёта. Может, сойдёмся? Ну, хорошо, вам идея, а мне одна изюминка. Работа должна быть качественной-привлекательной, и высшим классом в ней – присутствие изюминки расчёта. Её парадоксальностью и оригинальностью подтвердится качество. В защите, видят, всё добротно, но изюминка маркой на конверте. А без неё не стоит даже огород городить. Да и кому нравятся зануды, успешно выдолбившие тему? Да и успехом занудство по большому счёту не назовёшь. И можно безнадежно себя и других уверять, что всё хорошо.
Существуют правила, и следует поступать соответственно. Как на эскалаторах: «Стойте справа, проходите слева, не останавливайтесь». Он должен поставить жирную точку над «i». Обязан. А что за этим? Другим решать. Он – не пифия. «Чёрт не выдаст, свинья не съест». Была не была!
Мокашов поднял руку.
– Разрешите…
Теперь все взоры обращены к нему: за кого он? За белых или за красных?
– Я человек здесь, по сути, случайный, но не могу не сказать…
Общий смех в зале.
«Смех – это, в общем-то, хорошо, но не до смеха сейчас. Необходимо ситуацию переломить. Из загашника, из тайников памяти, из тщательно охраняемых глубин достать своё, остроумное, сокровенное, полное смысла и значения. Способное поразить. Свою изюминку, чудо из чудес, рассматриваемое, как парадокс и приключение. Оно и есть откровение, сошедшее на тебя в одну из редких божественных минут. Таких минут бывает в жизни одна-две, если повезёт. Увидеть чудо дано не всем, но его оценят. Без этого и изложенная идея – нешлифованный изумруд.
Изложение не потребует много времени. Труднее убедить себя и всех в заслуге защищающегося».
– У вас всё?
– Всё.
Он сел и был собою недоволен: скомкал, не успел толком изложить. Но заулыбались члены совета, значит, всё-таки угодил в цель, хотя и не в самый центр, а рядом с ним. Потом скажут, что выступил он неплохо, скажут некоторые. Но с этого самого момента телега защиты покатилась дальше без особых помех и сама собой.
Глава 11
1
Когда, наконец, окончательно стало ясно, что дело идёт к концу, Мокашов подумал о банкете. Пригласят ли? А если пригласят, то одного или с женой? В зале там и сям знакомые лица. Были и подхалимы с кафедр, которые считали обязанностью поприсутствовать; были соискатели и аспиранты, у которых свои защиты впереди; но кроме них были и знатоки, по неясным мотивам уважающие степени и звания, были и в институте неизвестные.
Впереди сидел Теплицкий, сбоку Люба в такой прозрачной кофточке, что сквозь неё бретельки видны. С Любой всегда легко. Она прозрачна, как кофточка, бесхитростна и абсолютно ясна каждому. Она охотно смеётся и поощряет шутки. Хотя не все шутки Любой бывают поняты, зато она безошибочно чувствует тон. Спрашивала, не стесняясь:
– А почему вместо бронеямы говорят «на синхрофазотроне»?
– Да, раньше говорили: кто там в лавке остался? А теперь: кто у синхрофазатрона?
– Тебе какой-то дебил позвонил, спрашивает: где ты? Я ему говорю: у синхрофазотрона. А он: а туда можно перезвонить?
С Ингой сложнее. С ней он и сам становился чувствительней, точно босиком шёл по дороге и кололи мелкие камешки. Иногда он не понимал, отчего между ними происходят недомолвки? И потом объяснял их себе неодинаковостью настроений.
Приходил он усталый и говорил:
– Знаешь, кажется, получается.
– Это я уже слышала.
– Да пойми, это совсем не то. А получится, значит, полный успех.
– И это слышала. Об успехе я слышу третий год, и три года тебя не вижу, а вижу спину.
– Помолчала бы. Из-за тебя я стал тупицей.
– Почему из-за меня? Из-за себя.
Они делились с Кириллом, и тот говорил:
– Знаешь, какие женщины нам нужны? Верные, не сомневающиеся, такие, что если умираешь, не сотворив, они бы говорили: не успел, не сомневаясь, что смог бы. Мол, времени чуть не хватило.
А Люба помогала ему.
– Как твои опыты? – спрашивала она.
– Подходят к концу.
– Не сомневаюсь, у тебя всё получится. Я просто уверена. Вид у тебя такой.
– Какой?
– Не смейся. У тебя вид настоящего учёного.
И этого ему достаточно, а с Ингой посложнее. Временами ниточка, их связывающая, казалась слишком тонкой. И точно работали внутри него храповые колёсики и шестерёнки и что-то рвали внутри.
По воскресеньям он звонил Кириллу из автомата, стеклянной будочки на углу. Иногда автомат поступал не по-приятельски: щелкал, сглатывал монету, гудел. Монеты он глотал, как механический попрошайка, но случалось, соединял и бесплатно. А если бросали монеты, барахлил – обижался: «Нельзя же портить минуту, давая на чай».
– Приезжай, – как правило, говорил Кирилл.
– Не могу. Я на привязи.
– В моде беспривязное содержание.
– Не у меня.
Иногда трубку снимали женщины. Иногда голос казался знакомым, похожим на Любин. И это не удивляло. Порочность была даже в Любином лице. «А что для неё отношения? – думал он. – Как выпить стакан воды».
«Я верю в чистую любовь и непорочное зачатие, – повторял Кирилл. – Все мы произошли от рыб». Но это только слова. Порой ему кажется, что у него интимные отношения и с моей женой. Кирилл по-дружески спрашивал, как бы советуясь: «А что, если женщина холодна в постели? Как быть?» А он не знал, только догадывался, о ком это он. Но так похоже на холодность его жены, хотя всё это домыслы. Не было оснований так считать, и он отвечал тоном всезнайки: попробуйте, чтобы она задавала темп».
Нет, не хотел он знать о Кирилловой личной жизни. Возможно, у него всё просто и в порядке вещей. Его преданные пассии в разгар самых тесных отношений не раз на словах сами предлагали себя ему. Но у нас общая цель. Мы коллеги, занимаемся дроблением. Хотя он числится у шефа, а Кирилл у Левковича.
Левкович же, как Мидас. Чего не коснётся – золото. Даже с дроблением. Дробление – всего-ничего в перечне тем. Есть волны сжатия и волны разряжения. Интерференция – сложение их и приводит к дроблению. Оболочка гранаты-лимонки разлетается не по насечкам на корпусе. Наоборот. Сложение-вычитание волн дробят её по-своему. Дробление нам на пару с Кириллом. Но место у Левковича почётнее.
2
В зданиях при атомных взрывах вылетали углы. Задача Кирилла – устроить расчётный взрыв с заданным дроблением. Тема, конечно, не Рио, но всё-таки. И не ради осколков гранаты, есть обстоятельства и поважней. Скажем, метеоритный удар, удар астероида, волновые процессы – и планета разваливается на куски.
У них общая цель. Кумиром им – взрыв, он и эмблема кафедры. Взрывы повсюду и, в первую очередь, взрывы звёзд, теория катастроф Кювье, революции и прочее. Промежутки – лишь паузы накопления энергии. Вселенная – та же кафедра боеприпасов, чревата взрывами. В конце концов, она сама разлетится на осколки. Управляющая её судьбой таинственная тёмная материя разорвёт, и всё начнётся снова, с атомных основ, кирпичиков мироздания.
Но в этой теме есть для него и сокровенное. Жуковский с опытом вращения стеклянного шара с водой и водорослями. Именно они сделали видимыми вертикальные движения, моделируя движение материков.
3
Среди плакатов, похожих на развешенные на верёвке простыни, снова появился Протопопов. «Конечно, он со всеми согласен и благодарит». Теперь он взвился над залом так высоко, что сбить его можно только пресловутым чёрным шаром. Однако шаров не существует, а есть обыкновенные бюллетени, от которых не стоит ожидать чудес.
Шеф закончил благодарить, и невозмутимый председатель объявил долгожданный перерыв. За столом остались только члены учёного совета.
– Идём, покажу тебе горнило науки – своё рабочее место, – сказал Мокашов Пальцеву. И Семёнов увязался за ними. Ему нужно позвонить. Они прошли институтскую «Красную площадь», всю в объявлениях о семинарах, зачётах на листках из тетрадки и случайных бумажных клочках; поднялись по лестнице и коридору цокольной части, как по виражу стадиона.
Плотность студентов от центра убывала, и наверху встречались лишь задумчивые парочки, ищущие заветные уголки.
– Узнаёшь, Палец, родные края?
– Аудитория «пятьсот два», – восклицал Пальцев, – её обычно мы брали с боя.
– Теперь народ не тот, квёлый народ пошел, – вмешался Семёнов, – с радиоактивным стронцием в костях.
– Как у тебя с оформлением? – спросил Мокашов Пальцева.
– Оформляюсь, и не везёт. Непрерывно оформляюсь.
– А куда? – спросил Семёнов.
– В Японию.
– И зачем вас только посылают? – поморщился Семёнов. – Что вы сможете новое сказать? Про принца Мэйдзи и чистый снег горы Фудзиямы? Как будто об этом не сказано миллионы раз!
– А у меня с детства в памяти японский флаг. Белый с красным солнцем. Меня в детстве у карты наказывали с флагами внизу. Что внизу, я хорошо помню: Земля Элсуэрта, Земля Королевы Мод.
Нажав кнопку двери, они очутились в тёмном коридоре, освещённом единственной лампочкой. И тотчас словно сработала следящая система – распахнулась одна из дверей, и из неё выглянуло строгое лицо Дарьи Семёновны.
– Борис Николаевич, вам звонила жена, – сказала она, – просила позвонить.
– Хорошо, Дарья Семёновна.
«Трудно ей, – подумал Мокашов о техничке, – называть уважительно всяких сопляков: Борис Николаевич, Кирилл Ярославович. А у одного царапина на лбу, у другого – ветер в голове».
– Хорошо, я позвоню. Спасибо, Дарья Семёновна.
Но она уже закрыла дверь.
– Тут проходят мои лучшие годы.
– Бумагой шуршишь?
– Покурите, а я позвоню.
– Потом позвонишь.
– Не будет потом. Завертится всё, как в карусели. Будут руки пожимать, пьянея от восторга.
– И просто пьянеть.
– Алло. Позовите Изовскую. Вышла? Я подожду.
– Не может без баб, – заметил Пальцев.
– Кому звонил? – спросил Семёнов.
– Жене.
– Свисти. А почему фамилия не твоя?
– Желает остаться девушкой. И я её не виню. Да-да, – закричал вдруг Мокашов в трубку. – Ну, хорошо. Я позже перезвоню. Эй, мужики! Опаздываем. Галопом назад.
4
Народ стекался в зал. Рассаживались теперь иначе, чем перед защитой. Пустовали передние ряды. Зато последние были плотно заняты, народ даже стоял в проходах. Отсюда всё выглядело иначе. Не виден страдающий шеф, а лишь его алебастровое лицо, как на тех бюстах, что выстроились по пути к актовому залу в коридорах. И оставшиеся члены учёного совета рассаживались не за столом, а в рядах.
Вначале голос учёного секретаря был почти не слышен и лишён полётности, но шум стихал, и слова, брошенные в зал, становились громче.
– …Счётная комиссия произвела… было опущено тридцать пять бюллетеней…
– А шары? – прошептал Пальцев.
– В твоих репортажах.
– …Один бюллетень недействителен. «За» подано тридцать три, против один.
Раздались смех и аплодисменты: опять против один. Так всегда. И все повалили из зала. Шеф, внезапно покрасневший, с пятнами на лбу, раскланивался, и было заметно, что он невысок, хотя этого не было видно, когда он расхаживал среди плакатов.
– Куда ты пропал? – вынырнул сбоку Кирилл.
– Знакомься, Пальцев – известный журналист.
– Очень приятно.
– Ты обещал познакомить меня с Левковичем, – напомнил Пальцев.
– Сейчас познакомим.
– Какой Левкович? – замахал руками Кирилл. – Нам с тобой за подарком шефу, и в ресторан, и ещё цветы…
– А почему не заранее?
– Примета. Мог и не защититься…
Теплицкий подошёл с бумагой:
– Борис Николаевич, вы приглашаетесь с женой на товарищеский чай, – и поставил галочку. – Кирилл Ярославович, а что с подарком?
– Я предлагаю статуэтку голой женщины со словами: «Дим Димыч разбирается не только в науке, но и…» Затем вручить эту статуэтку, добавив: «…и в искусстве».
Коридорами и переходами они вышли в институтский двор.
– Берём такси, – продолжал Кирилл. – Берём два такси. А ты с Теплицким за цветами.
– Не мог ничего получше придумать?
– В машине и выясните отношения.
Глава 12
1
Сначала вошедших в ресторан спрашивали:
– Куда?
А отвечавшим: «На банкет», – добавляли: «К кому?» Это походило на пароль и отзыв караульных постов, на серьезную пионерскую игру, на передачу «Клуб знаменитых капитанов». Отвечавших: «К Протопопову», – пропускали в особый гардероб. Приглашенные раздевались в специальном отделе гардероба с раздвижными дверями и по деревянной винтовой лестнице с широкими полированными перилами поднимались на второй этаж.
Пока гостей было мало, они каплями ртути растекались по двустороннему балкону, выходящему одним боком к вестибюлю, другим – в пустующую ресторанную залу.
Наконец, метрдотель торопливой походкой пробежал к дверям, и начали всех пускать. Ещё через несколько минут вестибюль был полон, и Мокашову, наблюдавшему сверху за шевелящейся толпой, открылась «здешняя гидродинамика»: течения, источники и стоки. Он с интересом наблюдал за водоворотами.
В банкетном зале накрывали столы. Сквозь стеклянные непрозрачные двери доносились то стук, то звон, но никто пока не выходил из зала.
За спиной его стоял Невмывако. Он тоже скучал и жаждал разговоров.
«Стоит обернуться, и пойдёт неловкий, бодрый, а главное, никому ненужный разговор. «По Краснограду не скучаете?» Невмывако стоял, обернувшись в сторону лестницы, и со спины, с затылка, были видны его обвисшие щёки, которые опадали и раздувались, точно меха работающей машины. Кто-то пока невидимый поднимался по деревянной лестнице, ступени скрипели под ним. «Должно быть, Теплицкий».
Теплицкий сновал вверх-вниз с деловым и озабоченным видом. Он отказался от совместных действий и за цветами съездил один в зелёное хозяйство, по цветочным магазинам, на рынки и на вокзал. Зато теперь были видны его усилия – украшением зала была масса цветов.
Поблескивая лысой головой, по лестнице поднялся Левкович, и у него, как всегда, был взъерошенный и задиристый вид.
– Галстук – смерть женщинам, – вызывающе начал он. – Где вы его достали?
– Жена достала, – ответил Мокашов, конфузясь, хотя галстук «на всякий случай» обычно валялся в одном из ящиков рабочего стола.
– У него, – посмеиваясь собственным словам, вмешался Невмывако, – очень просто: он достал жену, а она всё остальное.
«Но куда пропали ребята? – думал Мокашов. – Где они?»
– В этом нет ничего особенного, – продолжил Левкович, взглядом он походил на птицу, – жена и не это способна достать. Случалось, жены доставали многое…
Свои загвоздки на защите Левкович объяснил просто:
– Перед советом, – пояснил он, – позвонили от Келдыша и попросили пропуска заказать. И этой самой, что сорвала в Яремче наш семинар. Я отбивался, как мог. Но, слава богу, всё обошлось. Не получилось у них на этой защите людей с навозом смешать.
И вот распахнулись двери залы. «К столу, к столу!» – раздались голоса. И Протопопов повел Левковича, как свадебного генерала, а остальные потянулись следом. Невмывако шёл с Мокашовым рядом и, не останавливаясь, говорил:
– Возвращайтесь, Борис Николаевич. Все возвращаются. Могу за вас похлопотать. Вы ведь завязывали, вам и развязывать. Хе-хе-хе.
А Мокашов почему-то подумал о важности первой волны разряжения, вторая волна шла значительно дольше и не решала ничего.
Посадили их в самом конце стола.
– Какая немилость! – возмущался Кирилл. – С таким же успехом могли и на кухне посадить!
– Крабы, – удивлялись рядом.
– А помнишь, – сказал Кирилл, – было время: в витринах одни только крабы и портреты вождя. Потом только крабы. Потом ни того, ни другого.
2
– Мода, – оправдываясь, сказал Протопопов, – по-человечески не можешь сесть, того и гляди где-нибудь лопнет.
– Выходит, вы не любитель узкого, – подхватил Левкович. – Смею заметить: скоро широкое будут носить.
– Вы прорицатель, Моисей Яковлевич! И как вам удаётся предсказывать?
– Да, действительно.
А на другом конце стола началась самодеятельность.
– Выпьем за тебя, – говорил Севе Семёнов, – за рядового аспирантуры, однако наука – не твоё. Бросай её, и хочешь – завгаром устрою или заведующим пресс-центром. Но извини, это кто?
Блондинка между Левковичем и Протопоповым соблюдала строгий вид. Была она не первого класса, и всё-таки ничего.
«Точно собака Баскервилей», – подумал Семёнов, проследив её стерегущий взгляд.
– Да кто она?
– Мурена натуральная, протопоповская жена.
– Да она выше его.
– А ничего.
– А эта? – кивнул он на женщину помоложе, в прозрачной кофточке.
– Машинистка кафедры. Люба.
Лицо Любы хранило довольное выражение. Как у кошки, слопавшей воробышка.
3
Вечер разворачивался по всем правилам искусства. Сначала тосты звучали формально и холодно, и каждый в душе посмеивался над неловкостью других. Но ели, пили и время от времени выходили покурить, а возвращаясь, садились не там, где сидели прежде, и в разномастной массе гостей появились свои перекрёстные связи. Возникла самодеятельность, стало неуместно говорить для всех сразу, и приглашённые разбились на группы, несколько островков, и шум стоял от того, что говорили разом и иногда старались друг друга перекричать. Сделалось весело, и дело шло к тому, что будет ещё свободней и веселей.
– Всё ещё в аспирантах числишься? – расспрашивал Семёнов Севу. – А знаешь, что есть аспирант? Аспирант от слова «аспиро», что значит «стремлюсь». К чему ты стремишься?
И Сева путано объяснил.
«Определённо, у неё кошачья мордочка, – подумал Семёнов о Любе, – но кого она слопала или слопает, пока вопрос».
– Ты не слушаешь, – обиделся Сева.
– Поверь мне, скучная тема – напившийся аспирант.
– Братцы, пора дарить, – сказал Кирилл.
– Сейчас идём!
– Помню новоселье у Иркина, – сказал Семёнов. – Купили вскладчину магнитофон. У Иркина глаз-ватерпас. Магнитофон – он видит по коробке. Лосев встал: позвольте мне от соратников по домино, преферансу и по работе. Иркин открыл коробку, а там кирпич с ленточкой и надписью «весовой макет». Точное весовое соответствие. У Иркина челюсть отвисла.
– А позже и настоящий преподнесли.
– Не понимаю, – вмешался в разговор Невмывако. – Сначала всё, что есть мочи, клянут, а после вспоминают, как прекрасное, словно паршивого совсем не было. Вот я в отделе Минотавром…
– Надо же, – картинно удивился Кирилл, – человек добровольно объявляет себя человекобыком.
– Нет, вы скажите, – приставал Невмывако к Семёнову, – Борис Викторович – человек толковый?
– Вроде бы.
– Так с чего он меня тогда в замы взял?
– Прислали вас. Свалились тогда на нашу голову.
– Но мог не взять. Доказывается от противного… Вот этот тихоня, – Невмывако кивнул на Мокашова, – тогда такую штуку укурил. Увёл жену руководителя… Извините, я объясню. Отчего популярен нынче хоккей и у интеллигенции? Ведь хоккей, согласитесь, грубая игра. Так и в интеллигентности много звериности в крови, и руки чешутся. А дерутся мышцами других – игроков. Условно. Меня взяли, чтобы Борис Викторович мог сказать: сам-то я добрый, замы у меня собаки.
– Всё правильно, кроме последней фразы. Она вопреки всему…
– Мавр сделал своё дело, Мавр ушёл, – закончил Невмывако.
– Выпьем за Красноград, – предложил Сева.
– Выпьем, – сказал Семёнов, – но только не он нам не подошёл, а мы ему не нужны.