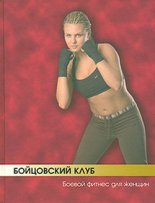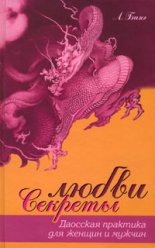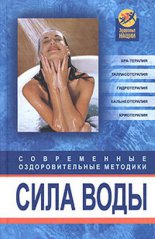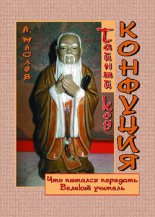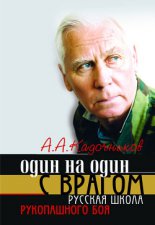ГУЛАГ Эпплбаум Энн

В таком положении вещей была своя логика. Во-первых, “Дальстрою” нужны были и свободные сотрудники, прежде всего инженеры, и женщины брачного возраста (и тех и других на Колыме всегда не хватало). Берзин развернул широкую агитацию, убеждая людей переезжать на Дальний Север; в Москве, Ленинграде, Одессе, Ростове и Новосибирске были открыты отделения “Дальстроя”[318]. Уже по этой причине Сталин и Берзин не хотели слишком тесно связывать Колыму с ГУЛАГом: они боялись, что связь отпугнет потенциальных вольнонаемных работников. Кроме того, хотя прямых доказательств этому нет, они, вероятно, учитывали возможную реакцию за рубежом. Как и карельский лес, колымское золото предназначалось для вывоза на Запад в обмен на технику, в которой отчаянно нуждалась советская промышленность. Это, видимо, отчасти объясняет тот факт, что советское руководство хотело представить золотые прииски Колымы как можно более “нормальным” предприятием. Бойкот советского золота мог нанести гораздо больший ущерб, чем бойкот советского леса.
Так или иначе, Сталин с самого начала испытывал к Колыме чрезвычайно сильный личный интерес. В 1932 году он даже потребовал ежедневно докладывать ему о состоянии дел с добычей золота и, как уже было сказано, входил в подробности изыскательских проектов “Дальстроя” и интересовался использованием квот. Он посылал в лагеря инспекторов и часто вызывал начальников “Дальстроя” в Москву. Когда Политбюро выделяло “Дальстрою” или Ухтпечлагу деньги, оно точно указывало, на что эти деньги следует потратить[319].
И все же “независимость” “Дальстроя” не была стопроцентно мнимой. Хотя Берзин отчитывался перед Сталиным, он сумел оставить на Колыме свой след, так что “эпоху Берзина” позднее вспоминали с сожалением. Берзин, судя по всему, понимал свою задачу просто: сделать так, чтобы заключенные добывали как можно больше золота. Он не был заинтересован в том, чтобы морить их голодом, убивать, наказывать, – значение имела только выработка. Поэтому при первом директоре “Дальстроя” условия были далеко не такими тяжелыми, как после него, и заключенные гораздо меньше голодали. И то, что за первые два года работы “Дальстроя” добыча золота на Колыме выросла в восемь раз, отчасти объясняется этим[320].
Несомненно, первые годы Колымы были отмечены тем же хаосом и дезорганизацией, что царили повсеместно. В 1932 году в регионе уже работало почти 10 000 заключенных (в том числе инженеры и специалисты, чья квалификация как нельзя лучше соответствовала задачам) и более 3000 вольнонаемных[321]. Цифры смертности были чрезвычайно высоки. Из 16 000 заключенных, направленных на Колыму в первый год деятельности Берзина, живыми прибыли в Магадан только 9928[322]. Остальные, плохо одетые и беззащитные, пали жертвой северной зимы. Перенесшие этот первый год позднее утверждали, что в живых осталась только половина из общего числа[323].
Однако первоначальный хаос был преодолен, и положение понемногу улучшалось. К этому Берзин приложил немалые старания, справедливо считая, что если от заключенного золотодобытчика требуются высокие показатели, то его надо хорошо одевать и кормить. Томас Сговио, американец, прошедший Колыму, писал, что лагерные “старожилы” вспоминали времена Берзина с теплотой: “Когда температура опускалась ниже минус 50 °C, на работу не посылали. Было три выходных дня в месяц. Кормили сытно и питательно. Зэкам выдавали теплую одежду – меховые шапки, валенки…”[324] Писатель Варлам Шаламов, тоже бывший колымчанин, чьи “Колымские рассказы” принадлежат к числу самых горьких произведений лагерного жанра, писал о периоде правления Берзина:
Отличное питание, одежда, рабочий день зимой 4–6 часов, летом – 10 часов, колоссальные заработки для заключенных, позволяющие им помогать семьям и возвращаться после срока на материк обеспеченными людьми. <…> Тогдашние кладбища заключенных настолько малочисленны, что можно было думать, что колымчане – бессмертны[325].
Отношение лагерного начальства к заключенным было в целом тогда более гуманным, чем стало потом. В то время граница между заключенными и вольнонаемными была до некоторой степени размыта. Две группы вступали между собой в нормальные взаимоотношения; часть заключенных находилась на положении расконвоированных, а некоторые из них работали геологами, инженерами и даже входили в состав военизированной охраны[326].
Заключенным в какой-то мере позволяли участвовать в политической жизни эпохи. Как и Беломорканал, Колыма создавала своих ударников. Один заключенный “Дальстроя” даже стал “инструктором стахановских методов труда”. Хорошо работавшие заключенные получали значки с надписью “Ударник Колымы”[327].
Подобно Ухтпечлагу, Колыма быстро усложняла свою инфраструктуру. В 1930е годы заключенные не только добывали там золото, но и строили портовые сооружения в Магадане, а также Колымскую трассу – важнейшую автодорогу региона, которая ведет из Магадана на север. Большая часть лагпунктов Севвостлага располагалась вдоль этой дороги, и часто они получали названия по расстоянию от Магадана (например, “47й километр”). Город Магадан как таковой был построен заключенными.
В 1936 году он насчитывал 15 000 жителей и продолжал расти. Вернувшись в город в1947 году после семи лет в дальних таежных лагерях, Евгения Гинзбург замерла “от удивления и восторга” – так быстро вырос Магадан. “Только через несколько дней я заметила, что дома эти можно пересчитать по пальцам. Но сейчас это для меня и впрямь столица”[328].
Гинзбург, как и некоторые другие лагерники, приметила диковинный парадокс. Странно, но факт: на дикую Колыму, как и в Республику Коми, ГУЛАГ постепенно приносил “цивилизацию”, если, конечно, это слово здесь уместно. Через леса прокладывались дороги, там, где были болота, вырастали дома. Оттесняя коренных жителей, власть строила города, заводы, железные дороги. Много лет спустя дочь лагерного повара в отдаленном подразделении лесозаготовительного Локчимлага (Коми АССР) вспоминала жизнь в то время, когда лагерь еще действовал: “Там у них был целый склад овощей, тыквы росли на грядках – не так все голо, как сегодня. (Она с отвращением махнула рукой в сторону крохотного поселка, стоящего ныне на месте лагеря у бывшего штрафного барака, где и теперь живут люди.) Там было настоящее электрическое освещение, и начальство чуть не каждый день разъезжало в больших машинах…”
Гинзбург сказала примерно о том же более красноречиво:
Загадочно человеческое сердце! Ведь я всей душой проклинаю того, кто выдумал строить город в этой вечной мерзлоте, прогревая ее кровью, птом и слезами ни в чем не повинных людей. И в то же время я явно ощущаю какую-то идиотическую гордость… Как он вырос и похорошел за семь лет моего отсутствия, наш Магадан! Просто неузнаваем. Я любуюсь каждым фонарем, каждым куском асфальта и даже афишей, извещающей, что в Доме культуры состоится спектакль – оперетта “Принцесса долларов”. Наверно, потому, что нам дорог каждый кусок нашей жизни, даже самый горький[329].
К 1934 году расширение ГУЛАГа на Колыме, в Республике Коми, в Сибири, в Казахстане и в других местах СССР приняло тот же характер, что и на Соловках. Вначале – небрежение, произвол и беспорядок, становившиеся причиной многих смертей. Даже если не было откровенного садизма, заключенные страдали от бездумной жестокости конвоиров, обращавшихся с ними как со скотиной. Однако со временем система кое-как налаживалась. Смертность в местах заключения, достигнув высшей точки в 1933 году, стала уменьшаться: свирепствовавший в стране голод отступил, и лагеря были теперь лучше организованы. В 1934 году, согласно официальной статистике, смертность составляла примерно 4 процента[330]. Ухтпечлаг качал нефть, Колыма добывала золото, лагеря Архангельской области поставляли древесину. В Сибири строились дороги. Ошибок и бед случалось великое множество, но такая же картина наблюдалась по всей стране. Быстрота индустриализации, изъяны планирования и нехватка квалифицированных кадров делали несчастные случаи и излишние затраты неизбежными, и руководители крупных проектов наверняка это понимали.
ОГПУ, несмотря на все неудачи, быстро превращалось в одну из главных экономических сил страны. В 1934 году Дмитлаг, прокладывавший канал Москва – Волга, использовал почти 200 000 заключенных – больше, чем Беломорканал[331]. Вырос и Сиблаг (в 1934 году – 63 000 заключенных); Дальлаг в том же году насчитывал 50 000 человек, более чем утроившись в размере за четыре года с момента своего образования. По всему Советскому Союзу возникали все новые лагеря: Сазлаг в Узбекистане, где осужденные работали в совхозах; Свирьлаг под Ленинградом, занимавшийся заготовкой дров для города и обработкой древесины; Карлаг в Казахстане, чьи заключенные трудились в сельском хозяйстве, на заводах и фабриках и даже ловили рыбу[332].
В 1934 году, кроме того, был образован НКВД СССР, взявший на себя в числе прочих функции ОГПУ. Реорганизация отражала новый статус тайной полиции и ее выросшую сферу ответственности. В ведении НКВД теперь находилось более миллиона заключенных[333]. Но относительное спокойствие продолжалось недолго. Внезапно система претерпела катаклизм, губительный как для рабов, так и для хозяев.
Глава 6
Большой террор и после него
Анна Ахматова.Реквием. 1935– 1940
- Это было, когда улыбался
- Только мертвый, спокойствию рад,
- И ненужным привеском болтался
- Возле тюрем своих Ленинград.
- И когда, обезумев от муки,
- Шли уже осужденных полки,
- И короткую песню разлуки
- Паровозные пели гудки,
- Звезды смерти стояли над нами,
- И безвинная корчилась Русь
- Под кровавыми сапогами
- И под шинами черных марусь.
Объективно говоря, 1937 и 1938 годы, которые вспоминают как годы “Большого террора”, не были самыми ужасными в истории лагерей. Не были они и годами наибольшей численности заключенных: в следующем десятилетии она намного возросла и достигла максимума гораздо позже, чем обычно думают, – в 1952 году. Хотя доступная нам статистика страдает неполнотой, ясно, что смертность в лагерях была выше как во время голода (1932–1933 годы), так и в разгар Второй мировой войны – в 1942–1943 годах, когда общее число людей, содержавшихся в ИТЛ, тюрьмах и лагерях военнопленных, составляло примерно четыре миллиона[334].
Есть, кроме того, основания думать, что историки слишком сильно сосредоточили внимание на 1937–1938 годах. Еще Солженицын во многом справедливо сетовал на то, что “упираются все снова и снова в настрявшие 3738й годы”[335]. Ведь за Большим террором последовали еще два десятилетия репрессий. С 1918го шли регулярные массовые аресты и высылки. В начале 1920х их жертвами были политические оппозиционеры, в конце 1920х – “вредители”, в начале 1930х – “кулаки”. Все эти волны массовых арестов сопровождались регулярными кампаниями против “антисоциальных элементов”.
После Большого террора – новые аресты и депортации. Брали поляков, украинцев, прибалтийцев с территорий, оккупированных в 1939–1940 годах; военнослужащих, побывавших в немецком плену и зачисленных в предатели; обыкновенных людей, оказавшихся по ту сторону фронта после нацистского вторжения в 1941м. В 1948 году многих освобожденных из лагерей забирали повторно; перед самой смертью Сталина прошли массовые аресты евреев. Конечно, многие жертвы 1937–1938 годов были людьми известными, и “показательные процессы” тех лет были неповторимыми в своем роде зрелищами, однако это позволяет назвать Большой террор не столько вершиной репрессий, сколько их специфической волной, затронувшей как элиту – старых большевиков, ведущих военных и партийных деятелей, так и широкий круг рядовых граждан и сопровождавшейся необычно большим количеством казней.
Однако в истории ГУЛАГа 1937 год стал подлинным водоразделом. В том году советские лагеря на время превратились из индифферентных мест заключения, где люди гибли из-за случайностей или халатности, в подлинные лагеря смерти, где людей намеренно убивали пулей или непосильной работой в гораздо большем количестве, чем раньше. Хотя эта перемена была далеко не всеобъемлющей и хотя в 1939м преднамеренно убивать заключенных стали меньше (смертность в лагерях вплоть до 1953 года, когда умер Сталин, менялась волнообразно – влияли война и идеология), Большой террор оставил в умонастроениях лагерников и их тюремщиков неизгладимый след[336].
Как и всей стране, обитателям ГУЛАГа были видны предвестья будущего террора. После убийства Кирова в декабре 1934 года, в котором до сих пор остается много загадочного, Сталин рядом распоряжений предоставил НКВД гораздо большие права в отношении ареста, пыток и ликвидации “врагов народа”. Прошли считаные недели, и жертвами этих распоряжений стали Каменев и Зиноьев – крупные партийные деятели, в прошлом оппоненты Сталина. Наряду с ними арестовали тысячи их сторонников и мнимых сторонников (особенно много в Ленинграде). Последовали массовые исключения из партии, хотя они, надо сказать, не были намного более многочисленными, чем исключения начала 1930х годов.
Постепенно чистка становилась все более кровавой. Весной и летом 1936 года сталинские следователи “работали” с Каменевым, Зиновьевым и группой бывших сторонников Троцкого, готовя их к “признанию своей вины” на большом публичном показательном процессе (он состоялся в августе). Всех их, как и многих их родственников, затем расстреляли. Позднее прошли новые суды над ведущими большевиками, в том числе над популярным Николаем Бухариным. Их семьи тоже пострадали.
Мания арестов и казней распространялась вниз по партийной иерархии и по всему обществу. Ее сознательно усиливал Сталин, который использовал ее, чтобы избавляться от противников, создавать новую прослойку преданных ему руководителей, держать в страхе население и наполнять свои концлагеря. С 1937 года по региональным органам НКВД рассылались предписания о том, сколько человек должно быть репрессировано. “Первую категорию” составляли те, кого приговаривали к расстрелу, прочих же относили ко “второй категории” и отправляли в лагеря на 8–10 лет. Самые “злостные и социально опасные” подлежали заключению в тюрьмы (видимо, чтобы не воздействовали на лагерников). Некоторые специалисты пытаются установить связь между размером “квоты” для той или иной части страны и представлениями НКВД о регионах с наибольшей концентрацией “врагов”. Но, может быть, такой связи и не было[337].
Эти распоряжения сильно смахивают на директивы какого-нибудь пятилетнего плана. Вот, например, данные о количестве подлежащих репрессированию от 30 июля 1937 года.
Совершенно ясно, что чистка никоим образом не была спонтанной: новые лагеря для новых заключенных готовились заранее. Особого сопротивления она не встретила. Московское руководство НКВД рассчитывало на энтузиазм на местах и не ошибалось. “Для действительной очистки Армении просим разрешить дополнительно расстрелять 700 человек из дашнаков и прочих антисоветских элементов”, – обратился в Москву в сентябре 1937 года армянский НКВД. Сталин лично одобрил соответствующее решение. Он и Молотов подписали много подобных распоряжений. Например: “Дать дополнительно Красноярскому краю 6600 чел. лимита по 1й категории. Иосиф Сталин”. На заседании Политбюро в феврале 1938 года НКВД Украины получил разрешение арестовать дополнительно 30 000 “кулацкого и прочего антисоветского элемента”[338].
Часть советских граждан одобрила новые аресты. Внезапное обнаружение огромного числа “врагов”, многие из которых проникли в высшие партийные органы, разумеется, объясняло, почему, несмотря на сталинский “великий перелом”, несмотря на коллективизацию и пятилетний план, страна так и не преодолела бедность и отсталость. Большинство людей, однако, признающиеся в измене знаменитые революционеры и ночные исчезновения соседей привели в такой ужас и смятение, что они не дерзали высказываться о происходящем.
В ГУЛАГе чистка прежде всего сказалась на составе начальников. Многие из них были ликвидированы. Если в памяти страны 1937й остался годом, когда революция пожирала своих детей, то в лагерях он запомнился как год, когда ГУЛАГ уничтожил своих основателей начиная с самого верха: народный комиссар внутренних дел Генрих Ягода, на котором во могом лежит ответственность за расширение лагерной системы, был осужден и расстрелян в 1938м. В прошении о помиловании в адрес Президиума Верховного Совета СССР он просил оставить его в живых. “Тяжело умирать, – писал тот, кто отправил на смерть множество людей. – Перед всем народом и партией стою на коленях и прошу помиловать меня, сохранив мне жизнь”[339].
Заняв место Ягоды, малорослый Николай Ежов немедленно начал избавляться от людей Ягоды в НКВД. Он репрессировал и семью Ягоды – его жену, родителей, сестер, племянников и племянниц, как позднее репрессировал семьи других “врагов народа”. Одна из племянниц вспоминала поведение своей бабушки (матери Ягоды) в тот день, когда ее и всю семью отправляли в ссылку:
– Видел бы Генрих, что делают с нами, – тихо сказал кто-то.
И вдруг бабушка, которая никогда не повышала голоса, обернувшись к пустой квартире, громко крикнула:
– Будь он проклят! – Она переступила порог, и дверь захлопнулась, и звук этот гулко отозвался в лестничном проеме, как эхо материнского проклятия[340].
Многие из лагерных начальников и администраторов, которых продвигал и отличал Ягода, разделили его судьбу. Наряду с сотнями тысяч других советских граждан они были обвинены в участии в антисоветских заговорах, арестованы и осуждены. Их “дела” порой были очень обширны и затрагивали сотни людей. Одно из самых заметных было организовано вокруг Матвея Бермана, руководившего ГУЛАГом с 1932 по 1937 год. Долгие годы верной службы партии (он вступил в нее в 1917м) не помогли ему. В декабре 1938 года Бермана обвинили в том, что он возглавлял правотроцкистскую террористическую и вредительскую организацию, создавал льготные условия в лагерях, срывал “боевую и политическую подготовку” лагерной охраны (чем способствовал побегам) и вредительски задерживал строительство заключенными железных дорог.
Берман пострадал не один. По всей стране крупных гулаговских начальников причисляли к той же “правотроцкистской организации” и скопом приговаривали. Чтение их дел производит какое-то сюрреалистическое впечатление: словно все неудачи прошедших лет – невыполненные задания, кое-как построенные дороги, плохо работающие заводы, возведенные руками заключенных, – достигли здесь некой безумной кульминации.
Например, Александр Израилев, заместитель начальника Ухтпечлага, был осужден за то, что он “тормозил развитие угледобычи”. Полковника Александра Полисонова, работавшего в отделе охраны ГУЛАГа, обвинили в создании невозможных условий для исполнения работниками охраны своих обязанностей. Михаил Госкин, возглавлявший в ГУЛАГе отдел железнодорожного строительства, якобы “занимался вредительством путем составления нереальных планов и срыва постройки дороги Волочаевка – Комсомолец”. На Исаака Гинзбурга, возглавлявшего санитарный отдел ГУЛАГа, возложили вину за высокую смертность среди заключенных; кроме того, он якобы создавал “благоприятные условия к освобождению по болезни осужденных за контрреволюционные преступления”. Большей частью эти люди были приговорены к расстрелу, некоторых отправили в тюрьмы или лагеря, горстка дожила до реабилитации 1955 года[341].
Их судьбу разделило поразительное количество гулаговских руководителей раннего периода. Федор Эйхманс, в прошлом возглавлявший СЛОН, а позднее назначенный заместителем спецотдела ОГПУ, был расстрелян в 1938 году. Второго начальника ГУЛАГа Лазаря Когана казнили в 1939м. Преемник Бермана на посту руководителя ГУЛАГа Израиль Плинер проработал в должности всего год и был расстрелян в 1939м[342]. Система словно бы выискивала тех, на кого можно было свалить вину за ее плохую работу. Хотя, может быть, “система” – не то слово. Может быть, именно Сталин искал виноватых в том, что его замечательные проекты с использованием рабского труда реализуются так медленно и с такими результатами.
Но были и некоторые любопытные исключения из общего жестокого правила. Ибо Сталин контролировал не только то, кто будет арестован, но порой и то, кто не будет арестован. Пули избежал, что интересно, Нафталий Френкель, хотя очень многие из тех, с кем он в разное время работал, погибли. В 1937 году он возглавлял Бамлаг – один из самых губительных и подверженных хаосу лагерей Дальнего Востока. Но хотя в 1938м в Бамлаге было арестовано сорок восемь “троцкистов”, он ухитрился не попасть в их число.
Его отсутствие в списке арестованных тем более странно, что местная газета открыто обвинила его во вредительстве. Тем не менее его таинственно поддержала Москва. Прокурору Бамлага, расследовавшему поведение Френкеля, отсрочка показалась непостижимой. “Мне никак непонятно, почему следствие откладывается Центральным управлением НКВД «до особого указания» и от кого исходят эти указания, – писал он генеральному прокурору СССР Андрею Вышинскому. – Если троцкистов-шпионов-диверсантов не арестовывать, то кого же тогда арестовывать и судить”. Сталин, как видно, умел защищать своих людей[343].
Возможно, самая драматическая расправа с лагерным начальством произошла в конце 1937 году в Магадане и началась с ареста директора “Дальстроя” Эдуарда Берзина. Как прямой подчиненный Ягоды Берзин должен был подозревать, что его карьера скоро оборвется. Ему следовало почуять неладное, когда в декабре к нему явилась целая группа сотрудников НКВД, в том числе старший майор госбезопасности Павлов, чекист более высокого ранга, чем сам Берзин. Хотя Сталин часто сводил таким образом руководителей, которым предстояла опала, с их преемниками, Берзин, по крайней мере внешне, ничего не заподозрил. Когда пароход со зловещим названием “Николай Ежов”, на котором прибыли “гости”, вошел в бухту Нагаева, Берзин встречал их с духовым оркестром. Потом он несколько дней вводил их в курс дела – они же фактически игнорировали его. Вслед за этим он сам взошел на борт “Николая Ежова”.
Из Владивостока Берзин вполне обычным образом – на Транссибирском экспрессе – отправился в Москву. Но, сев на поезд пассажиром первого класса, он прибыл к месту назначения заключенным. Незадолго до Москвы, в Александрове, поезд остановился. Среди ночи 19 декабря 1937 года, не дав Берзину доехать до Москвы, чтобы не привлекать внимания, его арестовали на перроне и отвезли на Лубянку. Очень быстро ему было предъявлено обвинение в создании “Колымской антисоветской, шпионской, повстанческо-террористической, вредительской организации”, переправлявшей золото японскому правительству и готовившей переход советского Дальнего Востока “под протекторат Японии”. Его обвинили, кроме того, в шпионаже в пользу Англии и Германии. Директор “Дальстроя”, если верить чекистам, был невероятно занятым человеком. Его расстреляли в августе 1938го в подвале Лубянской тюрьмы.
Нелепость обвинений не уменьшает трагизма событий. К концу декабря расторопный Павлов арестовал большинство подчиненных Берзина. Начальник Севвостлага И. Г. Филиппов в развернутых показаниях, данных под пыткой, упомянул практически их всех. Признавшись, что “завербовал” Берзина в 1934м, он показал, что созданная ими “антисоветская организация” готовила свержение советского правительства посредством “подготовки вооруженного восстания на Колыме <…> и проведения террористических актов против руководителей Коммунистической партии и советского правительства”. Чуть позже помощник Берзина Лев Эпштейн признался в “сборе секретной информации для Франции и Японии”. Главного врача магаданской больницы обвинили в “связях с иностранными элементами и двурушниками”. В итоге сотни людей, так или иначе связанных с Берзиным, – геологов, чекистов, администраторов, инженеров – были либо расстреляны, либо отправлены в лагеря[344].
Ради верной общей картины следует сказать, что колымская элита не была единственной влиятельной группой, ликвидированной в 1937–1938 годах. К концу этого периода Сталин уничтожил очень многих видных военачальников, втом числе первого заместителя наркома обороны маршала Тухачевского, Иону Якира, Иеронима Уборевича. Пострадали и их жены и дети – большинство из них расстреляли, некоторым дали лагерный срок[345]. Такой же чистке подверглось и партийное руководство. Она затронула не только потенциальных противников Сталина в верхушке компартии, но и провинциальную партийную элиту, наряду с главами местных и региональных советов, директорами крупных заводов и институтов.
Волна арестов в некоторых местах и внутри определенного общественного слоя была такой мощной, что, как писала позднее Елена Сидоркина (ее саму арестовали в ноябре 1937 года), “никто не был уверен в завтрашнем дне. Боялись друг с другом говорить и встречаться, особенно с теми семьями, где отец или мать были «изолированы». А уж выступать с защитой арестованного вообще редко кто отваживался. Если же и находился такой смельчак, тут же сам становился кандидатом на «изоляцию»”[346].
Но расстреляли не всех и не каждый лагерь был вычищен полностью. Как показывает судьба протеже Ягоды В. А. Барабанова, у не столь заметного сотрудника гулаговской администрации шансы уцелеть были даже чуть повыше среднего. В 1935 году, будучи заместителем начальника Дмитлага, Барабанов был арестован вместе с другим чекистом за появление в лагере “в пьяном виде”. Его сняли с должности, он отбыл маленький срок, и в 1938м, когда шли массовые аресты приспешников Ягоды, в суматохе о нем просто забыли. В 1954 году, простив ему слабость к алкоголю, его снова повысили и назначили первым заместителем начальника ГУЛАГа[347].
Но в памяти лагерников 1937й остался не только как год Большого террора, но и как год, когда прекратилась пропаганда “перевоспитания” преступников и сошла на нет вся соответствующая идеалистическая риторика. Отчасти это, возможно, объясняется уходом со сцены тех, кто теснее всех был связан с кампанией. Ягода, чье имя по-прежнему ассоциировалось в массовом сознании с Беломорканалом, был репрессирован. Максим Горький скоропостижно умер в июне 1936го. Л. Авербах, соавтор Горького по “Беломорско-Балтийскому каналу”, был объявлен троцкистом и арестован в апреле 1937го. Его судьбу разделила его сестра И. Авербах, написавшая книгу “От преступления к труду” (1936), и многие писатели, участвовавшие в поездке на Беломорканал[348].
Перемена имела и более глубокие причины. По мере того как политическая риторика становилась все более радикальной, а охота на политических преступников все более оголтелой, менялся и статус лагерей, где содержались эти “опасные” политзаключенные. В стране, охваченной паранойей и шпиономанией, само существование лагерей для “врагов народа” и “вредителей” стало если не полнейшей тайной (в 1940е годы заключенные, строящие дороги и жилые дома, были обычным зрелищем во многих крупных городах), то по крайней мере темой не для публичного обсуждения. Пьеса Николая Погодина “Аристократы” была в 1937 году запрещена. Спектакль по ней вновь появился в афишах – хотя и ненадолго – только в 1956 году[349]. “Беломорско-Балтийский канал” Горького тоже был поставлен на полку запрещенных книг. Какая причина была главной – неясно. Возможно, новое начальство НКВД не могло терпеть трескучую хвалу в адрес поверженного Ягоды. Или, возможно, яркие картины успешного перевоспитания “враждебных элементов” плохо вписывались в действительность, где каждый день появлялись все новые “враги”, которых сотнями тысяч убивали, а не перевоспитывали. Несомненно, истории об умелых и всезнающих чекистах никак не вязались с масштабными чистками в НКВД.
Демонстрируя рвение в деле изоляции врагов режима и не считаясь с расходами, московские начальники ГУЛАГа издали новые инструкции о секретности. Всю корреспонденцию надо было теперь пересылать со спецкурьерами. Только в 1940 году курьеры НКВД переправили 25 миллионов единиц секретной корреспонденции. Те, кто посылал заключенным письма, писали вместо адреса номер почтового ящика, потому что местоположение лагерей стало секретным и даже во внутренней переписке НКВД они эвфемистически именовались теперь “спецобъектами” или “подразделениями”[350].
Для более специфической информации как о лагерях, так и о заключенных, передаваемой “открытым текстом телеграмм”, был разработан особый код. Сохранился документ 1940 года со списком кодированных обозначений. Некоторые из них свидетельствуют о некой творческой изощренности. Слова “беременные женщины” надо было заменять на “книги”, “женщины с детьми” – на “квитанции”. “Мужчин” следовало превращать в “счета”. Ссыльные шли как “макулатура”, подследственные – как “конверты”. Лагерь превращали в “трест”, лагпункт – в “фабрику”. Один из лагерей получил кодовое название “Свободный”[351].
Изменился и внутрилагерный язык. До осени 1937 года в официальных документах и письмах арестантов часто называли по характеру их работы – например, “лесорубами”. К 1940му никаких лесорубов уже не осталось – были только заключенные, или з/к[352]. Группа з/к (зэков) обезличенно называлась “контингент”. Заключенный не мог теперь получить вожделенное звание ударника или стахановца: один лагерный администратор в духе времени потребовал от подчиненных официально называть хороших работников всего-навсего “з/к работающими по-ударному” или “з/к, работающими методами стахановского труда”.
Термин “политический заключенный”, разумеется, давным-давно уже не использовался в сколько-нибудь положительном смысле. Привилегии лагерников-социалистов исчезли с их переводом из Соловков в 1925 году. Слово “политзаключенный” претерпело полную трансформацию. Оно стало обозначать любого приговоренного по печально знаменитой 58й статье Уголовного кодекса, определявшей наказания за “контрреволюционные” преступления, и употреблялось исключительно в отрицательном смысле. “Политических” называли еще КР (контрреволюционерами), контрами, каэрами, контриками и все чаще – врагами народа[353].
Эту якобинскую кличку, впервые использованную Лениным в 1917 году, возродил в 1927м Сталин, применив ее к Троцкому и его сторонникам. Более широкое значение она получила в 1936м, когда ЦК партии направил республиканским и областным парторганизациям закрытое письмо, к которому, по мнению биографа Сталина Дмитрия Волкогонова, вождь непосредственно “приложил руку”. В письме подчеркивалось, что враг народа обычно выглядит “ручным и безобидным”, но при этом делает все, чтобы “потихоньку вползти в социализм”, не принимая его. Иными словами, враг народа может и не высказывать свои взгляды открыто. Лаврентий Берия, возглавивший НКВД позднее, на совещаниях часто высказывал мысль, авторство которой он приписывал Сталину: “Враг народа не только тот, кто вредит, но и тот, кто сомневается в правильности линии партии”. Следовательно, враг народа – это любой, кто критически относится к власти Сталина по какой бы то ни было причине, пусть даже он молчит об этом[354].
Понятие “враг народа” стало официально использоваться в гулаговских документах. Приказ НКВД от 1937 года позволил арестовывать женщин как “жен врагов народа”; так же поступали и с детьми. Возникла официальная аббревиатура ЧСИР – член семьи изменника родины[355]. Многих таких “жен” отправили в Темниковский лагерь (Темлаг) в Мордовии. Анна Ларина, вдова видного советского деятеля Николая Бухарина, вспоминала, что беда уравняла всех – Тухачевских и Якиров, Бухариных и Радеков, Уборевичей и Гамарников[356].
Галина Левинсон, тоже прошедшая через Темлаг, писала, что лагерный режим был сравнительно либеральным: “может быть, потому, что мы были первые и еще не выработалась ривычка относиться к «женам врагов народа» как к остальным заключенным”. Большинство женщин в лагере, отмечает она, были “абсолютно советскими людьми” и считали свой арест результатом какого-то фашистского заговора внутри партии. Некоторые постоянно писали письма Сталину и в ЦК, стремясь довести до их сведения, “что творят органы”[357].
В 1937 году и позднее словосочетание “враг народа” было не только официальным термином, но и ругательством. Со времен Соловков основатели и разработчики лагерной системы взяли на вооружение идею о том, что заключенные – не столько люди, сколько “трудовые единицы”. Еще в период сооружения Беломорканала Максим Горький назвал кулаков “полулюдьми”[358]. Теперь, однако, пропаганда низводила “врагов” к чему-то даже более презренному, чем двуногая скотина. С конца 1930х годов Сталин стал публично называть “врагов народа” “паразитами”, а иногда просто сорняками, которые следует вырвать с корнем[359].
Смысл был понятен: з/к – это не люди в полном смысле слова и уж точно не полноценные советские граждане. Один бывший лагерник отметил, что “заключенные в России совершенно изъяты из всякой политической жизни, они не принимают участия в ее обеднях и обрядах”[360].
С 1937 года конвоиры никогда не называли заключенных “товарищами”, а заключенного могли избить, если он использовал это слово, обращаясь к конвоиру (надо было говорить: гражданин). В лагере или тюрьме на стене никогда нельзя было увидеть портрет Сталина. Довольно обычное для середины 1930х годов зрелище – поезд с заключенными, вагоны которого украшены портретами Сталина, знаменами и стахановскими лозунгами, – после 1937 года было немыслимо, как и празднование заключенными Первого мая, подобное тем, что в свое время проходили на Соловках[361].
Многих иностранцев удивляло сильнейшее действие, которое оказывало на советских заключенных это “изъятие” из советского общества. Француз Жак Росси, прошедший через ГУЛАГ и написавший затем “Справочник по ГУЛАГу” – энциклопедию лагерной жизни, писал, что слово “товарищ” могло воспламенить сердца заключенных, давно его не слышавших: “В конце 40х годов автор был свидетелем, как бригада, отработавшая 1112часовую смену, согласилась остаться на следующую смену только потому, что глава строительства, майор МВД, сказал заключенным: «Прошу вас, товарищи»”[362].
Дегуманизация “политических” имела следствием ясно различимую, а кое-где и катастрофическую перемену в условиях их жизни. ГУЛАГ до 1937 года был, как правило, плохо организован, часто жесток и порой губителен. Случалось тем не менее, что даже политическим заключенным начальство искренне давало возможность “исправиться”. Для работников Беломорканала выпускалась газета с многозначительным названием “Перековка”. В конце пьесы Погодина “Аристократы” происходит “обращение” бывшего вредителя. Флора Липман – дочь уроженки Шотландии, вышедшей замуж за русского, переехавшей в Санкт-Петербург и арестованной за “шпионаж”, побывала в 1934м в северном лесозаготовительном лагере, где мать отбывала срок, и нашла, что “между заключенными и конвоирами еще сохранялся некий элемент человеческих отношений: КГБ пока что не достиг такой искушенности и психологизма, как несколькими годами позже”[363]. Липман писала со знанием дела: она сама “несколькими годами позже” стала заключенной. В 1937 году отношение к заключенным сильно изменилось – особенно к тем, кого арестовали по 58й статье за “контрреволюционные” преступления.
В лагерях “политических” переводили с административных, хозяйственных и инженерных работ на общие, что означало тяжелый физический труд на шахте, прииске или лесоповале: “врагу народа” и потенциальному вредителю нельзя было теперь занимать сколько-нибудь ответственную должность. Новый директор “Дальстроя” Павлов лично подписал приказ, предписывающий использовать заключенного геолога И. С. Давиденко только на общих работах, тщательно контролировать его деятельность и ни в коем случае не позволять ему вести самостоятельную работу[364]. В докладной записке, датированной февралем 1939го, начальник Белбалтлага писал, что проведено “изгнание работников, не внушающих политического доверия”; в частности, от руководства отделами “отстранены бывшие заключенные, судившиеся за контрреволюционные преступления”. На освободившиеся должности “провели выдвижение <…> коммунистов, комсомольцев и проверенных специалистов”[365]. Ясно, что экономической эффективности не придавали теперь в лагерях первостепенного значения.
Лагерные режимы в масштабе всей системы ужесточились не только у “политических”, но и у обычных преступников. В начале 1930х годов хлебный паек на общих работах мог составлять 1 кг в день даже у тех, кто не выполнял норму на 100 процентов, а у ударников – 2 кг. В основных лагпунктах Беломорканала заключенные получали мясо двенадцать раз в месяц, в остальные дни – рыбу[366]. Но к концу десятилетия гарантированный паек уменьшился в два с лишним раза и составлял теперь 400–450 граммов хлеба, а выполняющие норму получали дополнительно всего 200 граммов. Штрафной паек равнялся 300 граммам[367]. Вспоминая о тех годах на Колыме, Варлам Шаламов писал:
В лагере для того, чтобы здоровый молодой человек, начав свою карьеру в золотом забое на чистом зимнем воздухе, превратился в доходягу, нужен срок по меньшей мере от двадцати до тридцати дней при шестнадцатичасовом рабочем дне, без выходных, при систематическом голоде, рваной одежде и ночевке в шестидесятиградусный мороз в дырявой брезентовой палатке <…>. Бригады, начинающие золотой сезон и носящие имена своих бригадиров, не сохраняют к концу сезона ни одного человека из тех, кто этот сезон начал, кроме самого бригадира, дневального бригады и кого-либо еще из личных друзей бригадира[368].
Условия ухудшались еще и потому, что росло количество заключенных – кое-где с ошеломляющей быстротой. Политбюро, надо сказать, попыталось подготовиться к этому росту и в 1937 году предписало ГУЛАГу начать сооружение пяти новых лесозаготовительных лагерей в Республике Коми и других лагерей в отдаленных районах Казахстана. Для ускорения этих работ ГУЛАГу был даже выделен аванс в 10 миллионов рублей. Кроме того, наркоматам обороны, здравоохранения и лесной промышленности было приказано немедленно направить в ГУЛАГ 240 офицеров и политработников, 150 врачей, 400 санитаров, 10 опытных специалистов по лесному хозяйству и “50 выпускников Ленинградской лесотехнической академии”[369].
Тем не менее существующие лагеря опять затрещали по швам: повторилось переполнение начала 1930х. Один бывший заключенный вспоминал, что в Мариинском распредпункте Сиблага, рассчитанном на 250–300 человек, в 1938 году находилось около 17 000 осужденных. Даже если цифра завышена раза в четыре, само преувеличение показывает, насколько остро чувствовалась теснота. Бараков не хватало, и люди рыли землянки, но даже они были так переполнены, что “шагу нельзя было сделать, чтобы не наступить кому-нибудь на руку”. Заключенные отказывались выходить наружу, боясь потерять место на полу. Не хватало мисок, не хватало ложек, к котлам с пищей выстраивались огромные очереди. Началась эпидемия дизентерии, от которой многие умерли.
Позднее на партактиве Сиблага начальство, распекая подчиненных, поминало “страшные уроки 38го года, когда потери дней сводились к астрономическим цифрам”[370]. Согласно официальным данным, по всем лагерям с 1937 по 1938 год “процент умрших к среднесписочному” вырос более чем вдвое. Локальная статистика имеется не везде, но можно предполагать, что в отдаленных северных лагерях – на Колыме, в Воркуте, в Норильске, – куда в больших количествах отправляли “политических”, смертность была намного выше[371].
Но заключенные гибли не только от недоедания и непосильной работы. В новой атмосфере отправка “врагов” в лагерь быстро стала казаться недостаточной мерой: лучше избавляться от них совсем. 30 июля 1937 года НКВД издал приказ “Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов”, содержавший квоты на расстрел, помимо прочего, для лагерей НКВД[372]. 16 августа 1937 года Ежов подписал другой приказ, предписывавший расстреливать заключенных, которые содержались в тюрьмах Главного управления государственной безопасности (ГУГБ). Он потребовал “с 25 августа начать и в двухмесячный срок закончить операцию по репрессированию наиболее активных контрреволюционных элементов, <…> осужденных за шпионскую, диверсионную, террористическую, повстанческую и бандитскую деятельность, а также членов антисоветских партий”[373].
К “контрреволюционерам” он добавил “бандитов и уголовные элементы” на Соловках, которые в 1937м были превращены в спецтюрьму ГУГБ. Для Соловков была установлена квота: расстрелять 1200 заключенных. Очевидец вспоминал день, когда забирали некоторых из них:
В конце октября неожиданно выгнали всех обитателей открытых камер кремля на генеральную поверку. На поверке зачитали огромный список – несколько сотен фамилий – отправляемых в этап. Срок подготовки – два часа. Сбор на этой же площади. Началась ужасная суета. Одни бежали укладывать вещи, другие – прощаться со знакомыми. Через два часа большая часть этапируемых уже стояла с вещами. В это время из изоляторов вывели колонны заключенных с чемоданами и рюкзаками…[374]
Есть сведения, что некоторые взяли с собой ножи и перед расстрелом в урочище Сандормох в Северной Карелии нанесли палачам раны. После этого всех, кого уводили на расстрел, стали раздевать до белья. По результатам операции руководившего ею офицера НКВД наградили ценным подарком. Но прошло несколько месяцев – и его тоже расстреляли[375].
На Соловках заключенных для расстрела выбирали, судя по всему, случайно. Однако в некоторых лагерях начальство воспользовалось возможностью избавиться от особенно “трудных” заключенных. Так, по-видимому, произошло в Воркуте, где многие из отобранных были настоящими троцкистами, а некоторые участвовали в лагерных забастовках и других волнениях. Один очевидец вспоминал, что в начале зимы 1937–1938 года администрация Воркуты поместила примерно 1200 заключенных (главным образом троцкистов и других “политических” плюс небольшое количество уголовников) в здание бездействующего кирпичного завода и большие переполненные палатки. Горячей еды не давали совсем: дневной рацион составляли 400 граммов черствого хлеба[376]. Так их держали до конца марта, когда из Москвы приехала новая группа офицеров НКВД. Они сформировали “специальную комиссию”. Заключенных стали уводить группами по сорок человек. Им говорили, что их перевозят в другое место. Каждому дали кусок хлеба. Люди в палатке слышали, как они уходят, а затем началась стрельба.
В палатках воцарился настоящий ад. Один крестьянин, посаженный за “спекуляцию” (за продажу на базаре собственного поросенка), лежал с открытыми глазами и ни на что не реагировал. “Что общего у меня с вашими политическими?” – стонал он время от времени. Другой заключенный, как утверждает очевидец, покончил с собой. Двое сошли с ума. Когда осталось примерно 100 человек, расстрелы прекратились так же внезапно и необъяснимо, как начались. Люди из НКВД вернулись в Москву. Оставшиеся в живых заключенные вернулись на шахты. Всего в лагере было расстреляно около 2000 арестантов.
Сталин и Ежов не всегда посылали карателей из Москвы. Для ускорения дела НКВД создавал по всей стране “тройки”, действовавшие как в лагерях, так и вне их. “Тройка” обычно состояла из начальника областного НКВД, секретаря обкома партии и областного прокурора. Они получили право приговаривать людей заочно без судьи, присяжных, адвоката и судебного процесса[377].
“Тройки” делали свое дело быстро. 20 сентября 1937 года, в ничем не примечательный день, карельская “тройка” вынесла приговор 231 заключенному Белбалтлага. Если, предположим, рабочий день длился десять часов без перерыва, то на решение судьбы одного человека приходилось менее трех минут. В большинстве своем эти люди получили первые сроки гораздо раньше – в начале 1930х. Теперь их обвинили в новых “преступлениях”, которые, как правило, заключались в плохом поведении или отрицательном отношении к лагерной жизни. Среди них были бывшие политзаключенные в классическом смысле слова – меньшевики, анархисты, социал-демократы; бывшая монахиня, которая “отказывалась работать на Советы”, и раскулаченный, работавший лагерным поваром. Его обвинили в том, что он провоцировал недовольство среди стахановцев. Он якобы специально вначале кормил обычных заключенных, а стахановцев заставлял отстаивать длинные очереди[378].
Истерия длилась не очень долго. В ноябре 1938 года массовые расстрелы как в лагерях, так и по всей стране резко прекратились. Возможно, чистка зашла слишком далеко даже по мнению Сталина. Может быть, просто-напросто поставленные цели были достигнуты. Или же Сталин решил, что по-прежнему некрепкая экономика страны терпит слишком большой ущерб. Так или иначе, в марте 1939 года на партийном съезде он заявил, что в ходе чистки было допущено больше ошибок, чем можно было ожидать[379].
Никто не извинился и не раскаялся, и почти никто не понес наказания. Всего несколько месяцев спустя Сталин разослал всем местным начальникам НКВД циркуляр, где хвалил их за большую работу “по разгрому шпионско-диверсионной агентуры иностранных разведок”. Лишь после этого он указал на некоторые “недостатки” – такие как “глубоко укоренившийся упрощенный порядок расследования”, отсутствие свидетельских показаний, актов экспертизы, вещественных доказательств[380].
Но чистка внутри самого НКВД прекратилась не полностью. В ноябре 1938 года Николай Ежов, на которого возложили вину за “недостатки”, был снят с должности. Позднее его арестовали и расстреляли. Перед казнью, которая совершилась в 1940м, Ежов попросил передать Сталину, что будет умирать с его именем на устах[381].
Подручные Ежова пострадали вместе с ним, как некоторое время назад – приспешники Ягоды. Евгения Гинзбург, сидевшая в тюрьме, однажды увидела, как надзиратель снимает со стены картонку с тюремными правилами. Потом ее повесили обратно, но резолюция в левом углу “Утверждаю. Генеральный комиссар государственной безопасности Ежов” была теперь заклеена белой бумажкой. Перемены на этом не кончились: “В первый раз заклеили фамилию Вайншток <это был начальник тюрьмы> и заменили ее фамилией Антонов. Во второй раз заклеили и Антонова, а на его месте написали: Главное тюремное управление. «Так-то надежнее, – хохотали мы, – менять не придется»”[382].
Производительность труда в лагерной системе продолжала снижаться. В Ухтпечлаге массовые расстрелы, рост числа больных и ослабевших заключенных и потеря специалистов привели к резкому уменьшению выработки в 1936–1937 годах. В июле 1938 года для обсуждения положения дел в Ухтпечлаге была созвана специальная комиссия ГУЛАГа[383]. Упала и производительность золотых приисков Колымы. Даже громадный приок новых заключенных не позволил поднять количество добываемого золота до уровня, сравнимого с прошлыми годами. Перед самым своим падением Ежов предложил увеличить расходы на модернизацию устаревшей золотодобывающей техники “Дальстроя” – как будто дело было в этом[384].
Между тем начальник Белбалтлага, тот самый, кто хвастался своими успехами в очищении административно-хозяйственного штата лагеря от политзаключенных, теперь жаловался на большую нужду в административном и техническом персонале. Чистка, писал он с осторожностью, безусловно, “оздоровила аппарат” лагеря, но она же и “увеличила недокомплект”. Например, в 14м отделении лагеря содержалось 12 500 заключенных, в том числе неполитических только 657, большей частью осужденных за тяжкие уголовные преступления, что тоже исключало их работу на административно-технических или хозяйственных должностях; 184 из 657 были неграмотны или малограмотны, так что для канцелярской и инженерной работы оставалось максимум 70 человек[385].
В целом, согласно статистике НКВД, объем капитальных работ в лагерях упал с 3,5 млрд рублей, запланированных на 1936й, до 2 млрд в 1937 году. Уменьшилась и стоимость валовой промышленной продукции – с 1,1 млрд до 945 млн рублей[386].
Низкая доходность и сильнейшая дезорганизованность большинства лагерей, как и рост в них заболеваемости и смертности, не прошли незамеченными в Москве, где на общих и закрытых партийных собраниях ГУЛАГа лагерная экономика обсуждалась чрезвычайно откровенно. В апреле 1938 года один из ораторов раскритиковал “хаос и безобразие” в лагерях Республики Коми. Он также заявил, что “Норильск спроектирован неправильно, много денег затрачено впустую”. А вот слова другого руководителя: “Успехами ГУЛАГ не может гордиться, особенно по лесу. При тех затратах, которые мы сделали, мы могли бы иметь больше. <…> Наши лагеря организовывались без системы, некоторые капитальные здания построены на болоте, их теперь переносят”.
К апрелю 1939 года критика усилилась. В северных лагерях, по словам одного участника собрания, сложилось исключительно тяжелое положение с продовольствием. “Это привело к тому, что огромный процент слабосилки там имеется, огромный процент категории неработающих, большой процент смертности, болезней и т. д.”[387] В том же году Совнарком признал, что до 60 процентов лагерников страдает пеллагрой и другими болезнями, связанными с плохим питанием[388].
Разумеется, Большой террор не был единственным виновником этих бед. Как уже отмечалось, даже лесозаготовительные лагеря Френкеля, которыми так восхищался Сталин, никогда не были по-настоящему рентабельными[389]. Труд заключенных всегда был и будет гораздо менее производительным, чем труд свободных людей. Но этот урок еще не был усвоен. После смещения Ежова в ноябре 1938го его преемник на посту наркома внутренних дел Лаврентий Берия почти сразу принялся менять лагерные режимы и правила, упрощать процедуры с тем, чтобы вернуть лагеря туда, где хотел их видеть Сталин, – в сердцевину советской экономики.
Берия пока еще не понимал, что лагерная система как таковая убыточна и расточительна по природе своей. Он, по-видимому, объяснял недостатки тем, что прежние ее руководители были некомпетентными людьми. Ныне он был полон решимости превратить лагеря в подлинно прибыльную часть советской экономики.
Ни тогда, ни позже Берия не освободил из лагерей сколько-нибудь значительного числа несправедливо осужденных (хотя из тюрем некоторые были выпущены). Ни тогда, ни позже лагеря не стали более гуманными. Дегуманизация “врагов народа” проявлялась в языке конвоиров и лагерного начальства до самой смерти Сталина. Бесчеловечное обращение с “политическими”, да и с осужденными по другим статьям, продолжалось: в 1939 году под пристальным взором Берии заключенные начали работать на урановых рудниках Колымы практически без всякой защиты от радиации[390]. Берия изменил систему только в одном: он приказал лагерным начальникам оставлять больше заключенных в живых и эффективней их использовать.
На практике, хотя новая политика нигде четко не зафиксирована, Берия отменил запрет на привлечение “каэров”, обладающих инженерной, научной или технической квалификацией, к работе на технических должностях в лагерях. На местах, однако, лагерные начальники по-прежнему опасались широко использовать “политических” как специалистов, и эти опасения сохранились до кончины ГУЛАГа в середине 1950х. Даже в 1948 году различные подразделения органов госбезопасности все еще спорили о том, допустимо ли такое использование: одни утверждали, что это слишком опасно политически, другие указывали, что лагерям без этого очень трудно обходиться[391]. Хотя Берия не разрешил дилемму полностью, он настойчиво стремился сделать лагеря НКВД производительной частью советской экономики и поэтому не мог согласиться с тем, чтобы все видные ученые и инженеры ГУЛАГа теряли конечности, отмораживая их на общих работах в северных лагерях. В сентябре 1938 года он начал создавать так называемые шарашки – мастерские и научные лаборатории, где работали заключенные специалисты. Солженицын, побывавший в такой шарашке, описал одну из них – “особый таинственный номерной научно-исследовательский институт” – в романе “В круге первом”:
В старое здание подмосковной семинарии, загодя обнесенное колючей проволокой, привезли полтора десятка зэков, вызванных из лагерей. <…> Шарашка тогда еще не знала, что ей нужно исследовать, и занималась распаковкой многочисленных ящиков, притянутых тремя железнодорожными составами из Германии; захватывала удобные немецкие стулья и столы; сортировала устаревшую и доставленную битой аппаратуру…[392]
В документах НКВД шарашки назывались “особыми конструкторскими бюро”, и с некоторого момента ими ведал 4й спецотдел НКВД. Всего в них работало около 1000 человек. В некоторых случаях Берия лично выискивал в лагерях талантливых ученых и приказывал доставить их в Москву. Их отводили в баню, стригли, брили, давали им отдых, а затем отправляли работать в тюремные лаборатории. В числе самых важных “находок” Берии был авиационный инженер Туполев. Он прибыл в шарашку с вещмешком, в котором лежали пайка хлеба и несколько кусочков сахара, и не хотел расставаться с этими запасами даже после того, как ему сказали, что кормить теперь будут лучше.
Туполев, в свой черед, дал Берии список других арестованных специалистов. В их числе были ведущий советский конструктор реактивных двигателей Валентин Глушко и будущий создатель спутников, основоположник всей советской космической программы Сергей Королев. О Королеве сидевшие с ним заключенные вспоминали, что он вернулся на Лубянку после семнадцати месяцев на Колыме истощенный и измученный, цинга лишила его многих зубов[393]. Тем не менее в отчете 4го спецотдела, подготовленном в августе 1944 года, перечислены двадцать важных технических новинок в военной области, спроектированных в шарашках. Некоторые из этих новых видов оружия уже использовались на фронтах Второй мировой войны[394].
Кое в чем правление Берии принесло облегчение и рядовым зэкам. Нормы питания в целом временно увеличились. Как Берия указал в апреле 1938 года, лагерная норма в 2000 калорий в день была в свое время установлена для людей, сидящих в тюрьме и не работающих. На деле даже этот скудный рацион уменьшается на 30–35 процентов из-за воровства, обмана и наказаний за низкие трудовые показатели. Поэтому многие заключенные голодают. Берия выразил об этом сожаление – не потому что он им сочувствовал, а потому что высокая заболеваемость и смертнось могли помешать НКВД выполнить производственный план на 1939 год. Берия попросил утвердить новые нормы питания с тем, чтобы “физические возможности лагерной рабочей силы можно было использовать максимально на любом производстве”[395].
Хотя нормы были повышены, нельзя сказать, что при Берии к заключенным стали относиться человечнее. Наоборот, было сделано еще несколько шагов по пути превращения арестантов из людей в “рабочие единицы”. В лагере их по-прежнему могли расстрелять, но теперь уже не только за контрреволюционные настроения, но и за отношение к работе. Тем, кто прогуливал, отказывался работать или активно дезорганизовывал общий труд, грозили “суровые меры принуждения: усиленный лагерный режим, карцер, худшие материально-бытовые условия и другие меры дисциплинарного воздействия”. “Отказчику” могли вынести новый приговор – вплоть до расстрела[396].
Местные прокуроры немедленно начали заниматься случаями отказа. Например, в августе 1939 года за отказ от работы и соответствующую агитацию среди других заключенных один лагерник был расстрелян. В октябре три содержавшиеся в лагере женщины, по всей видимости православные, были обвинены в отказе от работы и в пении под видом религиозных стихов “контрреволюционных песен”. Двух из них расстреляли, третьей дали новый срок[397].
Три года Большого террора оставили и другой след. С этих пор никогда ГУЛАГ не рассматривал заключенного как человека, способного к исправлению. Система досрочного освобождения за хорошее поведение была отменена. Ей положил конец сам Сталин своим единственным известным нам публичным вмешательством в повседневную жизнь лагерей. Выступая в 1938 году на заседании Президиума Верховного Совета, он сказал:
Нельзя ли придумать какую-нибудь другую форму оценки их работы – награды и т. д.? Мы плохо делаем, мы нарушаем работу лагерей. Освобождение этим людям, конечно, нужно, но с точки зрения государственного хозяйства это плохо. <…> Будут освобождаться лучшие люди, а оставаться худшие[398].
Указ по этому вопросу был утвержден в июне 1939 года. Несколько месяцев спустя тем же указом было отменено условно-досрочное освобождение для инвалидов. Соответственно, возросло количество больных заключенных. Главными стимулами для хорошей работы в лагерях должны были стать “улучшенное снабжение и питание”, а также денежные и иные награды, которые Сталин считал такими привлекательными для арестантов. В частности, в 1940 году был учрежден нагрудный значок “Отличнику дальстроевцу”[399].
Некоторые из этих нововведений были откровенно противоправны и встретили определенное сопротивление. Генеральный прокурор Вышинский и нарком юстиции Рычков были против как отмены досрочного освобождения, так и смертной казни за “дезорганизацию лагерной жизни”. Но Берию, как ранее Ягоду, явно поддерживал Сталин, и точка зрения Берии возобладала. НКВД, помимо прочего, получил право с 1 января 1940 года снять всех заключенных с объектов других ведомств (летом 1939го их насчитывалось около 130 000). Берия был твердо намерен сделать ГУЛАГ подлинно прибыльным[400].
Нововведения Берии поразительно быстро дали отдачу. В последние месяцы перед Второй мировой войной экономическая активность НКВД снова начала расти. В 1939 году план капитальных работ в системе НКВД составлял 4,2 млрд рублей, в 1940м – 4,5 млрд. В годы войны, когда приток заключенных увеличился, эти цифры росли еще быстрее[401]. Согласно официальной статистике, смертность в лагерях уменьшилась с 5 процентов в 1938 году до 3 процентов в 1939 году, хотя количество заключенных продолжало увеличиваться[402].
Лагерей теперь было гораздо больше, чем раньше, и они были намного крупнее, чем в начале десятилетия. С 1 января 1935 года по 1 января 1938го число заключенных почти удвоилось (с 950 000 оно выросло до 1,8 млн). Еще миллион человек находился в ссылке[403]. Лагеря, состоявшие из нескольких хибар, обнесенных колючей проволокой, превратились в настоящих промышленных гигантов. Севвостлаг, главный лагерь “Дальстроя”, в 1940 году насчитывал почти 200 000 заключенных[404]. В угледобывающем Воркутлаге, развившемся из “Рудника № 1” Ухтпечлага, в 1938 году было 15 000 заключенных; в 1951м их стало уже более 70 000.
Возникли и новые лагеря. Возможно, самым суровым из них стал заполярный Норильлаг, расположенный на богатейшем месторождении никеля – вероятно, крупнейшем в мире. Заключенные Норильлага не только добывали никель, но и строили Норильский медно-никелевый комбинат и электростанции. Они построили и город Норильск, где жили сотрудники НКВД, руководившие работами на рудниках и заводах. Как и его предшественники, Норильлаг быстро рос. В 1935 году в нем было 1200 осужденных, в 1940м – 19 500. Самая большая цифра – 68 849 человек – относится к 1952 году[405].
В 1937 году был создан Каргопольлаг в Архангельской области, в 1938м – Вятлаг в центре России и Краслаг в Красноярском крае. Все они специализировались главным образом на лесозаготовках, но были там и предприятия другого профиля – кирпичные и деревообрабатывающие заводы, мебельные фабрики. Все эти лагеря за 1940е годы удвоили или утроили количество заключенных, которое к концу десятилетия составляло в каждом примерно 30 000[406].
Были и другие лагеря, которые открывались, закрывались, реорганизовывались так часто, что число заключенных в том или ином году установить довольно трудно. Некоторые – совсем маленькие, созданные ради нужд какого-либо завода, фабрики или стройки. Другие – временные, служившие для строительства автомобильных или железных дорог и прекращавшие существование потом. Чтобы руководить этим большим и сложным хозяйством, ГУЛАГ создал подразделения: Главное управление лагерей промышленного строительства, Главное управление лагерей железнодорожного строительства, Главное управление лагерей лесной промышленности и так далее.
Но изменились не только масштабы. С конца 1930х годов все лагеря носили чисто производственный характер – никаких больше садов и фонтанов, как в Вишлаге, никакой идеалистической пропаганды вроде той, что сопровождала освоение Колымы, никаких работников из числа заключенных на всех уровнях лагерной жизни. Ольга Васильева, выполнявшая в конце 1930х и в 1940е годы административную, инженерную и инспекторскую работу на дорожных стройках ГУЛАГа, вспоминала, что в ранний период “меньше было охраны, меньше было оперативников, меньше обслуги <…> В 1930х годах многих заключенных привлекали на всякие работы – писарем, парикмахером, охрана была из заключенных”. Однако в конце 1930х и в 1940е годы положение изменилось: “Все это приобрело массовый характер <…> раньше было мягче <…> чем больше лагеря расширялись, чем больше начались события ближе к 1937 году, тем больше режим ужесточался”[407].
Можно сказать, что к концу 1930х годов советская лагерная система приобрела законченную форму. К тому времени она присутствовала почти во всех республиках, краях и областях Советского Союза, во всех его двенадцати часовых поясах. Любой крупный населенный пункт – от Актюбинска до Якутска – теперь имел свой собственный лагерь или колонию. Труд лагерников использовался во всевозможном производстве – от изготовления детских игрушек до строительства военных самолетов. Во многих местах Советского Союза 1940х годов трудно было, идя по своим повседневным делам, не встретить заключенных.
Что еще более важно, лагеря изменились качественно. Это была уже не совокупность отдельных строек и предриятий, управляемых в каждом случае по-своему, а полноценный “лагерно-производственный комплекс” со своими внутренними правилами и обычаями, с особой внутрилагерной системой распределения и иерархией. Громадный бюрократический аппарат, тоже выработавший свою специфическую “культуру”, управлял обширной империей ГУЛАГа из Москвы. Центр постоянно посылал на места директивы, касающиеся как общей политики, так и частностей. Хотя отдельно взятые лагеря не всегда исполняли инструкции в точности (порой это было просто невозможно), импровизация раннего ГУЛАГа навсегда ушла в прошлое.
Судьбы заключенных были все еще подвержены колебаниям: на них воздействовали политика, экономика и прежде всего ход Второй мировой войны. Однако эпоха проб и экспериментов была позади. Система сформировалась. Все то, что заключенные называли “мясорубкой”: арест, допрос, перевозка, питание, работа, – к началу 1940х годов обрело незыблемые очертания. По существу здесь очень мало что изменилось до смерти Сталина.
ГУЛАГ в годы расцвета. 1939–1953 годы
Часть вторая
Жизнь и труд в лагерях
Глава 7
Арест
Мы никогда не спрашивали, услыхав про очередной арест: “За что его взяли?”, но таких, как мы, было немного. Обезумевшие от страха люди задавали друг другу этот вопрос для чистого самоутешения: людей берут за что-то, значит, меня не возьмут, потому что не за что! Они изощрялись, придумывая причины и оправдания для каждого ареста, – “Она ведь действительно контрабандистка”, “Он такое себе позволял”, “Я сам слышал, как он сказал…” И еще: “Надо было этого ожидать – у него такой ужасный характер”, “Мне всегда казалось, что с ним что-то не в порядке”, “Это совершенно чужой человек” <…> Вот почему вопрос “За что его взяли?” – стал для нас запретным. “За что? – яростно кричала Анна Андреевна, когда кто-нибудь из своих, заразившись общим стилем, задавал этот вопрос. – Как за что? Пора понять, что людей берут ни за что…”
Н. Я. Мандельштам. Воспоминания
Анна Ахматова – поэтесса, процитированная выше вдовой поэта, – была и права и не права. С одной стороны, с середины 1920х годов, когда аппарат советской репрессивной системы сформировался, власть уже не хватала людей на улице и не бросала их в тюрьмы без всяких объяснений: были арест, следствие, суд и приговор. С другой стороны, “преступления”, за которые людей арестовывали, судили и приговаривали, были полностью надуманными, а процедуры следствия и суда – абсурдными, даже сюрреалистическими.
Охватывая советскую лагерную систему ретроспективным взглядом, понимаешь, что это была одна из ее специфических черт: большую часть заключенных поставляла в нее судебная машина, пусть и весьма необычная. Евреев в оккупированной нацистами Европе никто не судил и не приговаривал; между тем подавляющее большинство советских лагерников проходило через следствие (пусть оно и было поверхностным) и суд (пусть он и был фарсом), который выносил приговор (пусть это и занимало меньше минуты). Сотрудниками карательных органов, как и надзирателями и лагерным начальством, от которых позднее зависела жизнь арестованного, несомненно, двигала, помимо прочего, убежденность в том, что все делается по закону.
Но повторяю: из того, что репрессивная система была по видимости судебной, не следует, что она была подчинена стройной логике. Наоборот: в 1947 году было не легче, чем в 1917м, предсказать хоть сколько-нибудь определенно, кого арестуют, а кого нет. Правда, можно было определить, кто находится под угрозой ареста. Выбор жертвы – особенно на гребне террора – отчасти диктовался тем, что человек по той или иной причине попадал в поле зрения “органов”: сосед услышал его рискованную шутку, начальник донес о его “подозрительном” поведении; однако еще более важна была принадлежность к той или иной из категорий населения, которые в тот момент находились под ударом.
Некоторые из этих категорий были более или менее четко очерчены (в конце 1920х – инженеры и специалисты, в 1931м – кулаки, во время Второй мировой войны – поляки и прибалтийцы с оккупированных территорий); другие имели очень расплывчатые границы. К примеру, в 1930е и 1940е годы под неизменным подозрением находились граждане других стран и люди, имевшие те или иные связи с заграницей, подлинные или мнимые. Независимо от их поведения им всегда угрожал арест; особенному риску подвергались иностранцы, каким-либо образом выделявшиеся из общей массы. Роберт Робинсон, один из нескольких американских коммунистов негритянского происхождения, поселившихся в Москве в 1930е годы, позднее писал: “Все известные мне чернокожие, ставшие в начале 1930х советскими гражданами, исчезли из Москвы в течение семи лет”[408].
Дипломаты не были исключением. Американский гражданин Александр Долган, занимавший одну из младших должностей в американском посольстве в Москве, пишет в мемуарах, как в 1948 году его арестовали на улице и несправедливо обвинили в шпионаже. Подозрение пало на него отчасти потому, что он, будучи молодым человеком, любил уходить от “хвостов” НКВД; кроме того, шоферы посольства, поддаваясь на его уговоры, иногда давали ему на время машины. В результате “органы” решили, что должность не отражает его истинного занятия. Он провел в лагерях восемь лет и вернулся в США только в 1971 году.
Часто жертвами становились иностранные коммунисты. В феврале 1937 года Сталин зловеще сказал генеральному секретарю исполкома Коминтерна Георгию Димитрову: “Все вы там, в Коминтерне, работаете на руку противнику”. Из 394 членов исполкома на январь 1936 года на свободе к апрелю 1938го остался только 171 человек. Остальных либо расстреляли, либо отправили в лагеря. Среди них были люди многих национальностей – немцы, австрийцы, югославы, итальянцы, болгары, финны, прибалтийцы, даже англичане и французы. Непропорционально сильно пострадали евреи. Сталин уничтожил больше членов политбюро Компартии Германии, чем Гитлер: из шестидесяти восьми немецких коммунистических лидеров, эмигрировавших в СССР после прихода нацистов к власти, сорок один погиб либо от пули, либо в лагерях. Еще больший урон, судя по всему, понесла Компартия Польши. Согласно одной оценке, весной и летом 1937 года было казнено 5000 польских коммунистов[409].
Но иностранными коммунистами дело не ограничилось: Сталин жестоко обошелся с иммигрантами вообще. Возможно, самой многочисленной их группой были 25 000 “американских финнов”. Некоторые из них родились в США, другие эмигрировали в эту страну; во время Великой депрессии 1930х годов эти люди переехали в СССР. Большую их часть составляли рабочие, многие были в США безработными. Обманутые советской пропагандой (среди финноязычных американцев работали советские вербовщики, расхваливавшие условия жизни и возможности трудоустройства в Советском Союзе), они потянулись в советскую Карелию. Почти сразу они создали трудности для властей. Карелия, как выяснилось, имела очень мало общего с Америкой. Многие громко возмущались, затем пытались вернуться в США – и в конце 1930х оказались в ГУЛАГе[410].
Неменьшим подозрением были окружены советские граждане, имевшие связи с заграницей, прежде всего члены “национальных диаспор” – поляки, немцы, карельские финны, у которых были за рубежом знакомые и родственники, а также разбросаные по СССР прибалтийцы, греки, иранцы, корейцы, афганцы, китайцы и румыны. Согласно архивам НКВД, с июля 1937 года по ноябрь 1938 года было осуждено 335 513 представителей “подозрительных национальностей”[411]. Подобные кампании, как мы увидим, проводились и позже – во время войны и после нее.
Чтобы попасть под подозрение в шпионаже, вовсе не обязательно было говорить на иностранном языке. Опасна была любая связь с зарубежным миром. Арестовывали филателистов, эсперантистов, тех, кто переписывался с заграничными знакомыми, тех, у кого были “там” родственники. Всех советских граждан, работавших на Китайско-Восточной железной дороге, которая была проложена через Маньчжурию еще в царские времена, арестовали и обвинили в шпионаже в пользу Японии. В лагерях их называли харбинцами, поскольку многие из них жили в Харбине[412]. Роберт Конквест пишет об аресте оперной певицы, танцевавшей на официальном приеме с японским послом, и ветеринара, лечившего собак иностранцев[413].
К концу 1930х годов рядовые советские граждане в большинстве своем поняли, что к чему, и стали избегать любого общения с иностранцами. Хорватский коммунист Карло Стайнер, женившийся на русской, вспоминал: “Русские редко отваживались вступать в личное общение с иностранцами. <…> Родственники жены оставались для меня по существу чужаками. Никто из них не осмеливался прийти к нам в гости. Когда ее родные узнали о нашем намерении пожениться, все они предостерегали Соню…”[414] Даже в середине 1980х, когда я в первый раз приехала в Советский Союз, многие русские относились к иностранцам настороженно – избегали их.
Впрочем, не всех иностранцев арестовали и не все обвиненные в связях с заграницей действительно имели такие связи. Случалось, что людей забирали по гораздо более специфическим причинам[415]. Поэтому на вопрос “За что?”, которого так не любила Анна Ахматова, можно было получить поразительно разнообразные ответы.
Поэт Осип Мандельштам, муж Надежды Мандельштам, был арестован за стихотворение о Сталине:
- Мы живем, под собою не чуя страны,
- Наши речи за десять шагов не слышны,
- А где хватит на полразговорца, –
- Там припомнят кремлевского горца.
- Его толстые пальцы, как черви, жирны,
- А слова, как пудовые гири, верны.
- Тараканьи смеются усища,
- И сияют его голенища.
- А вокруг его сброд тонкошеих вождей,
- Он играет услугами полулюдей.
- Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
- Он один лишь бабачит и тычет.
- Как подковы кует за указом указ –
- Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
- Что ни казнь у него, – то малина
- И широкая грудь осетина.
Татьяну Окуневскую, популярную советскую киноактрису, арестовали, как она считала, за отказ стать любовницей Виктора Абакумова, возглавлявшего с 1943 года советскую контрразведку. Чтобы она поняла истинную причину, ей, утверждает она, показали лист бумаги с надписью “Вы подлежите аресту” и подписью Абакумова[416]. Четверо известных футболистов и тренеров – братья Старостины, арестованные в 1942м, пострадали, по их мнению, из-за успехов их команды “Спартак”, раздражавших Лаврентия Берию, который болел за “Динамо”[417].
Но можно было и не быть известным человеком. Людмилу Хачатрян арестовали за то, что она вышла замуж за иностранца – югославского военного. Лев Разгон пишет о крестьянине Серегине, который, узнав об убийстве Кирова, сказал: “Ну и фуй с ним”. Серегин никогда не слышал о Кирове и решил, что кто-то погиб в драке в соседней деревне. За эту ошибку ему дали десять лет[418]. В 1939 году можно было получить лагерный срок за шутку о Сталине; за то, что кто-то пошутил о нем при тебе; за опоздание на работу; за то, что запуганный знакомый или завистливый сосед назвал тебя “соучастником” несуществующего заговора; за то, что у тебя четыре коровы, а у большинства твоих односельчан по одной; за кражу пары обуви; за родство с женой Сталина; за то, что ты взял на работе ручку и немного бумаги и отдал школьнику, у которого не было ни того ни другого. По постановлению 1940 года родственники человека, попытавшегося совершить побег за границу, подлежали аресту, знали они об этой попытке или нет[419]. Законы военного времени, каравшие человека за опоздание на работу и запрещавшие переход с одной работы на другую, создавали, как мы увидим, дополнительный контингент “преступников”.
Многообразны были не только причины, но и способы ареста. Некоторые жертвы не испытывали недостатка в предостережениях. В течение нескольких недель до ареста Александра Вайсберга в середине 1930х сотрудник “органов” неоднократно вызывал его на допрос и раз за разом спрашивал, как он пришел к “шпионской” деятельности. Кто вас завербовал? Кого вы завербовали? На какие иностранные организации вы работаете? “Он много раз задавал одни и те же вопросы и получал от меня одни и те же ответы”[420].
Примерно в то же время Галину Серебрякову, автора книги “Юность Маркса” и жену известного советского деятеля Г. Я. Сокольникова, каждый вечер “приглашали” на Лубянку, заставляли ждать до двух или трех утра, затем допрашивали и отпускали домой в пять утра. Около дома, где она жила, стояли агенты в штатском, а когда она шла куда-нибудь, за ней следовала черная машина. Арест представлялся ей неизбежным, и она пыталась покончить с собой. После нескольких месяцев такой жизни ее действительно арестовали[421].
Во время мощных волн массовых арестов в 1929–1930 годах, когда высылали “кулаков”, в 1937–1938 годах, когда шла чистка в партии, в 1948м, когда выпущенных брали по второму разу, многие понимали, что скоро придет их очередь, просто потому, что арестовывали всех вокруг. Элинор Липпер, голландская коммунистка, приехавшая в Москву в 1930е, в 1937 году жила в гостинице “Люкс”, специально предназначенной для зарубежных революционеров. “Каждую ночь из гостиницы исчезало еще несколько человек <…> Утром еще несколько дверей были опечатаны большими красными печатями”[422].
Во времена подлинного ужаса арест порой воспринимался как облегчение. Футбольного тренера Николая Старостина агенты сопровождали несколько недель. В конце концов он разозлился и подошел к одному из них: “Скажите своему начальнику, что, если ему надо что-нибудь узнать, он может пригласить меня к себе”. В момент ареста он испытал не страх, не удивление, не шок, а “тревожное любопытство”[423].
Но других арест заставал врасплох. Польского писателя Александра Вата, жившего во Львове на присоединенной к СССР территории, пригласили в ресторан, где должна была собраться группа писателей. Он спросил пригласившего, по какому поводу встреча. “Увидите”, – сказали ему. Была инсценирована драка, и его арестовали на месте[424]. Сотрудника американского посольства Александра Долгана окликнул на улице человек, оказавшийся сотрудником “органов”[425]. Актриса Окуневская, когда за ней пришли, лежала с высокой температурой. Она попросила подождать хотя бы дня два, но ей показали ордер с подписью Абакумова и стащили ее по лестнице[426]. Солженицын приводит, возможно, апокрифическую историю о женщине, пригласившей следователя, который за ней ухаживал, в Большой театр. После спектакля “друг” повез ее прямо на Лубянку[427]. Автор лагерных мемуарв Нина Гаген-Торн приводит рассказ женщины, арестованной, когда она снимала с веревки белье в ленинградском дворе; она выскочила в халате, оставив ребенка дома одного. Никакие ее мольбы не помогли[428].
Создается впечатление, что власти нарочно варьировали тактику: одних брали дома, других на улице, третьих на работе, четвертых в поезде. Это предположение подтверждает докладная записка Сталину от Виктора Абакумова, датированная 17 июля 1947 года. Там говорится, что органы стремятся обеспечить “внезапность производства ареста – в целях: а) предупреждение побега или самоубийства; б) недопущение попытки поставить в известность сообщников; в) предотвращение уничтожения уликовых данных”. В некоторых случаях, продолжает Абакумов, “производится секретный арест на улице или при каких-либо других специально придуманных обстоятельствах”[429].
Чаще всего, впрочем, людей арестовывали дома глухой ночью. Во времена массовых арестов страх перед ночным стуком в дверь был повсеместным. Есть старый советский анекдот про мужа и жену, ужаснувшихся, когда ночью в дверь постучали, и облегченно вздохнувших, когда оказалось, что это всего-навсего сосед с вестью о том, что дом горит. Согласно поговорке тех лет, “воры, проститутки и НКВД обычно работают ночью”[430]. Как правило, эти ночные аресты сопровождались обысками, тактика которых тоже не была неизменной. Осип Мандельштам подвергался аресту дважды – в 1934 и 1938 году; его жена так описывает разницу:
В 38м никто ничего не искал и не тратил времени на просмотр бумаг. Агенты даже не знали, чем занимается человек, которого они пришли арестовать. Небрежно перевернули тюфяки, выкинули на пол все вещи из чемодана, сгребли в мешок бумаги, потоптались и исчезли, уведя с собой О. М. В 38м вся эта операция длилась минут двадцать, а в 34м – всю ночь до утра.
В 1934 году агенты явно знали, что они ищут. Они внимательно просмотрели все бумаги Мандельштама. Старые рукописи откладывали в сторону – их интересовали стихи последних лет. При первом аресте присутствовали понятые, а также знакомый литератор, оказавшийся штатским помощником “органов”. Он весь вечер просидел у Мандельштамов в гостях – видимо, для того чтобы хозяева, “услыхав стук, не успели уничтожить каких-нибудь рукописей”[431]. В 1938м такие мелочи чекистов уже не заботили.
Массовые аресты людей той или иной национальности – как, например, в Восточной Польше и Прибалтике, оккупированных Красной армией в 1939–1941 годах, – обычно проходили еще более хаотически. Януша Бардаха, еврейского юношу из польского города Владимира-Волынского, заставили во время одного из таких массовых арестов быть понятым. В ночь на 5 декабря 1939 года группа пьяных энкавэдэшников водила его от дома к дому и забирала людей, подлежавших аресту или высылке. Часть арестованных составляли зажиточные горожане с хорошими связями, чьи фамилии значились в списке, но хватали и беженцев – как правило, евреев, пришедших из оккупированной нацистами Западной Польши в оккупированную советскими войсками Восточную Польшу, – даже не записывая их имена. В одном доме беженцы, пытаясь защититься от ареста, назвали себя членами Бунда – еврейской социалистической организации. Но услышав, что они из Люблина, находившегося тогда по ту сторону границы, начальник посланной НКВД группы (его звали Геннадий) заорал:
“Поганые перебежчики! Нацистские шпионы!” Дети заплакали, и это разъярило Геннадия еще сильней: “Пусть они заткнутся, не то я сам ими займусь!”
Мать притянула их к себе, но они плакали не переставая. Геннадий схватил мальчика за руки, выдернул из материнских объятий и кинул на пол. “Заткнись, тебе говорят!” Мать голосила. Отец пытался что-то сказать, но только хватал ртом воздух. Геннадий поднял мальчика, подержал, пристально посмотрел ему в лицо и с силой бросил его о стену…
Потом чекисты разгромили дом друзей Бардаха:
Сбоку была дверь в кабинет доктора Шехтера. Посреди кабинета стоял его потемневший письменный стол красного дерева, и Геннадий пошел прямо к столу. Он провел по гладкому дереву рукой и вдруг в приступе ярости хватил по нему железным прутом. “Буржуазная свинья! Паразиты! Найдем мы вас, найдем, эксплуататоры поганые!” Он бил все сильней и сильней без остановки, оставляя вмятины на деревянной поверхности…
Не найдя Шехтеров, чекисты изнасиловали и убили жену садовника.
Часто такие операции проводили не специально обученные сотрудники НКВД, каким поручали “нормальные” аресты “нормальных” преступников, а конвоиры, сопровождавшие эшелоны с депортируемыми. Насилие вряд ли санкционировалось официально: просто советским военнослужащим при аресте “капиталистов” на буржуазном “Западе” пьянство, буйство и даже изнасилование сходило с рук, как сходило им все это с рук позднее, во время продвижения Красной армии через Польшу и Германию[432].
Однако некоторые аспекты поведения арестующих жестко диктовались им сверху. В частности, в ноябре 1940 года Главное управление конвойных войск НКВД СССР постановило, что сотрудники, проводящие арест, должны говорить арестуемым, чтобы они брали с собой запас теплой одежды в расчете на три года: казенной одежды в стране не хватало[433]. Ранее арестующих обычно инструктировали, чтобы они не сообщали людям, куда их увозят, и не создавали у них впечатления, что их увозят надолго. Говорилось примерно следующее: “Не беспокойтесь, ничего с собой не берите. Зададут пару вопросов и отпустят”. Депортируемым иногда говорили, что их просто перемещают в другой район, подальше от границы, для их же защиты[434]. Делалось это для того, чтобы арестанты меньше пугались, не сопротивлялись, не пытались убежать. В результате люди не брали с собой необходимого, что помогло бы им выжить в условиях сурового климата.
Арестованный входит в свою первую камеру. Рисунок Томаса Сговио, законченный после освобождения
Польским крестьянам, впервые сталкивавшимся с советским режимом и верившим этой лжи, подобная наивность еще простительна; однако точно такие же приемы безотказно действовали на многих московских и ленинградских интеллигентов и партийных работников, уверенных в своей невиновности и в том, что все быстро уладится. Евгении Гинзбург, которая жила в Казани и была женой видного партийного начальника, при аресте сказали, что ее задержат минут на сорок, самое большее на час. В результате она даже не попрощалась с детьми[435]. Партийная работница Елена Сидоркина шла по улице к зданию НКВД с пригласившим ее туда следователем, “мирно разговаривая” с ним и надеясь, что ее отпустят после короткой беседы[436].
Софье Москвиной-Бокий, бывшей жене чекиста Глеба Бокия, при аресте отсоветовали брать с собой пальто: “Зачем? Сейчас тепло, самое позднее – через час мы вернемся обратно”. Это побудило писателя Льва Разгона, приходившегося ей зятем, к размышлению о странной жестокости системы: “Почему надо было немолодую и нездоровую женщину забирать в тюрьму даже без маленького узелка с бельем и туалетными принадлежностями, которые всегда, со времен фараонов, разрешалось брать с собой?”[437]
Жене актера Георгия Жженова, впрочем, хватило здравого смысла дать ему с собой теплые вещи. Когда ее стали уверять, что он скоро вернется, она сказала: “Нет. Кто к вам попадает, скоро не возвращается”[438]. Она была права. Между днем, когда перед арестованным открывалась массивная железная дверь советской тюрьмы, и днем его возвращения домой обычно проходило много лет.
Если способ ареста как такового мог иной раз показаться чуть ли не эксцентрическим, последующие процедуры, напротив, стали к 1940м годам более или менее стандартными. Каким бы ни был путь будущего заключенного к тюремным воротам, дальше все было крайне предсказуемо. Человека регистрировали и фотографировали, у него брали отпечатки пальцев, причем происходило это, как правило, задолго до того, как ему объясняли, за что он арестован и какова может быть его судьба. Первые несколько часов, а зачастую и несколько дней он не видел никакого начальства, только рядовых надзирателей, которым он был совершенно безразличен, которые понятия не имели о том, что вменяется ему в вину, и на все вопросы отвечали равнодушным пожатием плеч.
У многих создавалось впечатление, что первые часы в тюрьме нарочно обставлены так, чтобы шокировать заключенного, сделать его неспособным к связному мышлению. Вот что ощущала после нескольких часов на Лубянке Инна Шихеева-Гайстер, арестованная как дочь “врага народа”:
Здесь на Лубянке ты была уже не человек. И вокруг тебя нет людей. Тебя ведет по коридору, фотографирует, раздевает, обыскивает машина. Все делается совершенно безразлично.Ты ищешь человеческий взгляд, я уже не говорю про человеческий голос, человеческий взгляд – его нет. Вот ты вся расхлыснутая стоишь перед фотографом, стараешься как-то запахнуться, а тебе пальцем показывают на табурет, пустой голос произносит: “Анфас”, “Профиль”. И тот же безразличный голос, только женский: “Повернитесь. Поднимите руки. Распустите волосы”. Они в тебе человека не видят. Ты для них вещь. Вещь![439]
Если человека помещали в одну из городских тюрем, а не сажали, как при высылке, сразу на поезд, то он подвергался тщательному обыску, проходившему в несколько этапов. Один документ 1937 года предписывает тюремным надзирателям не забывать, что враг не прекращает борьбу после ареста и может покончить с собой, чтобы скрыть свою преступную деятельность. Поэтому заключенных лишали пуговиц, ремней, поясов, подтяжек, шнурков, резинок – словом, всего, что теоретически могло послужить для самоубийства[440]. У Надежды Иоффе, дочери известного революционера, забрали резинки, пояс от юбки, шнурки от туфель, заколки для волос. Она пишет:
Помню, как меня поразила унизительность и бессмысленность всего этого. Ну что может сделать человек при помощи заколки для волос? И если даже ему придет в голову бредовая идея повеситься на шнурках от туфель, то как он практически сделает это? Просто нужно поставить его в отвратительно унизительное положение, когда падает юбка, сползают чулки, шлепают туфли[441].
Следовавший за этим личный обыск был еще более тяжелым испытанием. В романе “В круге первом” Солженицын описывает арест дипломата Иннокентия Володина. Через несколько часов после того, как его привезли на Лубянку, каждое отверстие его тела было обследовано:
Как покупаемой лошади, оттянув Иннокентию нечистыми руками одну щеку, потом другую, одно подглазье, потом другое, и убедившись, что нигде под языком, за щеками и в глазах ничего не спрятано, надзиратель твердым движением запрокинул Иннокентию голову так, что в ноздри ему попадал свет, затем проверил оба уха, оттягивая за раковины, велел распялить пальцы и убедился, что нет ничего между пальцами, еще – помахать руками, и убедился, что под мышками также нет ничего. Тогда тем же машинно-неопровержимым голосом он скомандовал:
– Возьмите в руки член. Заверните кожицу. Еще. Так, достаточно. Отведите член вправо вверх. Влево вверх. Хорошо, опустите. Станьте ко мне спиной. Расставьте ноги. Шире. Наклонитесь вперед до пола. Ноги – шире. Ягодицы – разведите руками. Так. Хорошо. Теперь присядьте на корточки. Быстро! Еще раз!
Думая прежде об аресте, Иннокентий рисовал себе неистовое духовное единоборство с государственным Левиафаном. Он был внутренне напряжен, готов к высокому отстаиванию своей судьбы и своих убеждений. Но он никак не представлял, что это будет так просто и тупо, так неотклонимо. Люди, которые встретили его на Лубянке, низко поставленные, ограниченные, были равнодушны к его индивидуальности и к поступку, приведшему его сюда…[442]
Для женщин такой обыск был еще тяжелее. Одна бывшая лагерница потом вспоминала, что надзирательница “забрала у нас лифчики, пояса с подвязками и другие части женского туалета. За этим последовал краткий, но отвратительный гинекологический осмотр. Я молчала, но чувствовала себя так, словно меня лишили всякого человеческого достоинства”[443].
Т. П. Милютина, в 1941–1942 годах просидевшая двенадцать месяцев в Александровском централе, подвергалась обыску неоднократно. Сокамерниц по пять человек выводили на очень холодную лестничную площадку. Надо было совершенно раздеться, положить одежду на пол и поднять руки. “Конвоир засовывал пальцы в волосы, смотрел в уши, под язык, заставлял, расставив ноги, присесть и подняться. После первого такого обыска все захлебывались слезами, у многих была истерика”, – пишет Милютина[444].
После обыска некоторых арестантов помещали в одиночную камеру. “Уничтожающая идея первых часов тюрьмы, – продолжает Солженицын, – состоит в том, чтобы отобщить новичка от других арестантов, чтоб никто не подбодрил его, чтоб на него одного давило тупеё, поддерживающее весь разветвленный многотысячный аппарат”[445]. В камере, где оказался Евгений Гнедин – советский дипломат, происходивший из семьи революционеров, были только небольшой привинченный к полу столик и два табурета, тоже привинченные к полу. Две откидные полки для спанья днем опускались и составляли часть стены. Все, включая стены, потолок, табуреты и полки, было выкрашено в голубой цвет. Камера, замечает Гнедин, выглядела как “своеобразная каюта парохода”[446].
Многих, как, например, Александра Долгана, на несколько часов или даже на несколько дней после ареста помещали в боксы. Эта была камера размером менее чем полтора на три метра. “Пустой ящик со скамейкой”, – пишет Долган[447]. Польского хирурга Исаака Фогельфангера среди зимы посадили в камеру с окнами без стекол[448]. Других, в частности Любовь Бершадскую, которая позднее участвовала в лагерном восстании в Кенгире, изолировали на весь период следствия. Бершадская, которая провела в одиночке девять месяцев, пишет, что с нетерпением ждала допросов: “Так хотелось с кем-нибудь разговаривать”[449].
Однако переполненная камера могла стать для новичка еще более тяжелым испытанием, чем одиночка. Описание камеры в Бутырской тюрьме, куда попала Ольга Адамова-Слиозберг, приводит на ум картины Иеронима Босха:
Камера была огромная, сводчатые стены в подтеках, по обе стороны узкого прохода сплошные нары, забитые телами; на веревках сушились какие-то тряпки. Все заволакивал махорочный дым. Было шумно, кто-то ссорился и кричал, кто-то плакал в голос[450].
Другой мемуарист также пытается передать свое потрясение: “Зрелище было ужасное. Длинноволосые бородатые люди, запах пота, и негде даже присесть. Нужно немалое усилие воображения, чтобы представить себе место, где я оказался”[451].
Финка Айно Куусинен, жена известного коммунистического деятеля Отто Куусинена, считала, что ее нарочно сразу поместили туда, где были слышны крики допрашиваемых:
До сих пор, хотя прошло уже около тридцати лет, мне трудно описывать первую ночь в Лефортово. Камера была расположена так, что все внешние звуки были в ней отчетливо слышны. Позднее я выяснила, что внизу, прямо под стенами моей камеры, стояло низкое строение, безобидно называвшееся “отделением для допросов”. На самом деле это была камера пыток. Оттуда раздавались страшные, нечеловеческие крики, беспрерывные удары плетки. Может ли даже истязаемое животное кричать так страшно, как эти люди, которых избивали часами, с угрозами и руганью?![452]
Но где бы человек ни оказался в первую ночь после ареста – в старой тюрьме царской постройки, в привокзальной кутузке, в переоборудованной церкви или монастырской келье, перед ним стояла насущная, неотложная задача: преодолеть шок, прийти в себя, приспособиться к особым тюремным порядкам и выдержать следствие. От того, как это ему удастся, зависело, в каком состоянии он покинет тюрьму и, в конечном счете, как сложится его жизнь в лагерях.
Из всех стадий, которые проходил арестант на пути к ГУЛАГу, западному человеку, вероятно, легче всего представить себе допрос, поскольку он описан не только в книгах по истории, но и в западной художественной литературе (например, в классическом романе Артура Кестлера “Слепящая тьма”), показан в военных фильмах и отражен в других областях высокой и низкой культуры. Крайнюю жестокость на допросах проявляли гестаповцы и испанские инквизиторы. Тактика тех и других вошла в легенду. “Мы знаем, как развязать тебе язык”, – говорят и нынешние мальчишки, когда играют в войну.
Допросы подозреваемых, конечно, происходят и в демократических, правовых государствах – иногда в соответствии с законом, иногда нет. И за пределами СССР допрашиваемых порой подвергали и подвергают психологическому воздействию и даже пыткам. Тактика “злого и доброго следователя” не только вошла в разные языки как идиома, но и фигурировала в руководствах для американской полиции (ныне вышедших из употребления). В большинстве стран в те или иные времена допрос сопровождался давлением, и стремление оградить человека от такого давления побудило Верховный суд США постановить в 1966 году в решении по делу “Миранда против штата Аризона”, что подозреваемого надлежит информировать, помимо прочего, о его праве на молчание и на услуги адвоката[453].
Тем не менее допросы, проводившиеся советскими “органами”, уникальны если не методами, то своей массовостью. В некоторые периоды типичное “дело” включало в себя сотни людей, которых арестовывали по всему Советскому Союзу. Показательны для того времени рапорты управления НКВД Оренбургской области, озаглавленные: “Операции по ликвидации подпольных троцкистских групп, а также других контрреволюционных объединений, проведенные в период с 1 апреля по 18 сентября 1937 года”. В рапортах говорится, что за пять месяцев в этой местности было арестовано 420 “троцкистов”, 120 “правых”, “более двух тысяч членов правой военно-японской организации казаков”, “более 1500 офицеров и царских чиновников, сосланных в 1935 году из Ленинграда в Оренбург”, около 250 человек “по так называемому польскому делу”, приблизительно 95 человек “по делу об уроженцах Харбина”, 3290 человек бывших кулаков и 1399 человек “при ликвидации преступных элементов”.
В целом за пять месяцев оренбургские органы НКВД арестовали более 7500 человек, и на тщательное изучение улик у них просто не было времени. Но это было и не важно: расследование каждого из этих “контрреволюционных заговоров” инициировала Москва. Местные органы НКВД просто исполняли ее указания, реализуя спущенные сверху квоты[454].
Из-за большого числа арестов пришлось применять специальные процедуры. Это не всегда вело к большей жестокости. Наоборот, массовость порой означала, что НКВД сводил расследование к минимуму. Человека второпях допрашивали и затем второпях приговаривали; иногда этому предшествовал краткий “суд”. Известный советский военачальник генерал Александр Горбатов вспоминал, что суд над ним длился четыре-пять минут. Были сверены его личные данные и задан единственный вопрос: “Почему вы не сознались на следствии в своих преступлениях?” Приговор – пятнадцать лет[455].
Других не судили вообще: приговор в их отсутствие выносило либо “особое совещание”, либо “тройка”. Так произошло с Томасом Сговио, чье дело “расследовалось” чрезвычайно поверхностно. Он родился в Буффало, штат Нью-Йорк, и приехал в СССР в 1935 году как политэмигрант, поскольку его отца, американского коммуниста итальянского происхождения, за политическую деятельность выслали из США в Советский Союз. За три года, проведенные в Москве, Сговио постепенно разочаровался и решил отправиться домой, для чего попросил вернуть ему американское гражданство, от которого он отказался по приезде в СССР. 12 марта 1938 года, выйдя из американского посольства, он был арестован.
Следственное дело Сговио, фотокопию которого он десятилетия спустя сделал в московском архиве и затем подарил Гуверовскому институту, невелико по объему, что соответствует его воспоминаниям о событиях. Имеется список того, что нашли при нем во время первого личного обыска: профсоюзная книжка, блокнот с адресами и телефонами, читательский билет библиотеки, лист бумаги “с надписями на иностранном языке”, семь фотографий, перочинный нож, конверт с заграничными марками и так далее. Есть бумага за подписью капитана госбезопасности Сорокина, где говорится, что подозреваемый вошел в посольство США 12 марта 1938 года. Есть показания свидетеля о том, что подозреваемый вышел из посольства в 13:15. Имеются также протоколы первоначального расследования и двух кратких допросов; на каждой странице – подписи Сговио и следователя. Первое заявление Сговио гласит: “Я хотел вернуть себе американское гражданство. Три месяца назад я в первый раз пошел в посольство США и подал просьбу о возвращении гражданства. Сегодня я пошел опять. <…> Секретарша сказала мне, что сотрудник, который занимается моим делом, отлучился на обеденный перерыв, и посоветовала прийти через час или два”[456].
Последующие допросы большей частью состояли в том, что Сговио вновь и вновь заставляли рассказывать о подробностях своего визита в посольство. Только один раз от него потребовали: “Расскажите нам все о вашей шпионской деятельности!” Он ответил: “Вы знаете, что я не шпион”, и больше на него, судя по всему, особенно не давили, хотя допрашивающий с неопределенно-угрожающим видом поглаживал кусок резинового шланга, какими обычно избивали заключенных[457].
Хотя сотрудников НКВД дело Сговио не слишком интересовало, они, конечно же, не сомневались в его исходе. Несколько лет спустя, когда Сговио потребовал отмены приговора, прокуратура решила, что, поскольку он не отрицает, что подал в посольство просьбу о возвращении гражданства, для пересмотра дела нет оснований. Признание Сговио в том, что он действительно был в посольстве и хотел покинуть СССР, “особое совещание” сочло достаточным основанием, чтобы приговорить его к пяти годам как “социально опасный элемент”. Его случай был рутинным. Захлестнутые потоком дел следователи ограничились минимумом[458].
Бывали случаи, когда людей сажали с еще меньшими основаниями и допрашивали еще поверхностней. Поскольку тот, кто попадал под подозрение, автоматически считался виновным, людей очень редко отпускали просто так – хоть какой-то срок, но давали. Советский еврей Леонид Финкельштейн, арестованный в конце 1940х, рассказал мне, что, хотя правдоподобного обвинения в его адрес выдвинуть не смогли, ему все-таки дали сравнительно небольшой семилетний срок: о признании “органами” своей ошибки не могло быть и речи[459]. С. Г. Дурасов вспоминает слова одного из следователей, которые вели его дело: “Мы без вины никого не берем. А если бы даже за тобой и не было вины, выпустить нельзя, будут говорить, без вины берут”[460].
С другой стороны, когда у НКВД возникал интерес, в частности когда интерес возникал лично у Сталина, отношение следователей к людям, взятым в ходе массовых арестов, могло мгновенно измениться от безразличного к злобному. В некоторых случаях от следователей требовали широкомасштабной фабрикации улик, как, например, в 1937 году при “вскрытии и ликвидации” того, что Николай Ежов в закрытом письме назвал “крупнейшей и, судя по всем данным, основной диверсионно-шпионской сетью польской разведки в СССР”[461]. Если вялые допросы Сговио – одна крайность, то массовая операция против этой якобы действовавшей в СССР польской шпионской сети – другая: людей допрашивали с единственной целью – выбить из них признание.
Начало операции положил оперативный приказ НКВД СССР № 00485, в определенном смысле ставший основой и для позднейших массовых арестов. В приказе были четко перечислены категории лиц, подлежащих аресту: все оставшиеся в СССР после войны 1920–1921 годов польские военнопленные; все перебежчики и политэмигранты из Польши; все бывшие члены польских “антисоветских” политических партий; “наиболее активная часть местных антисоветскх националистических элементов польских районов”[462]. На практике под подозрением оказались все живущие в СССР лица польского происхождения, а их было много, особенно в приграничных районах Украины и Белоруссии. Операция приняла такой размах, что польский консул в Киеве, описывая происходящее в секретном отчете, отмечал, что в некоторых населенных пунктах забирали не только всех поляков подряд, но и всех, от директора фабрики до крестьянина, чья фамилия была похожа на польскую[463].
Но арест – это только начало. Поскольку польская фамилия – еще не основание для того, чтобы дать человеку срок, приказ № 00485 предписывал региональным органам НКВД “одновременно с развертыванием операции по арестам вести следственную работу. Основной упор следствия сосредоточить на полном разоблачении организаторов и руководителей диверсионных групп с целью исчерпывающего выявления диверсионной сети”[464].
На практике, как и во многих других последующих “операциях” такого рода, это означало, что арестованные сами должны были под давлением предоставить “улики” против себя. Система была проста. Арестованного поляка спрашивали о его связях в “диверсионной сети”. Получив ответ, что он ни в какой “сети” не участвовал, его избивали или подвергали иным пыткам до тех пор, пока он не “вспоминал” то, что от него требовалось. Ежов, лично заинтересованный в успехе “операции”, присутствовал при некоторых пытках. Если заключенный подавал официальную жалобу на такое обращение, Ежов приказывал подчиненным не обращать на нее внимания и “продолжать в том же духе”. От признавшегося требовали назвать “сообщников”, после чего начинался новый цикл. Так “диверсионная сеть” росла и росла.
За два года в ходе так называемой “польской операции” было арестовано более 140 000 человек, что, по некоторым оценкам, составляет почти 10 процентов от общего числа репрессированных во время Большого террора. При этом пытки и принуждение к самооговору использовались настолько широко, что в 1939 году, когда власти ненадолго смягчили свою политику репрессий, НКВД провел расследование допущенных в отношении поляков “ошибок”. Один подпавший под расследование сотрудник НКВД показал на допросе, что избивать подследственных можно было без ограничений – никаких особых разрешений на это не требовалось. Тем, кто выражал разного рода сомнения, было прямо сказано, что “приказ согласован со Сталиным и Политбюро ЦК ВКП(б) и что нужно поляков громить вовсю”[465].
Хотя позднее Сталин раскритиковал “упрощенный порядок расследования”, есть данные о том, что он лично санкционировал применение подобных методов. В частности, в докладной записке, которую в 1947 году направил Сталину Виктор Абакумов, специально отмечается, что главная задача следователя – “добиться получения от него (арестованного) правдивых и откровенных показаний, имея в виду не только установление вины самого арестованного, но и разоблачение всех его преступных связей, а также лиц, направлявших его преступную деятельность и их вражеские замыслы”[466]. Вопрос о пытках и избиениях Абакумов обходит стороной; однако он пишет, что следователь “изучает характер арестованного” и на этой основе решает, какой режим – легкий или строгий – к нему применить и как эффективнее употребить “метод убеждения с использованием религиозных убеждений арестованного, семейных и личных привязанностей, самолюбия, тщеславия и т. д. <…> Иногда для того, чтобы перехитрить арестованного и создать у него впечатление, что органам МВД все известно о нем, следователь напоминает арестованному отдельные интимные подробности его личной жизни, пороки, которые он скрывает от окружающих, и др.”
То, что советские “органы” придавали признанию вины столь большое значение, в прошлом объясняли по-разному, и этот вопрос по-прежнему обсуждается. Некоторые считают, что это шло с самого верха. Роман Бракман, автор неортодоксальной биографии Сталина The Secret File of Joseph Stalin (“Секретная папка Иосифа Сталина”), считает, что советский лидер страдал навязчивой идеей, заставлявшей его принуждать заключенных признаваться в преступлениях, которые совершал он сам. По версии Бракмана, Сталин до революции был агентом царской охранки, вследствие чего у него потом развилась потребность добиваться от других людей признаний в предательстве. Роберт Конквест тоже считает, что у Сталина была эта потребность, по крайней мере в отношении тех, кого он знал лично: “Сталину нужно было не только убивать старых противников, но и уничтожать их морально и политически”. Впрочем, это, конечно, относится лишь к единицам из миллионов арестованных.
Но потребность добиваться признательных показаний, судя по всему, испытывали и следователи. Возможно, признания давали им некое ощущение правомерности собственных действий: они помогали им воспринимать безумие массовых произвольных арестов как нечто более гуманное или, по крайней мере, более законное. В операциях, подобных “польской”, признание, кроме того, давало “улики”, необходимые для новых арестов. И еще: советская политико-экономическая система была маниакально сосредоточена на постановке и решении задач, на выполнении плана, нормы, и признание служило конкретным “доказательством” успешно проведенного следствия. Конквест пишет: “Утвердилось представление о том, что признание вины – лучший из возможных результатов. Сотрудников НКВД, которые его добивались, считали передовиками, а отстающий сотрудник НКВД не мог рассчитывать на долголетие”[467].
Каков бы ни был источник сосредоточенности НКВД на признаниях, заключенный чаще всего не испытывал на себе в чистом виде ни той губительной целеустремленности, что видна в деле “польских диверсантов”, ни того безразличия, с каким отнеслись к Томасу Сговио. Обычно налицо была смесь того и другого. Чекисты крайне жестко требовали от подозреваемого порочащих сведений о нем самом и о его знакомых, и они же проявляли наплевательскую незаинтересованность в исходе дела.
Эта довольно-таки сюрреалистическая система просматривается уже в 1920е годы, когда до Большого террора было еще далеко, и после него она сохранялась достаточно долго. Еще в 1931 году следователь, который вел дело ученого Владимира Чернавина, обвиненного во вредительстве, угрожал ему расстрелом в случае, если он откажется дать признательные показания. Он же в другой момент пообещал Чернавину, если тот сознается, “снисхождение”. Под конец он чуть ли не умолял Чернавина оговорить самого себя: “Я вам скажу прямо, ведь и нам, следователям, приходится часто врать, мало ли мы говорим такого, что в протокол заносить нельзя и чего мы сами никогда не подпишем”[468].
Когда результат имел большее значение, применялась пытка. До 1937 года избиения как таковые были, судя по всему, запрещены. Один бывший сотрудник ГУЛАГа утверждает, что в первой половине 1930х пытать заключенных, безусловно, не разрешалось[469]. Но стремление получить признания арестованных ведущих членов партии привело к тому, что было взято на вооружение физическое воздействие. По-видимому, это произошло в 1937-м. В 1956 году Никита Хрущев публично заявил: “Но как можно получить от человека признание в преступлениях, которых он не совершал? Только одним способом: применением физических методов воздействия, путем истязаний, лишения сознания, лишения рассудка, лишения человеческого достоинства. Так добывались мнимые «признания»”[470].
Пытки в тот период применялись так широко и их использование так часто ставилось под сомнение, что в начале 1939 года Сталин направил региональным руководителям НКВД шифровку, где говорилось, что “применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП(б)”. Он разъяснял далее, что подобные методы допускаются“…в отношении лишь таких явных врагов народа, которые, используя гуманный метод допроса, нагло отказываются выдать заговорщиков, месяцами не дают показаний, стараются затормозить разоблачение оставшихся на воле заговорщиков”.
С точки зрения Сталина, это вполне допустимый и гуманный метод, хотя порой, возможно, он применяется и к “случайно арестованным честным людям”. Этот зловещий документ безусловно показывает, что Сталин знал, какие приемы используются при допросах, и одобрял их использование[471].
Очень многие из тех, кто побывал под следствием в этот период, пишут, как их били руками и ногами, как им разбивали в кровь лицо, как повреждали внутренние органы. Евгений Гнедин вспоминал, что его одновременно били по голове два человека, один слева, другой справа, и что его затем избивали резиновыми дубинками. Это происходило в тюрьме Сухановке, в кабинете Берии, в его присутствии[472]