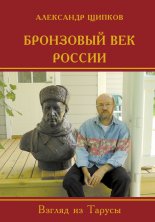Лики Срединного царства. Занимательные и познавательные сюжеты средневековой истории Китая Непомнин Олег

На его поведение неизгладимый отпечаток наложил сам факт узурпации власти. В течение всего царствования Иньчжэнь пытался скрыть правду о своем незаконном восшествии на престол. Об этом говорят крайняя противоречивость его эдиктов, освещавших последние дни жизни Сюанье, уничтожение и фальсификация множества документов, устранение лиц, знавших правду и могущих ее раскрыть. При этом он расправлялся как с врагами, так и со своими помощниками. Первое время, нуждаясь в их поддержке, Иньчжэнь не жалел для них ни чинов, ни наград, а когда его власть укрепилась, он избавился от них. Так поступил он с Лункэдо и Нянь Гэнъяо. Первого он полностью устранил от дел, а второму «милостиво даровал» право на самоубийство. Одних из своих сообщников он казнил, других бросил в тюрьму.
Иньчжэнь продолжил начатую еще при Сюанье политику полного подчинения неханьских народностей и нацменьшинств юго-запада. В то же время он старался укрепить «тыл» династии Цин в ее «домене» — Маньчжурии. Здесь в 1726 году Иньчжэнь создал новую провинцию Гирин (Цзилинь) и построил вторую линию укреплений, охватывавшую цинские владения с запада — со стороны монгольских кочевий. В Хал-хе, чтобы ослабить власть монгольских ханов и князей, он усилил дробление их уделов. Чтобы ужесточить контроль над Тибетом, он направил в Лхасу двух своих министров-резидентов и цинский гарнизон. Подавив в 1724 году восстание хо-шоутов (одна из ветвей ойратов) в Кукуноре (Цинхай) и уничтожив при этом до 80 тысяч местных жителей, полководцы Иньчжэня присоединили этот край к цинским владениям. Богдохан вел постоянную войну с Ойратским (Джунгарским) ханством. Она шла с переменным успехом: в 1731 году ойраты почти уничтожили большую и хорошо снабженную цинскую армию, а на следующий год в битве при монастыре Эрденидзу войска Иньчжэня одержали верх над противником. Богдохан стремился к сохранению мирных отношений с Россией. В 1728 году он пошел на подписание с ней Кяхтинского договора об установлении границы между Халхой и Российской империей, о развитии дипломатических связей, караванной торговли и об определении статуса Российской духовной миссии в Пекине. Дабы склонить волжских калмыков к войне с Ойратским ханством и поздравить императрицу Анну Иоанновну с восшествием на престол, Иньчжэнь в 1731 году направил в Москву и Петербург посольства. Россия стала первым европейским государством, которое посетили китайские послы.
Иньчжэнь умер 8 октября 1735 года в летнем Дворце Совершенного Света (Юаньминъюань) в возрасте 57 лет. Обстоятельства его кончины окружены тайнами и догадками. По одной из версий, император умер от чрезмерного приема настоев различных трав, которые, по даосской теории достижения долголетия, сулили Сыну Неба продление жизни. После этого все буддисты и даосы были изгнаны из дворца. Данная версия весьма сомнительна. Вряд ли такие умелые целители-травники, как даосы и буддисты, допустили бы смерть своего высокого покровителя из-за злоупотребления их рецептами. Согласно второй версии, Иньчжэнь был отравлен, а это весьма возможно. По третьей версии, мстя за отца, его заколола кинжалом дочь казненного им чиновника, когда ее, завернутую в особое покрывало из пуха цапли, евнухи принесли ночью в спальню Сына Неба вместо наложницы.
Как бы то ни было, ушел из жизни выдающийся император. Князья, сановники и местная бюрократия вздохнули с облегчением — они избавились от жесткого контроля и постоянного страха. Враги Иньчжэня и находившаяся под влиянием их оценок последующая историография изображали его деспотом — грубым, упрямым, своевольным, властолюбивым, коварным и хитрым. За ним закрепилась негласная, но стойкая репутация тирана. А между тем в свое не такое уж длинное царствование — всего тринадцать лет — он, не растеряв ничего из унаследованного от Сюанье, укрепил императорскую власть, устранил старые, отжившие нормы, оздоровил госаппарат и финансы. Его правление оказалось благотворным и для страны и для династии. Его нововведения укрепили саму цинскую систему и заложили основу для «блестящего правления» его сына Хунли (1735–1795). Мать последнего — маньчжурка в юности служила актрисой придворного театра. Иньчжэнь страстно увлекся ею, сделал своей наложницей, и она родила ему сына. Именно этому своему любимцу умирающий император передал трон и власть над Поднебесной империей.
Как жили китайские богдоханы.
От выезда — к трапезе
- Вновь золотые бьют барабаны
- В рощах праздничных и во дворцах,
- И оглушительный звон металла
- Отдается у всех в сердцах!
День этот в Пекине мало отличался от других. Столица Цинской империи жила своей обычной жизнью. На ее улицах и рынках слышались всегдашние гомон, шум, крики разносчиков товаров и бродячих ремесленников. Сновали лоточники. Двигались запряженные лошадьми груженые двуколки. Из лавки в лавку переходили покупатели. Толкались прохожие, зеваки и уличные воры. Тем не менее на улицах, ведущих от Запретного города — дворцового комплекса и Императорского города (где располагались службы Дворцового ведомства), — царили безлюдье и тишина. Они были оцеплены солдатами. Туда никого не пускали, ведь по ним проследует императорский кортеж. А весь людской сброд не должен видеть священный лик Сына Неба!
Как известно, европейские монархи считали необходимым время от времени появляться перед своими подданными и беседовать с ними — иногда даже с простолюдинами. Правители же Китая наглухо отгораживались от своего народа. Личная жизнь богдохана — Будды Наших Дней — оставалась спрятанной за высокими стенами Запретного города, и сведения о ней ни под каким видом не разглашались. Нарушение этого запрета беспощадно каралось.
Правда, все эти строгости не соблюдались, когда императорский кортеж проходил по «улицам» Запретного и Императорского городов Пекина, где обитали тысячи евнухов и служанок, днем и ночью не смыкала глаз стража и передвигались по делам штатские и военные сановники. В день выезда богдохана дворцовая челядь, чиновники и «восьмизнаменные» маньчжуры теснились у стен вдоль «улиц». При приближении кортежа они становились на колени, отвешивали земные поклоны, а в промежутке между ними могли взглянуть на процессию и самого Священного Императора.
Однако за пределами Запретного и Императорского городов никто не смел и глаз поднять на Священного и Почитаемого. Неосторожно сказанное слово или невольное движение могли стоить свободы и даже жизни: для подданных Сын Неба должен был оставаться таинственным, сверхъестественным существом, носителем святости и исключительной неземной одаренности. Сами богдоханы старались как можно реже покидать пределы Запретного города, переезжая лишь в летние резиденции Юаньминъюань, Чанчуньюань и во дворец в Му-лане или отправляясь в храмы Пекина и на могилы предков — так называемые Три гробницы (Саньлин) в Маньчжурии, Западные (Силин) и Восточные могилы (Дунлин) примерно в ста километрах юго-западнее и восточнее столицы.
Случайно оказавшийся на пути кортежа простолюдин в страхе простирался ниц в пыли, не смея пошевелиться, пока вся процессия не скрывалась вдали. Поднявшего голову раньше времени стража хватала и ставила лицом к стене. О каждом выезде Сына Неба за пределы дворца объявлялось заранее в единственной в ту пору газете «Столичный вестник» («Цзинбао»), и тогда улицы по маршруту следования Десятитысячелетнего Властелина срочно приводились в порядок. Ямы засыпались, а бугры срезались. Народ, собак и свиней прогоняли. Убирались прочь временные торговые балаганы и лавчонки. Выметались мусор и грязь. Выходящие на эти улицы переулки перекрывались рогатками, на которые набрасывали циновки и ткани. Земля посыпалась желтым песком. Везде воцарялась мертвая тишина. Даже окна закрывались и занавешивались. Однако те, кого снедало любопытство, подглядывали сквозь трещины в стенах, просветы в занавесках и через дырочки в промасленной оконной бумаге, которая заменяла стекло. Эти смельчаки, затаив дыхание, глазели на Сына Неба и его свиту. Давайте же и мы, уважаемый читатель, прильнем к щели в воротах и посмотрим, что делается на улице.
Процессия вышагивает тихо и чинно. Впереди в ярко-красных халатах идут глашатаи с желтыми жезлами. За ними служители с плетями. Первые оповещают о всех возникших на пути препятствиях, вторые готовы хлестнуть случайного зеваку. На расстоянии двадцати шагов за ними с важным видом следуют два главных евнуха в желтых халатах. За ними — два других, воскуряющих фимиам, который отгоняет от священной особы богдохана злых духов. А вот и сам император. В зависимости от возраста, наклонностей, состояния здоровья и времени года он либо едет верхом, либо восседает в паланкине. В пределах Запретного и Императорского городов Сын Неба часто шествует пешком. С обеих сторон его благоговейно поддерживают под руки два евнуха, а еще два готовы бежать и исполнить любое высочайшее приказание. Когда Будда Наших Дней в седле, эти служители идут по бокам от лошади. И в том и другом случае пустой императорский паланкин несут следом за Владыкой Китая и Всего Мира. Крупный евнух держит над властелином тяжелый ярко-желтый зонт на высоком шесте, а летом с ним соседствует большое опахало.
Сейчас богдохан в паланкине. В погожие теплые дни он может быть открытым (тогда это легкий портшез — кресло, укрепленное на носилках), а ранней весной или осенью — крытым сверху и с задергивающимися со всех сторон желтыми занавесками. Зимой используется «теплый паланкин» — целая комнатка с креслом внутри, достаточно просторная и тяжелая. Для перемещения этого «дворцового павильона» вместе с сидящим в нем Сыном Неба требуются 36 носильщиков. Для входа в это сооружение и выхода из него приставляется особый «трап» — крылечко с двумя перилами и шестью ступеньками. Его несут впереди паланкина три евнуха.
При выезде за пределы Запретного города Будда Наших Дней восседает в паланкине неподвижно как истукан. За ним следуют множество идущих парами евнухов и дворцовых слуг. Один тащит кресло — на тот случай, если Великий Владыка захочет отдохнуть, другие — на коромыслах коробы с одеждой, если Сын Неба пожелает переодеться. Здесь же свернутая в большой рулон ширма, которая сокроет от посторонних глаз монаршее переодевание. А еще несут дополнительные зонты — от солнца и дождя, красные лакированные короба, украшенные золотыми драконами. В них «походная» продукция Императорской кухни: всевозможные сладости и печенья. Тут же чайники с чаем и горячей водой, а также посуда. Вдруг Десятитысячелетний Властелин пожелает перекусить!
Следом движутся евнухи с изделиями Императорской аптеки: разными лекарствами, средствами для оказания первой помощи и строго обязательными тремя «напитками бессмертия» — для улучшения пищеварения. Имеется также питье, приготовленное из осоки, хризантем, корней тростника, из листьев и коры бамбука. В летнее время здесь припасены дезинфицирующие порошки, снадобья от колик, освежающие пилюли, таблетки для успокоения нервов, для регулирования дыхания и т.д. Вслед за аптечным багажом шествуют евнухи, гордо несущие сосуды для испражнений.
Императорский кортеж сопровождают пешими или верхом не менее восьмисот телохранителей-гвардейцев, вооруженных алебардами, мечами, копьями, луками и стрелами. Одеты они в желтые куртки с короткими рукавами поверх синих и голубых халатов. На головах у них красные конические шапки с черной опушкой и черным пером сзади. Это маньчжуры из корпуса «Желтого знамени». В свиту повелителя входит также множество придворных и чиновников Дворцового ведомства. Общая численность ее приближается к тысяче человек. Над этой величественной процессией живописно колышутся красные бунчуки, желтые знамена, военные значки, алебарды, копья и большие зонты. Только после прохождения императорского кортежа в обратном направлении на улицах снимут оцепление. И сюда вернутся обычные для Пекина шум, гам, толчея, собаки и свиньи.
Возвратившись после такой поездки во дворец, богдохан обыкновенно садился за трапезу. Как и что вкушал владыка Поднебесной? В Запретном городе три или четыре раза в день возникала одна и та же авральная ситуация. Из личных покоев богдохана выбегал младший евнух и спешил к старшему. Нес известие: «Десятитысячелетний Властелин повелел поднести яства!» А если проще — захотел есть. Старший евнух быстро передавал «священное повеление» своему собрату, стоявшему у дверей. А тот рысью мчался в Сичанцзэ — особый «квартал» дворцового комплекса, где находилась Императорская кухня. Здешний старший евнух громко отдавал команду. И очень скоро из ворот дежурного помещения выходила длинная, похожая на свадебную, процессия. Это евнухи торжественно, но торопливым шагом несли «яства» для Сына Неба.
Точного времени для трапезы не существовало. Еда подавалась сразу же, как только Великий Владыка заявлял желание. По этой причине на Императорской кухне весь день полыхал огонь и кипела работа. Многие блюда стряпались заранее, иногда даже за день. В ожидании подачи к столу их постоянно разогревали. Впрочем, на первый план перед Сыном Неба ставили не эти перепрелые блюда, а не менее двадцати свежих, первоклассных кушаний, приготовленных виртуозами китайской национальной кухни. Приносили их в красных лакированных коробах, украшенных золотыми драконами. У дверей палаты «священная ноша» передавалась молодым евнухам в белых нарукавниках, и те быстро подносили яства.
Для «главных блюд» рядом с «драконовым местом» императора спешно накрывались два стола, а зимой еще и «третий стол» — с китайским самоваром хого для подогревания остывших кушаний. Поодаль располагали еще три стола для прочих кушаний, в том числе сдобы, риса и каш. На седьмом столе расставляли соленые овощи. Летом, весной и осенью использовалась желтая фарфоровая посуда с изображением драконов и надписью: «Десять тысяч лет жизни». Зимой сервиз был серебряный. Поскольку пища быстро остывала, серебряные пиалы и тарелочки с едой ставили в желтые фарфоровые миски с горячей водой. В каждой пиале или в глубоком блюдце находилась серебряная пластинка, с помощью которой проверяли, не отравлено ли яство. Кроме того, один из евнухов всякий раз пробовал блюда перед подачей.
С появлением в зале самого Сына Неба раздавалась команда: «Снять крышки!» И император садился за трапезу. Евнухи благоговейно взирали, как Будда Наших Дней орудует серебряными палочками для еды. Если Повелитель Великого Пространства хотел отведать блюдо, стоявшее в отдалении или на другом столе, а также чай или иной напиток, евнух спешил исполнить его желание. При этом строго соблюдался давно заведенный ритуал. Подняв тарелочку или чашку на уровень правой брови, он медленно приближался к Священному Владыке, вставал на колени и подавал то, что требовалось. Августейший Повелитель Цинской империи и остального мира, в отличие от монархов Европы, вкушал яства один. Сыну Неба по установленному веками этикету запрещалось разделять трапезу с кем-либо из смертных. Исключение делалось иногда только для императрицы (хуанхоу) и вдовствующей императрицы (хуантайхоу).
Конфуцианская этика требовала от правителей скромности в быту и разумного воздержания. Тем не менее еды для Будды Наших Дней готовилось невероятно много — одних «главных блюд» около ста, не считая «обычных». Трапеза августейшего семейства поглощала массу усилий, продуктов и денег. На семью Священного Владыки из шести человек в месяц по «норме» полагалось около двух тонн мяса плюс 388 кур и уток. Сверх того обычно расходовалось до 16 тонн мяса, до пяти тысяч кур и уток, а также более 400 килограммов свиного жира, множество рыбы, крабов и яиц. На это ежемесячно уходило свыше 11 тысяч лянов (430 килограммов) серебра, без учета затрат на груды печений, фруктов, сладостей и море напитков. Часть этих средств расхищалась, часть тратилась впустую — на поддержание престижа и сами церемонии «поднесения яств».
Завтрак Великого Владыки начинался с чая и сладостей. Затем шли свыше двадцати перемен «утренних яств», а это, в частности, жареная курица с грибами, утка в соусе, говядина на пару. Далее следовали вареные потроха, филе из говядины с капустой, тушеная баранина и жареные грибы. Затем подавались баранина со шпинатом и соевым сыром, мясо духовое с капустой на пару, филе из баранины с редисом, вырезка из утки — тушенная с трепангами в соусе. На столы ставились филе из говядины (приготовленное с ростками бамбука), блюдо, похожее на «бефстроганов» из баранины, пирожки из тонко раскатанного теста и жареное мясо с капустой. В придачу шли соленые соевые бобы, ломтики копченостей, овощи в кисло-сладком соусе и капуста, жаренная с перцем. В блюдечках лежали сухие ароматические травы, а в глубоких пиалах был налит мясной бульон.
При цинском дворе формально возбранялось есть говядину. По нормам конфуцианской морали убивать рабочий скот считалось большим грехом. Но Сын Неба мог и пренебречь этим запретом, о чем красноречиво свидетельствует приведенное выше меню. Когда же все-таки вспоминали об этом табу, то обходились без говядины и подавали блюда из свинины, баранины, дичи, домашней птицы и овощей, к примеру оладьи с яйцами, грибы и брюкву.
Домашняя птица и баранина готовились разными способами: это и голубь, фаршированный овощами, и «мягкий цыпленок», сваренный на пару, размельченный и прокипяченный в молоке. В центре стола стояла широкая чаша с супом из мяса цыпленка, утки и акульих плавников. Рядом — тарелки с цыпленком без костей и с жареной уткой. Их посыпали измельченными сосновыми иголками, источавшими приятный запах. Отдельно подавались жареный поросенок и корочка от него, нарезанная мелкими кусочками, а к ним самые различные соусы. В конце утренней трапезы евнух подносил чашу из желтого риса и сладких зерен.
Среди блюд, составлявших гордость китайской национальной кухни, главной «знаменитостью» можно назвать «пекинскую утку». Это был особый деликатес. Для его приготовления утку, постоянно поворачивая, поджаривали в специальной печи, где горели сучья фруктовых деревьев. От печного жара утиный жир растапливался и покрывал тушку вкуснейшей темно-коричневой корочкой. Затем утку резали на кусочки, клали их на тонкие блинчики, поливали густым сладким бобовым соусом, посыпали нарезанным луком и сворачивали в трубочку. Среди первых блюд самым дорогим и изысканным считался суп из «ласточкиного гнезда». Это желтоватое полушарие состоит из застывшей слюны морских ласточек, что живут в скалах по берегам Южного Китая. Разваренное в кипятке «ласточкино гнездо» дает необычайно аппетитный бульон, где плавают нити, напоминающие по вкусу вязигу.
Любимые в Китае трепанги варили или тушили с куриным жиром, луком, соевым соусом, куриным бульоном, рисовым вином, сахаром, пряностями и другими специями. Поражало обилие приправ — всего до четырехсот, а в постоянном обиходе — не менее ста. Они придавали блюдам неповторимый вкус и аромат. На семи столах императора сменяли друг друга и прочие традиционные блюда. Плавники акулы. Утиные язычки. Голубиные яйца. Жареные рыбьи молоки. Раки в чесноке с сахаром. Рыбьи мозги. Жареные луковицы лилий. Рыба разных сортов, и прочее, и прочее. Здесь же были всевозможные сладости. Считалось, что они возбуждают аппетит. В маленьких тарелочках подавались корни лотоса, сваренные в меду, жареные грецкие орехи, засахаренные зерна абрикоса, пастила из мороженых яблок и многое другое. Стояли здесь и разнообразные закуски. Самая лакомая из них — соленые затвердевшие яйца черного цвета. С закусками соседствовали горячие кисели. А к ним полагались всякие булочки и пирожки: с шафраном и жасмином, с чесноком, рисовые лепешки с рублеными грецкими орехами, а также пресные хлебцы, сваренные на пару. Меню одного обеда могло состоять из 150 блюд, которые обходились примерно в 100 лянов серебра. Подчеркивая столь безумное расточительство, народная поговорка гласила: «Что император скушает за один раз, то крестьянину на полгода хватит».
Каждая из императриц имела собственную прекрасную кухню с великолепными поварами. И для государыни утро также начиналось с чаепития и сладостей — засахаренных семян лотоса, дыни и грецких орехов. На тарелочках лежали особым способом приготовленные сахарный тростник и фрукты. Евнухи приносили чай в нефритовых пиалах, накрытых позолоченными блюдцами. В две специальные чашечки насыпали лепестки жасмина и розы. Их клали в чай, отчего он обретал особый аромат. После чаепития Мать Государства шествовала в соседнюю залу, где был накрыт завтрак. Как бы то ни было, любая трапеза начиналась с горячего чая — черного, зеленого или цветочного — и им же заканчивалась. Он издревле почитался в Китае первейшим напитком, несущим здоровье и бодрость. Как писал знаменитый поэт Су Дунпо (настоящее имя Су Ши, 1036–1101):
- Эликсир бессмертия?
- Он тебе зачем?
- Чая ароматного
- Выпей чашек семь…
«Почтенные господа» из дворца.
Евнухи маньчжурских богдоханов
Для европейского читателя евнух — один из синонимов Востока и его загадочной экзотики. В мусульманском мире это оскопленный слуга при гареме. При дворе же маньчжурских правителей Китая такие функции выполняла лишь малая часть евнухов. Основная же их масса, по сути, являлась дворцовыми слугами в самом широком смысле слова. В исламских странах евнухов, равно как и гарем, мог иметь всякий богатый человек. В Китае же услугами скопцов пользовались только члены императорской семьи.
Маньчжуры строго регламентировали количество евнухов. Сыну Неба полагалось иметь три тысяч кастратов. Старшим сыновьям и дочерям императора — по тридцать, племянникам и младшим сыновьям — по двадцать, внукам — по шестнадцать, правнукам — по шесть и праправнукам — по четыре. Все прочие жители страны не имели права держать при себе кастратов. Таким образом, евнухи были одним из атрибутов императорской власти и показателем места их хозяев в высшей иерархии Цинской империи.
Запретный город, а летом и загородные дворцы буквально кишели евнухами! Они попадали во дворец различными путями. Чаще всего бедные родители-китайцы продавали своих сыновей для службы во дворцы. Семьи, не имевшие средств к существованию, были вынуждены соглашаться на кастрацию детей. Сами завоеватели-маньчжуры из-за своей малочисленности берегли собственное потомство. Ни одного маньчжура, даже осужденного, не кастрировали. Евнухи набирались только из китайцев. Для них это был кратчайший путь в Запретный город. Бедняки и честолюбцы сознательно соглашались на оскопление. Главное — попасть во дворец! А здесь можно было сделать блестящую карьеру! Тогда в Китае господствовал земляческий принцип подбора сотрудников и учеников. Преобладал он и при подборе евнухов. Для этого набирали мальчиков из бедных семей области Хэцзянь в столичной провинции. Привезенных оттуда детей отдавали на обучение старым евнухам. Такие ученики получали небольшое жалованье. По окончании учебы их оскопляли и допускали к работе при дворе под надзором старших.
Иногда евнухов называли «царедворцами», «служащими при дворе», «подвесками на головном уборе» (имелись в виду украшения, которые носили высшие евнухи в Средние века). Простолюдины именовали их «почтенными господами», а недоброжелатели просто кастратами или скопцами.
Организационно все евнухи были прикреплены к соответствующим подразделениям трех уровней. На верхнем находились «отделения». Далее шли «девять служб». И наконец, внизу располагались сорок восемь «отделов». Согласно своеобразной «табели о рангах», евнухи делились на три уровня. Высший составляли «главноуправляющие». В Запретном городе их было несколько, причем каждый имел двух помощников — старшего и младшего. На среднем уровне находились «начальники отделений» с двумя помощниками. И на нижнем — более двух тысяч рядовых евнухов, которые, в свою очередь, делились на два разряда — «обычные» и «низшие». «Низший» разряд состоял из дворников. На эту грязную работу направляли провинившихся. Вершиной придворной карьеры евнуха служила должность главноуправляющего с третьим чиновным рангом. Таким образом, все придворные кастраты были иерархизированы по чиновному принципу, а сама система предельно бюрократизирована. По сути, она повторяла собой основы организации китайской деспотии и ее госаппарата.
Служба евнухов высшего или даже среднего звена считалась более чем престижной. Успех при дворе открывал путь к славе и благополучию не только для евнуха, но и для всего его рода, жившего в провинции. За стенами Запретного города высшие евнухи пользовались уважением наравне с чиновниками. Евнухи служили в самом «сердце» Цинской империи. Пекин был ее столицей. Его Внутренний город стал главным местом сосредоточения высшего «знаменного» сословия. Его Императорский город, по сути, служил «главной управой» (ямэнем) Китая. Потому Запретный город являлся «сверхуправой», или «сверхямэнем». А раз так, то даже его рядовые служители приобретали особый вес.
Маньчжуры сознавали это и помнили, что при прошлых династиях, особенно в эпоху Мин, реальная власть неоднократно переходила к евнухам. Поэтому они запретили кастратам вмешиваться в дела правления. Чаще всего скопцы не могли получать чиновничьи ранги выше четвертого. Им разрешалось носить на шапках только синий шарик и синее перо, а не разноцветные, как у чиновников. Если при Минах евнухи хозяйничали по всему Китаю, то в период Цин они оставались влиятельной силой только в пределах Запретного и Императорского городов Пекина. Дворцовым кастратам под страхом смерти запрещалось покидать Пекин. Евнуха, выехавшего за пределы столичной провинции, могли казнить за нарушение этого запрета.
Дворцовые евнухи по роду и месту службы делились на три категории. Первая и высшая состояла из скопцов, прикрепленных к высоким особам. Они обслуживали самого богдохана, его сыновей и дочерей, его мать — вдовствующую императрицу и его жен — императриц Среднего, Восточного и Западного дворцов. Ко второй принадлежали кастраты, приписанные к «павильонам», то есть мини-дворцам императорских наложниц. Именно эта категория евнухов обслуживала и охраняла гарем. Все те, кто не входил в первые две категории, составляли третью, общедворцовую — наименее престижную категорию служителей. Они выполняли весьма широкие хозяйственные, административные, религиозные и культурные функции в стенах Запретного города и загородных летних дворцов-парков. Дворцовые евнухи были «рабами» богдохана, его «вещью».
В присутствии императора или его близкой родни, на торжественных церемониях они одевались в желтые халаты. Желтый цвет был цветом Сына Неба и символизировал положение евнухов, иными словами, они были всего лишь его «вещью», его тенью. В остальных случаях кастраты носили серый халат, поверх него короткую темно-синюю куртку, а на голове — небольшую шапочку,
Некоторые евнухи, особенно главноуправляющие, становились доверенными лицами богдохана, маньчжурских князей и высших сановников. Выполняя роль надзирателей, евнухи использовались сильными мира сего в качестве шпионов и сводников, порученцев и посредников. Кастраты окружали Сына Неба с его рождения до ухода в «мир теней». Очень скоро будущий император-ребенок переходил из рук кормилиц и нянек под надзор евнухов, которые становились главными спутниками его детства, его «рабами» и первыми учителями. Евнухи учили ребенка есть, ходить, говорить, развлекали и оберегали его. Они всегда были рядом — во время игр и занятий, еды и сна. Евнухи объясняли ему правила придворного этикета и обычаи династии Цин. Прославляя деяния его предков, они рассказывали будущему Сыну Неба разного рода поучительные истории и занимательные байки. Если ребенок-император или наследник престола капризничал или не слушался, воспитатели-евнухи в качестве наказания запирали его в пустую комнату.
Будущий богдохан становился взрослым, вступал на престол, женился и правил империей в окружении все тех же евнухов, неотступно следовавших за императором с утра до ночи. Они присутствовали при его пробуждении, умывали и одевали его. Прислуживали затрапезами. Сопровождали Сына Неба при всех его перемещениях. Если другим людям запрещалось находиться при богдохане, то евнухам это вменялось в обязанность, и с наступлением ночи скопцы его не покидали. По его приказу приносили к нему в спальню наложницу, а потом уносили ее. Во время прогулок императора и при переездах в летний дворец они несли за ним все, что могло понадобиться в пути.
Скопцы выполняли за Сына Неба некоторые ритуальные обязанности. Возжигали ароматные свечи перед заповедями и указами императорских предков. Читали молитвы и возжигали курильницы и свечи в храмах. Вызывали врачей, если господин занемог. Встречали и провожали сановников, вызванных к богдохану для доклада или на аудиенцию. Императору полагались специальные «адъютанты» (сула). Все они набирались из евнухов. Такого же рода «адъютанты» имелись и при Дворцовом управлении, и при Военном совете — верховном органе Цинской империи. На плечи евнухов среднего и низшего звена ложились уборка помещений, их отопление, купание, омовение господ, вынос блюд к столу, прислуживание при трапезах и приготовление лекарств. Евнухи драили полы и били мух, подавали чай и обмахивали опахалами своих хозяев, готовили их любимые блюда, причесывали императорских наложниц и подметали улицы.
Дворцовые евнухи выполняли функции также разного рода служек, писцов, секретарей и экзекуторов. Они распространяли высочайшие указы и принимали прошения, знакомились с документами и бумагами Дворцового управления. Проверяли приход и уход чиновников. Вели списки присутствия членов императорской академии Ханьлинь. Составляли график дежурства дворцовой охраны. День за днем вели хронику деяний Сына Неба. Наказывали плетьми провинившихся дворцовых служанок и своих собратьев-евнухов. На плечи скопцов ложилось множество хозяйственных забот. Получение денег и зерна от казначеев, снабжавших дворец. Противопожарная охрана, хранение одежды, оружия и дворцовой утвари, сухих и свежих фруктов. Обеспечение материалами строителей и ремонтников. Уход за животными, за садами и парками. Уборка дворцовых палат и помещений. Вот далеко не полный перечень их обязанностей. К этому надо прибавить ночные дежурства, участие в разного рода шествиях, обрядах и церемониях.
Евнухи выполняли своего рода культурную миссию. Они следили за хранением книг в императорских библиотеках, антикварных изделий, каллиграфических надписей, картин на шелке и бумаге, коллекций ценнейшего фарфора и древних бронзовых сосудов, а также императорских драгоценностей. По строгим конфуцианским традициям считалось неприличным приглашать во дворец профессиональные театральные труппы со стороны. Поэтому в Запретном городе всегда имелась «своя» труппа — южной, или куньшаньской, драмы. Здесь, как и везде в Китае, начиная со времен правления Хунли все роли, в том числе и женские, исполняли мужчины. Иногда по желанию богдохана давались «собственные», то есть придворные, спектакли, куда приглашались маньчжурские князья и сановники. Чтобы придворные спектакли проходили на высоком профессиональном уровне, евнухов обучали театральному искусству. Неспособные отсеивались, а с одаренными занимались профессионалы наставники. По окончании учебы актеры-скопцы допускались на дворцовую сцену.
Особую касту составляла верхушка придворных скопцов. Главноуправляющие, начальники «отделений», как правило, имели собственную кухню, младших евнухов для услуг и даже свой штат служанок и горничных. Евнухи высоких рангов зачастую владели собственными домами либо в Императорском, либо во Внутреннем городе Пекина. Там у них были свои слуги, лошади и экипажи. Чтобы было кому передать нажитое имущество, они заводили приемных сыновей, чаще всего из числа родных племянников. Многие были баснословно богаты — так, в гробнице одного из «главноуправляющих» евнухов были обнаружены удивительные сокровища, и среди них статуя из чистого золота.
В зависимости от ранга и должности евнухи получали жалованье — серебром, рисом и медной монетой. Обладатели высоких рангов, кроме того, имели «побочные доходы», как законные, так и нелегальные. Такого рода поступления превышали казенное жалованье, которое чаще всего служило лишь прикрытием «частных доходов». Последние поступали из разных источников. Скопцы вымогали деньги у сановников. Расхищали казенные средства — деньги и продовольствие. Поедали обильные яства, что оставались после императорских трапез. Незаметно тащили что «плохо лежит» и продавали на сторону. Жульничали, брали взятки. Играли в азартные игры, доносили, сплетничали и сводили личные счеты. Придворные скопцы подслушивали у дверей, подсматривали и разносили сплетни. Участвовали в интригах.
В то же время евнухи, особенно те, что победнее, были беззащитны перед своими хозяевами, которые могли сделать с ними все что угодно. Могли избить и наградить. Направить с почетным поручением и приказать драить пол. Одарить серебром и дать оплеуху. Провинившегося евнуха можно было хорошенько высечь в особом отделе Дворцового управления.
Основная масса евнухов жила скученно, в своего рода «общежитиях», под надзором начальников «отделений», «служб» и «отделов». Эти общежития располагались либо вблизи места работы, то есть за дворцами, палатами и павильонами, либо в отдаленных углах Запретного города. При маньчжурах в Запретном городе встречались и женатые евнухи, пошедшие на оскопление, уже имея жену и детей. Им разрешалось время от времени посещать родную семью.
В то время как верхушка евнухов процветала, многие рядовые скопцы влачили жалкое существование. Непроходимая пропасть разделяла рядового евнуха на посылках, дрожащего зимой от холода в потрепанном халате, и главноуправляющего, каждый день менявшего соболью куртку. Его шубы из меха морской выдры было достаточно, чтобы мелкому чиновнику кормиться всю жизнь. Низшие евнухи, терпя унижения от своих начальников, хозяев и хозяек, отыгрывались на тех, кто был ниже их, на беззащитных дворцовых служанках. Здесь их было множество — молоденьких и красивых девушек-китаянок. Этот огромный «цветник» служил для евнухов и источником любовного томления. Среди них не все были кастратами, встречались и «фальшивые» евнухи, которые тайком приставали к дворцовым служанкам, а иногда делали их своими любовницами. Зачастую евнухи вымещали на служанках обиду за свою физическую неполноценность и пускали в ход кулаки, ножи и хлысты.
По китайским поверьям, человек после своей земной жизни уходил в загробное царство. Для этой второй жизни покойник должен был сохранить все тело в целости. Поэтому отрезанные половой член и яички евнуха клали в стеклянный сосуд со спиртом и хранили в особом ларце, а в час кончины «почтенного господина» ларчик возлагали ему на грудь.
В погоне за ореолом идеального правителя.
Император Хунли
Лето 1722 года буйствовало в охотничьих угодьях цинских богдоханов в Жэхэ. Здесь, к северу от Великой Китайской стены, на исходе одного из июньских дней завершалась очередная облавная охота. Усталый и довольный император Сюанье, сидя в седле, собрался было подать команду к возвращению домой, как произошло неожиданное. Загонщики подняли бурого медведя — матерого и страшного в своей ярости. Это был редкий гость в тех местах. Видимо, он спустился со склонов Яньшаня. Зверь принял свой последний бой, как и подобает смертнику, — жестко и яростно. Раненный сразу несколькими стрелами, он бросился на врагов, распоров бок одной из лошадей и изувечив двух егерей. В этой суматохе слились ржание, рев, крики, стоны. Сюанье, любивший опасность, вынул охотничий нож с серебряной рукоятью и уже хотел сойти с седла, как вспомнил, что рядом с ним его любимый внук — двенадцатилетний Хунли, четвертый сын его четвертого сына Иньчжэня. Оказалось, что подросток не удрал. Он спокойно сидел на своем пони и левой рукой сдерживал его поводьями, а в опущенной вниз правой сжимал боевой маньчжурский кинжал — подарок деда. Губы сжаты, брови сдвинуты, оружие держит правильно — клинком вперед, взгляд сосредоточен на медведе. Восхищенный Сюанье на миг даже забыл о звере. Ловчие тем временем свалили его и кончали, нанося удар за ударом.
Вечером после охоты, как гласит легенда, старый император вызвал Иньчжэня и приказал: «После тебя править Поднебесной будет Хунли. Это моя воля. Запомни!» Зимой того же года Сюанье умер, и следующие тринадцать лет правил Иньчжэнь. В свою очередь, перед смертью, в октябре 1735 года, он сделал Хунли своим наследником.
18 октября того же года 25-летний Хунли взошел на трон. С девизом его правления Цяньлун (Непоколебимое и Славное, 1735–1795) ассоциируется наивысший расцвет Цинской империи, предельное расширение ее границ. Страна, казалось, находилась в зените своего могущества и процветания. Отсюда тот огромный интерес к личности этого пятого императора династии Цин — монарха, более шестидесяти лет олицетворявшего собой «величие и славу эпохи Цяньлун».
Судя по сохранившимся портретам, у Хунли были довольно полное лицо, кустистые брови, толстый нос с горбинкой, редкие вислые усы, едва заметная бородка, резко очерченные губы и тяжелый властный взгляд узких глаз. Таким он сидел на императорском троне в длинном, до пят, парадном одеянии, расшитом драконами, и в круглой маньчжурской шапке.
Хунли получил прекрасное классическое конфуцианское образование, но особого опыта управления страной не имел. На первом этапе его царствования — до 1749 года — ему помогали нести государственные заботы два опытных политика — Оэртай (до 1745 года) и Чжан Тинъюй (до 1749 года). После смерти первого и отставки второго следующие тридцать лет (1750–1780) Хунли правил самостоятельно. Также как его дед и отец, он являл собой образец сильного волевого монарха, вникавшего во все дела государства. Его первые министры — шурин Фухэн и позже Юй Миньчжун были всего лишь его «письмоводителями» и исполнителями воли и боялись ему возражать. Следуя во всем примеру своего гениального деда (о своем отце он старался не говорить), Хунли претендовал на роль образцового государя — идеального конфуцианского правителя. Был трудолюбив и усидчив. Каждое утро в начале одиннадцатого он входил в свой рабочий кабинет, расположенный, как и его жилые покои, внутри «палаты» Янсиньдянь в Запретном городе. До обеда прочитывал, просматривал, подписывал (либо отклонял) или диктовал секретарю множество разного рода документов, а также работал с министрами, то есть главами Шести ведомств, и сановниками. Оставшаяся после него (и изданная) огромная деловая документация (300 томов) свидетельствует о его рассудительности, образованности, проницательности, сильном характере и чувстве ответственности. Хунли выступал образцовым «первым чиновником» огромного бюрократического аппарата Цинской империи. Он был очень строг с дворцовыми евнухами и не позволял им вмешиваться в дела правления, к чему они всегда стремились.
Хунли продолжил линию Сюанье на осуществление административно-налоговых преобразований. Налоговые реформы, проведенные дедом и отцом, Хунли дополнил учетной реформой 1741–1742 годов. С этого времени в реестрах учитывались не только «тягловые» (дин), то есть мужчины с 16 до 60 лет, но и «нетягловые» (коу), то есть женщины, дети, старики, инвалиды и отчасти национальные меньшинства Китая. Когда Хунли стал стареть, период наивысшего «блеска и процветания империи» (60–70-е годы) сменился эрой господства фаворита Хэшэня (с 80-х годов). Управление империей все более переходило к всемогущему временщику и сопровождалось разложением госаппарата. По мере передачи власти Хэшэню стареющий император терял реальное представление о состоянии дел, становясь жертвой ложной информации. Хотя империя уже вступила в полосу кризиса, старому богдохану внушали, что его последний период правления столь же блестящ, как и предыдущий, что империя сильна как никогда.
Хунли страстно мечтал о славе полководца, о лаврах завоевателя, подражая в этом Сюанье. Однако, в отличие от деда, он сам на войне не был и никогда не приближался к театру боевых действий. «Воюя» сидя в Пекине и в летней резиденции Мулань в Жэхэ, Хунли, однако, составил список десяти своих «великих военных побед». Самыми крупными из них были завоевание Джунгарии и Кашгарии, то есть разгром Ойратского ханства (1755–1758) и ликвидация мусульманского государства в Восточном Туркестане. Между тем обе эти победы были обусловлены не военной мощью империи и полководческим «талантом» Сына Неба, а феодальной раздробленностью и междоусобицей в этих двух регионах, что сделало их легкой добычей Хунли. Тем не менее цинской казне «эти блестящие победы» обошлись в 23 миллиона лянов серебра.
С окончательным подчинением Тибета, завоеванием Джунгарии и Кашгарии в состав Цинской империи вошли земли общей площадью до 3 миллионов квадратных километров. Правда, в основном это были пустыни, полупустыни и бесплодные горы. Но это не помешало Хунли раззвонить о своей «безупречной военной доблести» и считать себя великим завоевателем. Поскольку Цинская империя находилась тогда в зените своего расцвета, удачливый богдохан ощущал себя вершителем судеб почти всего мира, чуть ли не его властелином. Его буквально распирало от сознания собственного величия. На этой блаженной волне он решил наказать «заморских варваров» и «закрыл» Китай для европейских и американских купцов, оставив этим «длинноносым» и «рыжеволосым чертям» одно «окошко» — порт Гуанчжоу. Ощущая себя почти всемирным владыкой, он не сомневался в своем высшем праве «наказывать» и «усмирять», то есть приводить в русло «китайского порядка», соседние страны и их государей. Исходя из этого, Хунли начинал войны, дабы продемонстрировать свое «могущество» и «моральное совершенство». Начав войны с Бирмой (Авское государство) в 1768–1769 годах и с Вьетнамом (Аннам) в 1788–1789 годах, Хунли был взбешен поражениями своих войск, и только формальное признание ими «даннического» статуса по отношению к Пекину несколько примирило воинственного императора с положением дел на южных границах. Эти две неудачные войны поколебали ореол «непобедимости» Хун-ли, и лишь более успешная война с Непалом в 1792 году восстановила дух самомнения, выпестованный богдоханом в себе самом.
В число своих «десяти побед» Хунли записал подавление восстаний тибетских племен Цзиньчуани (Западная Сычуань) в 1747–1749 и 1771–1776 годах, а также китайцев на Тайване (1787–1788). Эти «победы» стоили крайне дорого. Так, покорение Цзиньчуани обошлось втрое дороже завоевания Джунгарии и Кашгарии. Такого рода траты, учитывая также расходы на путешествия Хунли в провинции долины Янцзы и недобор налоговых сумм из-за стихийных бедствий и голода, составили около 200 миллионов лянов серебра — сумму, по тем временам колоссальную. Кроме того, в 1782 году Хунли увеличил регулярную армию на 60 тысяч человек, что обернулось ежегодной нагрузкой на бюджет страны в 3 миллиона лянов. Избалованный победами — реальными и мнимыми, Хунли крайне болезненно воспринял поражения своих войск от повстанцев в начале Крестьянской войны под руководством секты «Белого Лотоса» («Байляньцзяо») в 1796–1798 годах. Сын Неба со столь большими претензиями не мог не сознавать, что конец его «блестящего правления» смазан успехами этих «религиозных бандитов».
Считая себя оплотом конфуцианства, его высшим авторитетом и покровителем, Хунли всячески поддерживал ученых и шэньши при компилировании и переиздании древних и средневековых текстов. Для этого он организовал гигантские «литературные работы». Издание одной только серии «Сыку цюаньшу» («Библиотека императорских рукописей по четырем разделам») в 36 тысяч томов дало заработок множеству интеллектуалов. При этом император выступал как ярый враг инакомыслия и свободного творчества, как жесткий цензор и беспощадный каратель, поднявший «литературную инквизицию» до апогея. По его приказам происходили аресты, допросы, пытки, казни и ссылки ученых и литераторов, историков и поэтов, сжигались книги.
Хунли считал себя гениальным поэтом, выдающимся каллиграфом и художником, знатоком искусства и высшим авторитетом в этой сфере. Он везде желал быть первым, и пресмыкавшиеся перед ним придворные укрепляли его в этом заблуждении. Будучи буквально помешанным на литературном творчестве, Хунли вошел в историю как царственный графоман. Он издал 40 тысяч своих стихотворений и поэм, став самым плодовитым из самых посредственных рифмоплетов в истории китайской литературы. Фантастическое обилие его творений компенсировалось их заурядностью. Всего богдохан издал шесть своих поэтических сборников (454 цзюаня, или главы) плюс четыре сборника своей прозы (92 цзюаня), а также еще 30 цзюаней прозы и поэзии. До сих пор остается загадкой, как богдохан физически смог это написать один. Но если он писал не один, то кто ему в этом помогал и почему в свои соавторы он избрал таких же посредственностей, как он сам?
Как и Сюанье, Хунли покровительствовал художникам, их было много при дворе. Среди них европейский миссионер иезуит Джузеппе Кастильоне, писавший стилизованные портреты императора. Иезуиты служили архитекторами и художниками при создании павильонов, зданий, парков и фонтанов в итальянском стиле в летней резиденции Юаньминьюань. Именно при Хунли этот дворцово-парковый комплекс приобрел законченный и роскошный облик. Богдохан сам рисовал посредственные картины в традиционном духе и, как подражатель одного из стилей каллиграфии, занимался этим чисто китайским видом искусства. Кроме того, как крупнейший в стране меценат, он собрал огромную коллекцию живописи и каллиграфии. Император увлекался музыкой и театром, поощрял искусство фарфора, перегородчатой эмали, резьбы по нефриту и слоновой кости.
Хунли считал гуманность одной из высших своих добродетелей. Между тем для него ничего не значили десятки и сотни тысяч загубленных жизней. На его совести истребление огромных масс людей. Так, при подавлении восстания народности мяо в 1735–1736 годах погибло около 500 тысяч человек, а при покорении Джунгарии по его приказу было вырезано без малого 600 тысяч. Гекатомбы трупов стали своего рода памятниками императорской «гуманности». Противники и мятежники воспринимались им как недостойные существования нарушители высшей, установленной Небом гармонии с ее венцом в лице самого Хунли.
Поразительная жестокость к врагу, повышенная страсть карать ослушников, тяга к мучительным казням, стремление внушать не просто страх, а панический ужас были в духе Хунли. Он любил назначать самые изощренные пытки, любил вселять страх в подданных и «варваров», живущих в пределах империи.
Как всякий восточный деспот, Хунли делил всех людей на две категории — на подвластных ему подданных и иностранцев. С первыми он был высокомерен, требователен и жесток, властен и немногословен. Исключение составляли «знаменные», то есть высшее сословие завоевателей, прежде всего маньчжуры, — их он всячески опекал. В глазах же иностранцев — «заморских варваров» — европейцев и азиатских «данников», приезжавших на поклон в Пекин, Хунли выглядел иначе. С ними он разыгрывал роль великого властелина, но скромного человека и простого в обиходе мудреца, могущественного завоевателя, но гуманного интеллектуала и внимательного собеседника, образцового конфуцианского правителя, но радушного, щедрого и заботливого к гостям хозяина.
С европейцами он держался без обычного высокомерия, говорил без чванства, умело подчеркивал свою образованность, то и дело цитируя изречения древних мудрецов и максимы из классических сочинений. Хунли мог себе позволить на неофициальном портрете выглядеть добрым, простодушным и улыбчивым стариком и в то же время хотел, чтобы его изображали в виде Будды.
Хотя Хунли жил в сказочной роскоши, его алчность не знала границ, он мог отобрать у богатых купцов серебро, у своих прислужников-скопцов — накопленное ими богатство. Когда повстанцы секты «Белого Лотоса» начали наступление, создав угрозу столичной провинции и Пекину, Хунли поспешил вывезти свои богатства в Маньчжурию, где они были закопаны на дне специально отведенной в сторону реки, после чего воду вновь пустили по старому руслу. Когда же дело касалось любимца Хэшэня, щедрость императора не знала границ. Этого фаворита старый богдохан осыпал богатствами, построил для него огромный и роскошный дворец.
Копируя своего деда, Хунли много путешествовал по стране. Так, с 1751 по 1784 год он совершил шесть поездок в провинции бассейна Янцзы, а кроме того, путешествовал по Северному Китаю и Маньчжурии. Все эти вояжи были крайне разорительны для казны. Как и Сюанье, Хунли безумно любил охоту верхом, когда в огромных императорских охотничьих угодьях в Жэхэ сотни и тысячи загонщиков «поднимали» зайцев, лисиц, оленей, антилоп, волков и кабанов, сгоняя их в центр облавы — под стрелы, копье и аркебузу богдохана. Хунли был хорошим наездником, метким стрелком, необычайно крепким и здоровым человеком. До глубокой старости он сохранял бодрость и работоспособность. Так, за два года до смерти, в 86 лет, он еще выезжал на охоту верхом. Вплоть до последнего своего часа он читал и писал как обычно. Его долголетие во многом объяснялось строгим распорядком дня, никогда не изменяемым. Вставал он в 9 часов утра и после длившегося почти час завтрака садился за деловые бумаги в своем кабинете в палате Янсиньдянь. После часового обеда читал, писал стихи, рисовал. Перед сном следовал легкий ужин.
Женщины не играли какой-либо роли в его жизни, хотя, будучи молодым, Хунли очень любил свою первую жену — императрицу Сяосянь (Мишань). После ее смерти он сделал своей женой Ула Нару, но через пятнадцать лет супружеской жизни она посмела противоречить ему. Тогда Хунли постриг ее в монахини, объявив сумасшедшей, что вызвало массу кривотолков, ибо выставило Сына Неба и «образцового конфуцианца» в нежелательном свете. Гарем Хунли состоял из трех главных наложниц, девяти наложниц второго ранга, двадцати семи третьего и восьмидесяти одной четвертого ранга, не считая множества фрейлин и прислужниц. Одним словом, выбор у богдохана был широкий. Жены и наложницы родили ему очень много детей, но до отрочества дожили только 17 сыновей и 10 дочерей.
В свое время Хунли официально заявил, что, если Небо подарит ему долголетие, он не будет находиться на троне более 61 года — столько правил страной Сюанье. На исходе этого срока — в октябре 1795 года — он объявил о передаче власти сыну и наследнику Юнъяню, а в феврале 1796 года провел церемонию его восхождения на престол. Наступила эра Цзя-цин (Прекрасное и Радостное правление, 1795–1820), но эра Цяньлун оставалась в пределах дворца до конца дней Хунли, коего теперь именовали «Верховный Император» (Тайшан Хуанди). Отец продолжал давать сыну указания, инструкции и «поучения» в государственных делах вплоть до своей смерти. Хэшэнь сохранил свою власть «теневого монарха» и готовил указы от имени «Верховного Императора». Таким образом, Хунли правил 63 года — дольше, нежели любой император Китая начиная с древности. В своей сверхдолгой жизни он стал свидетелем жизни семи поколений — от своего деда до своего праправнука. По достижении 70 лет Хунли взял себе прозвище «Сын Неба, коего редко встретить начиная с древности» (Гуси Тяньцзы).
При всей внешней помпезности эры Цяньлун фигура Хунли оказалась как бы на историческом переломе. Первая треть его правления еще оставалась в русле общего подъема империи, середина царствования пришлась на вершину могущества, а в последнюю треть началось сползание к очередному циклическому кризису китайского феодализма, грозным предвестником которого явилась Крестьянская война под руководством секты «Белый Лотос».
Молниеносный удар с востока.
Как погибло Ойратское государство
Страшен был лик Джунгарии 1756–1758 годов. Страна западных монголов (ойраты, джунгары) стала зоной смерти. Джунгарские степи были усеяны трупами, реки, ручьи и речушки покраснели от человеческой крови, а воздух был насыщен дымом от горевших улусов, лесов и трав. Враг угонял табуны лошадей и гурты скота. В бессильной ярости заходились лаем обезумевшие от своеволия чужаков сторожевые псы. Целый народ губили под корень. Все ложились под мечи, копья и стрелы завоевателей — князья (тайджи, нойоны), дворяне (зайсаны) и крепостные араты (албату), мужчины и женщины, старики и дети — вплоть до грудных младенцев.
Неумолимый враг — войска Цинской империи уничтожали все население некогда могущественного Ойратского ханства. Поголовное истребление целого народа осуществлялось по приказу Хунли — пекинского императора, богдохана и Сына Неба. Сначала с лица земли было стерто Ойратское ханство, затем очередь дошла до его населения. Уничтожались стойбища, горели юрты, кибитки и нехитрый скарб. Горела сухая трава, степной пал бежал от одного улуса к другому, как бы разнося по степи знак беды. Ойраты прятались под камнями, в ямах и вырытых норах, но их вытаскивали и истребляли на месте. Шла настоящая охота на людей. Человечьей мертвечины было в изобилии, и на земле погибшего ханства справляли свой пир степные волки, шакалы, лисицы, одичавшие собаки и хищные птицы. Единственным спасением оставалось добраться до крепостей «белой императрицы» — Елизаветы Петровны. Все, что имело ноги и могло двигаться, бросилось на север — в Сибирь, под защиту русских штыков, главным образом к Усть-Каменогорской и Семипалатинской крепостям.
Брели из последних сил, умирая по дороге от голода, питались травами, падалью и человеческими трупами. Днем прятались от погони и облав, а ночью продолжали идти на север — в российские пределы. Падали, ползли на четвереньках, вставали и снова брели. За ними гнался еще один неумолимый враг — эпидемия оспы, собирая свою дань с гибнущего народа. Некоторые падали от истощения вблизи желанной цели — на виду у русских крепостей. Тогда специальные команды выходили им навстречу, подбирали павших и спасали от голодной смерти. Так сошли с лица земли Ойратское государство и почти весь его народ. «Вселенная издревле не знала таких великих подвигов!» — в упоении победой писал цинский историк.
Император Хунли с особым нетерпением ждал вестей из Джунгарии — главной территории Ойратского ханства. С первых же дней восшествия на «драконовый трон» богдохан был вынужден постоянно заниматься «джунгарским вопросом». Для династии Цин тогда не было противника более грозного, чем Ойратское, или Джунгарское, ханство. В состав ханства входили Джунгария, Кашгария (Восточный Туркестан), восточные районы Тянь-Шаня, значительная часть казахских жузов (орд). Ойратская конница доходила до Сыр-дарьи и района нынешнего Ташкента. Ойратские ханы (хунтайджи) стремились присоединить к своим владениям Халху (Северная Монголия) и Чахар (Южная Монголия), то есть объединить под своей властью всех монголов (западных, северных и южных), создав Великое Монгольское государство по примеру империи Чингисхана. Один лишь призрак возрождения этой степной державы приводил цинских императоров в страх и ярость. Борьба прежде всего шла за Халху — ее захват был первым и главным шагом на пути к построению Великого Всемонгольского ханства. Если оно не будет создано, то всем монголам грозила одна участь — стать подданными Цинской империи. Именно потому маньчжурские повелители Китая с 1636 года носили свой второй, монгольский титул — богдохан (священный, или великий, то есть всемонгольский хан). Решался вопрос: в чьих руках будет халхаская и джунгарская конница — под эгидой маньчжурского Сына Неба в Пекине или ойратского хана в Или, где располагалась его ставка (урга).
От своего отца Иньчжэня (правил с 1722 по 1735 год) Хунли унаследовал не оконченную им войну. Цинская империя и Ойратское ханство были измотаны до предела и желали мира, и в 1738 году после территориального размежевания он был заключен. Однако кровавый спор не был окончен. Хун-ли как бы залег в засаду, не отрывая глаз от ненавистного врага. А тот все еще был силен. Во главе Ойратского ханства с 1729 года стоял Галдан-Церен. Будучи сильным правителем, он железной рукой смирил своеволие князей (тайджи). Как талантливый полководец, он не дал себя победить на поле боя, а как искусный дипломат — обмануть в ходе переговоров. Развязав себе руки с Пекином, он бросил своих воинов на казахские жузы, ибо их султаны, пользуясь его войной с Китаем, грабили ойратские улусы. Но, даже захватив у казахских султанов Семиречье, ойраты не смогли до конца преодолеть «земельную тесноту» и нехватку пастбищ.
Подавляя нетерпение, Хунли ждал, когда невзгоды у соседей возьмут верх. И дождался! Беда вползла в ургу, как змея, — медленно и неслышно. То, чего не смогло добиться цинское оружие, сделала болезнь хана. Приглашенный из Тибета искусный лекарь оказался бессильным. Изможденный злым недугом, Галдан-Церен в 1745 году навсегда покинул грешную землю. Трон достался тринадцатилетнему подростку, чьим любимым развлечением было мучить собак и рубить им головы. Их жалобный визг и дикий предсмертный вой стояли над илийской ургой. Затем свои жестокость и самодурство юный хан перенес на окружающих его людей, в том числе князей и зайсанов. Государственные дела за несовершеннолетнего выродка сначала вела его старшая сестра, но в 1749 году он бросил ее в темницу, а затем казнил, заявив, что будет править сам. Долго, однако, это не продлилось: муж сестры вместе с побочным сыном Галдан-Церена убили дегенерата. Второй в нарушение всех правил узурпировал престол. В урге разгорелась яростная борьба за власть. Победители безжалостно расправлялись с соперниками. Убийства, отравления, казни, ссылки и иные кары заставляли оставшихся в живых бежать к соседям — в российские владения, в Халху, в казахские жузы.
Хунли понял — это начало конца! Злорадство расправило его и плечи, пришел его «звездный час» — долгожданное время низвержения врага. Больного можно и придушить! Еще в 1748 году он приказал не пропускать ойратских купцов в Пекин и ограничил их торговлю соседней с ханством провинцией Ганьсу. Это сразу ухудшило и без того тяжелое экономическое положение в Джунгарии. Теперь, в 1751 году, Хунли запретил любую приграничную торговлю. Петля, наброшенная на Ойратию, стала еще теснее — ее жители лишились китайского чая и ремесленных изделий, необходимых в кочевом быту. А тем временем междоусобица разгоралась все сильнее. Два закадычных друга — племянник старого хана — Дабачи (Давачи) и хойтский князь Амурсана (Амарсанан) — взялись за оружие. Общая опасность и честолюбивые замыслы свели этих людей вместе, хотя трудно найти два столь несхожих характера. Дабачи — самодовольная посредственность голубых кровей, ленивый увалень и безвольный трус, заносчивый и ограниченный. Амурсана — степной хищник, высокий и стройный тридцатилетний витязь, отважный и воинственный, подвижный и стремительный. Он был рассудительным, коварным и хитрым честолюбцем, способным на все ради достижения цели, переменчивым в привязанностях перекати-полем. В этом дуэте Амурсана был заводилой. Друзья стремились посадить на престол законного наследника — младшего сына Галдан-Церена. Но узурпатор поспешил убить его и разбил их войско, вынудив их бежать к султану Аблаю — повелителю Среднего казахского жуза. Для их поимки было послано 30-тысячное войско, но беглецы сумели избежать плена, вернуться на родину, собрать своих единомышленников и привлечь к себе бывших сторонников узурпатора.
Хунли не ошибся — в Ойратской державе наступила смута, «ханская чехарда». Князья один за другим брались за оружие для защиты или свержения все новых и новых претендентов на ханский трон в Или. Кончилось единство земли ойратской, начался самораспад еще вчера могучей степной державы.
Осенью 1752 года Дабачи с помощью Амурсаны и других хойтских князей занял престол, свергнув узурпатора. В том же году объявил себя ханом один из дэрбетских князей, но был побежден объединенными силами двух друзей и Аблая. Казалось, что победители наконец принесут мир и единство родной стране. Однако, став хунтайджи Ойратской державы, Дабачи увидел в своем друге и спасителе опасного соперника, заявив: «В одной земле два самодержца не живут!» Начавшийся разлад, а затем вражда зимой 1753 года подтолкнули Амурсану к борьбе за верховную власть. Новая междоусобица по своей остроте превзошла предыдущие, усилив самовластие князей и развал некогда единого государства. Словно злые духи джунгарской степи решили погубить ойратов, наложив на них свое проклятие. Забыв о сильном и опасном враге — Цинской империи, князья сцепились, как голодные степные волки из-за добычи. Давние обиды, ущемленное самолюбие, честолюбивые замыслы, затаенная вражда, слепая корысть и жажда мести затмили их разум, заслонили ощущение надвигающейся беды.
Наступил роковой этап самораспада степной державы — бегство в стан врага. В Халху, то есть на территорию Цинской империи, стали переходить князья и зайсаны со своими семьями, слугами, зависимыми аратами (албату) и стадами. От смуты и мести в первую очередь бежали дэрбетские феодалы. Переходя на сторону маньчжуров и принимая цинское подданство, они получали в Халхе титулы, пастбища и скот. Таких перебежчиков Сын Неба принимал с радостью и почетом, ибо они были предвестниками крушения ненавистной степной державы. С тех пор как началась вражда между Дабачи и Амурсаной, последний стал в глазах Хунли той фигурой, с чьей помощью можно было свергнуть чоросскую династию и покончить с Ойратским ханством. В Пекине все внимание переключили на мятежного нойона.
В новой междоусобице победителем вышел Дабачи, и побежденный Амурсана с семьей и 20 тысяч албату в августе 1754 года перешел на халхаскую территорию под эгиду династии Цин. С ним из Джунгарии бежали еще два князя и несколько зайсанов. Весть об этом вызвала ликование в Пекине — она свидетельствовала о глубине распада ханства. Хунли дал Амурсане и его князьям-союзникам пастбища и скот. В ноябре 1754 года Сын Неба принял Амурсану в своей летней резиденции Мулань (в Жэхэ), присвоил ему высший цинский титул — князь первой степени (циньван) и всячески обласкал его. Беглец же обратился к богдохану с просьбой помочь ему в свержении Дабачи и овладении ойратским престолом. Он просил дать ему войско для вторжения в ханство и «усмирения смуты». Хунли обещал, решив использовать знатного перебежчика как удобное орудие для сокрушения противника.
«Усмирять варваров руками варваров» — таков был извечный девиз Срединной империи. Перед решительным ударом враг должен быть предельно ослаблен мирными, то есть политическими и экономическими, средствами. Хунли оказался достойным последователем этих старых доктрин. Именно древнее как мир искусство интриг, коварства, подкупа, лицемерия, обмана и запугивания стало на время основной страстью богдохана. Именно здесь раскрылся его главный талант — умение максимально воспользоваться слабостью противника и победить его мирными, невоенными средствами еще до открытой схватки. Не в этом ли величие и высшая мудрость правителя!? Надо разжечь междоусобицу, разложить вражеский лагерь, свергнуть чоросскую династию, рассыпать единое ханство на четыре изначальных княжества — чоросов, хойтов, дэрбетов и хошоутов. А вот тогда-то и продиктовать им волю Сына Неба! Ход событий в Ойратском ханстве создавал для этого все условия. Главное — не упустить благоприятный момент! Наступил звездный час Хунли.
В своих указах он писал: «Они (ойраты. — Авт.) до крайности истощили свои силы, и добиться успеха весьма не трудно… Теперь же складывается подходящая обстановка, которой нельзя не воспользоваться для решения вопроса силой оружия». Вместо былых затяжных войн с ойратами богдохан приказал провести молниеносную кампанию. Громоздкие обозы, пехота и артиллерия оставались на месте. В дело вводилась только конница — по преимуществу монгольская (чахарская и халхаская) и лишь частично маньчжурская. Каждому всаднику давалось по три лошади с походным запасом продовольствия. Главной целью остались стремительный бросок, парализация врага на его мирных пастбищах и недопущение концентрации ойратской конницы для возможного отпора силам вторжения. Данный замысел точно соответствовал крайней степени самораспада Ойратского ханства. Правда, за подготовку этого блицкрига расплачиваться пришлось монголам Халхи и Чахара. У них было отобрано 150 тысяч лошадей, множество верблюдов и продовольствия. Чтобы завоевать Джунгарию, пришлось разорить Халху.
Для покорения Джунгарии Хунли сконцентрировал в западных районах Халхи «Великую армию умиротворения» из 200 тысяч всадников, разделенных на северную и южную колонны. Ранней весной 1755 года это войско вторглось в пределы Ойратского ханства под лозунгами «установления спокойствия», «защиты желтой веры» (ламаизма. — Авт.), наказания «узурпатора» и «насильника», то есть Дабачи. Авангардом северной колонны командовал Амурсана.
Облаченный в парадную одежду маньчжурского князя первой степени — шелковый халат, расшитый золотыми драконами, круглую конусом шапку с павлиньими перьями и желтый пояс, он мчался вперед, погоняя коня. Хитрый нойон полагал, что провел за нос Сына Неба, получив от него воинскую силу. Теперь главное — свергнуть Дабачи и захватить верховную власть. А став хунтайджи, нетрудно будет объединить всех ойратов и мирным путем удалить из Джунгарии цинские войска. Молодой князь уже видел себя в роли единоличного правителя возрожденной Ойратии и кислую мину обведенного вокруг пальца еджэхана (цинского императора).
Между тем самораспад Ойратского ханства был столь глубок, а вторжение столь неожиданным и стремительным, что цинская конница не встретила никакого сопротивления. Некогда могучее государство ойратов рухнуло как карточный домик. Князья и зайсаны предпочли не браться за оружие и покориться еджэхану. Дабачи не смог собрать значительного войска, ибо большинство из них перешло на сторону Амурсаны. Бессильный хунтайджи бежал в Кашгарию, где был схвачен и увезен в Китай. Казалось бы, первая половина замысла Амурсаны осуществилась — ханский престол освободился. Когда же разгоряченный удачей нойон попробовал овладеть верховной властью, оказалось, что она находится в чужих, но очень твердых руках. Хунли и не думал упускать столь дорогую добычу — он и его наместник — маньчжурский военачальник Баньди хозяйничали в завоеванной ими стране. По приказу императора единое Ойратское ханство уничтожалось, а вместо него создавались четыре малых племенных ханства — чоросов, дэрбетов, хойтов и хошоутов. Амурсана оказался всего лишь одним из четырех ханов — главой хойтов, во всем зависимым от воли богдохана. Всем в крае заправлял Баньди по директивам Хунли. Поняв, что им воспользовались как слепым орудием и обманули, Амурсана, скрывая гнев, стал постепенно выходить из-под власти еджэхана. Нойон повел себя как хунтайджи — сбросил цинскую одежду циньвана, пользовался печатью всеойратского хана, не подчинялся Баньди, через его голову вел переговоры с ойратски-ми князьями, зайсанами и казахскими султанами, уничтожал сторонников Дабачи и своих врагов. Видя, что власть уходит из его рук, Баньди добился от Хунли права арестовать и казнить дерзкого наглеца. Почувствовав опасность, Амурсана вспомнил старый приказ богдохана прибыть к нему в Жэхэ и выехал под этим предлогом в Халху, тем самым избежав смерти.
Между тем Хунли упивался «триумфальным окончанием западного похода». Началась подготовка к торжественной церемонии официального включения Джунгарии в состав Цинской империи. Император решил оформить это на новом съезде монгольских ханов и князей в Долонноре, как это сделал его дед Сюанье 64 года тому назад при подчинении Халхи. В разгар подготовки к торжествам в Пекин пришла тревожная весть: на границе Халхи Амурсана вошел в сговор с халхаскими военачальниками, напал на маньчжурский отряд, разбил его и бежал в Джунгарию. При дворе начался сильнейший переполох, Хунли пришел в бешенство. В Халху полетели приказы собрать уже распущенное по домам войско, идти в Джунгарию и любой ценой поймать мятежника.
Осенью 1755 года Амурсана начал войну против завоевателей. В нем произошел крутой перелом: изменивший своему народу и перешедший на сторону врага хойтский нойон стал организатором и знаменем освободительной борьбы ойратов. Поскольку подавляющая масса цинских войск покинула Джунгарию и отошла в Халху, Амурсана со своими воинами беспрепятственно напал на ургу в Или и легко уничтожил оставленный здесь малый маньчжурский гарнизон, после чего Баньди покончил с собой. Захватив власть в урге, Амурсана стал собирать войско, призвав всех князей объединиться вокруг него, изгнать захватчиков и возродить единое Ойратское ханство. Однако на его призывы откликнулись немногие. Одни боялись маньчжуров, другие опасались мести нойона за их поддержку Дабачи, третьи помнили понесенные от него обиды, четвертые считали, что происхождение Амурсаны (хойт) не дает ему права на престол Чоросского дома. Когда же в конце 1755 — начале 1756 года хойтский нойон все же провозгласил себя всеойратским ханом, от него откололась группа князей и разбила войско нового хунтайджи.
К этому времени вновь собранная по приказу Хунли 400-тысячная армия вторглась в пределы ханства. Амурсана бежал и нашел убежище в Среднем казахском жузе у своего давнего союзника султана Аблая. Огромное вражеское войско вновь наводнило Джунгарию. Не встречая организованного сопротивления, оно без особого труда разбило разрозненные ойратские отряды и по приказу Хунли приступило к поголовному истреблению населения края.
Видя свою неминуемую гибель, в конце 1756 года и остальные князья, объединившиеся вокруг чоросского хана Гэддан Доржи (Галсандорж), выступили против захватчиков. Между ними и Амурсаной вспыхнуло соперничество за обладание ойратским престолом. Однако весной следующего года Гэлдан Доржи и его родня были убиты. Так и осталось тайной, чьих рук это дело — маньчжуров или Амурсаны. В конце 1756 года последний вернулся в Джунгарию, собрал верные ему отряды и продолжил борьбу с маньчжурами. Он наладил связь с восставшим против Хунли в Западной Халхе хотогойтским князем Чингунжавом, планируя совместные с ним действия. Кроме того, Амурсана направил посольство в Петербург, прося помощи у императрицы Елизаветы, но Россия не решилась ввязаться в войну с Цинской империей. Еще не зная об этом отказе и о гибели Чингунжава, Амурсана весной 1757 года двинулся с десятитысячным войском на соединение с ним.
К этому времени в Джунгарию вторглась новая цинская армия под командованием Чжаохуэя. В июне 1757 года в длившемся 17 дней генеральном сражении вблизи урочища Тарбагатай маньчжуры разгромили силы последнего ойратского хунтайджи. Сказались лучшее вооружение и пятикратное численное превосходство завоевателей. Амурсана стал отступать на север — в русские пределы, но по дороге был разбит казахами Аблая, переметнувшегося на сторону победителей. В Семипалатинскую крепость Амурсана прибыл всего с восьмью сопровождавшими. Русские предоставили беглецу убежище, вылечили его от оспы и поселили в окрестностях Тобольска, где он и умер от тифа в сентябре 1757 года. Затем один за другим маньчжурами были уничтожены отряды остальных князей. Восстание ойратов против завоевателей было потоплено в крови, пленных убивали на месте. Цинские эскадроны рыскали по Джунгарии, предавая все огню и мечу. Начавшаяся весной 1756 года истребительная война в Джунгарии закончилась лишь в 1759 году, когда цинским войскам удалось ликвидировать последний очаг сопротивления в горах Юлдуза.
Страшную цену заплатили ойратские феодалы за свою междоусобицу — погибнув сами, они погубили свою страну. Из-за их свар, амбиций, жадности, злобы и политической слепоты целый народ оказался безоружным перед врагом и сошел с исторической сцены. Из 600 тысяч ойратов в живых осталось 30–40 тысяч, спасшихся бегством в Россию.
Между тем Хунли настойчиво требовал от русских властей выдать ему мятежного нойона, а после его смерти отдать труп для публичной позорной казни — разрубить «ядовитую гадину» на куски. Твердый отказ России привел Сына Неба в ярость, и Пекин грозил Петербургу войной. Когда российский Сенат ответил, что труп несчастного давно уже разложился, император с пеной у рта стал требовать выдачи костей, дабы публично ломать и дробить их в Пекине. Из Петербурга последовал вежливый отказ, Сенат напомнил Сыну Неба, что мир между двумя соседними державами стоит несколько больше, нежели могильные кости. И после своей смерти хойтский князь избежал цепких рук богдохана.
Всемогущий временщик и его клика.
Взлет и падение Хэшэня
Зима 1796 года оказалась для Северного Китая небывало суровой. С наступлением года Дракона лютая стужа накрыла собой столицу Цинской империи. Население Пекина страдало от холода. Резко подскочили цены на уголь. Особенно трагичной оказалась судьба ста тысяч пекинских нищих, ночевавших под открытым небом. В одну из февральских ночей от холода погибло восемь тысяч несчастных. Утром, когда солдаты собирали трупы замерзших, в один из павильонов своего дворца вошел сорокашестилетний моложавый и все еще красивый маньчжур. На нем был крытый золотой парчой теплый халат, а на плечи накинута роскошная шуба из драгоценного меха морской выдры. Денег, вырученных за эту шубу, вполне хватило бы для предотвращения ночной трагедии. Однако нужды «подлого люда» не волновали гордого и властного хозяина дворца. Он пришел, дабы лишний раз полюбоваться своим искусственным «виноградником», выполненным в натуральную величину. Подпорки были отлиты из серебра, лозы и листья — из золота, а гроздья сделаны из алмазов, жемчугов, сапфиров, рубинов и изумрудов. Ясное морозное утро заливало павильон розовым светом, и вся эта масса драгоценностей переливалась в лучах солнца, создавая сказочную картину. Холеной рукой, унизанной перстнями фантастической ценности, хозяин «виноградника» приподнял одну из гроздей изумрудов. Его распирало сознание своего богатства, величия и избранности. «Даже у самого Сына Неба нет ничего подобного!» — самодовольно прошептал он. Это был всемогущий императорский фаворит Хэшэнь.
Выходец из достойного маньчжурского рода, он получил классическое китайское образование и ученую степень сюцая. В двадцать пять лет он начал служить при дворе простым телохранителем Сына Неба, а затем стал офицером императорского эскорта. Красивый, стройный и образованный, он скоро обратил на себя внимание императора Хунли. И сразу же начал невиданный взлет по ступеням сановной лестницы. Уже через год богдохан сделал его заместителем командира одного из «восьмизнаменных» корпусов, расквартированного в столице. В течение последующих пяти месяцев он стал помощником главы Налогового ведомства (Хубу), членом Императорского секретариата (Нэйгэ) и главой Дворцового управления (Нэйуфу). Последнее ведало всеми хозяйственными делами императорского дворца. Вскоре он был введен в Военный совет (Цзюньцзичу) — высший государственный орган, состоявший непосредственно при богдохане, то есть стал членом правительства. В этой должности он состоял без малого четверть века, присовокупив к ней позднее пост канцлера (дасюэши).
Хэшэнь имел все основания для самодовольства. Безграничное благоволение к нему Хунли позволяло ему сохранять прежние должности и чины при получении новых. Фаворит императора быстро обрастал постами и накапливал вес при дворе. Временами он занимал сразу до двадцати различных наиболее почетных и доходных должностей. Столь головокружительная карьера сделала Хэшэня вторым по значимости лицом в Цинской империи. С начала 80-х годов по мере старения Хунли реальная власть в Китае все более переходила в руки его всесильного временщика. Изменился и сам Хэшэнь. Вместо скромного телохранителя и рядового сюцая перед страной предстал властный, жадный и надменный выскочка, беспощадный к своим обличителям. Окруженный всеобщей покорностью, холуйским пресмыкательством и беспардонной лестью, Хэшэнь ощущал себя вершителем судеб Поднебесной, фактическим соправителем Сына Неба. Женив в 1790 году своего сына на дочери богдохана, то есть став его родственником, фаворит обрел всесилие, держа в своих цепких руках престарелого императора. Хунли души в нем не чаял и осыпал своего любимца монаршими милостями. По приказу Сына Неба к западу от Запретного города для его наперсника был создан прекрасный парковый ансамбль и построен роскошный дворец с тысячью слуг. Здесь, в Чжуннаньхае, Хэшэнь и создал свой «виноградник».
В руки временщика стекались несметные богатства. Их золотой дождь распалял его и без того невероятную алчность. Стремясь снискать расположение Хэшэня, сановники, наместники и губернаторы провинций осыпали его дорогими подарками. Малоценных подношений Хэшэнь просто не брал. Возвращая их дарителям, требовал взамен дорогостоящих, уникальных. Кроме того, он отбирал себе все наиболее редкое и дорогое из драгоценностей, присылаемых в Пекин в качестве «дани» из соседних стран. Точно так же Хэшэнь поступал с подношениями императору от наместников и губернаторов провинций. Безмерная жадность толкала его даже на ростовщичество, хотя последнее в высших кругах считалось предосудительным занятием. Фавориту принадлежали 117 меняльных контор и ломбардов с общим капиталом 70 миллионов серебряных лянов. В его подвалах скопилась такая масса серебра, что это вызвало трудности в денежном обращении Китая. Занимался он и торговлей, содержа, в частности, склады с заморскими, в основном английскими, товарами. С постепенным отходом престарелого Хунли от дел для Хэшэня открылись безграничные возможности для удовлетворения своей ненасытной алчности. Его богатства превысили ценности императорского дворца. Только одно движимое имущество временщика, без земли и дворцов, оценивалось в 80 миллионов лянов серебра. Ему принадлежали и огромные площади пахотных земель. Стоимость всего его имущества примерно равнялась доходу казны за восемь лет.
С начала 80-х годов Хэшэнь оказывал определяющее воздействие надела в государстве, а с начала 90-х стал его фактическим правителем. Присущие ему жажда власти, презрение к нижестоящим, самолюбование и безудержное стяжательство раскрылись в полной мере. Фаворитизм как неизбежный спутник и ярчайшее проявление азиатского деспотизма получил в феномене Хэшэня максимальное воплощение. Окружив себя баснословной роскошью, он демонстрировал предельный снобизм. Так, копируя быт императоров, Хэшэнь каждое утро облачался во все новое и никогда дважды не надевал ни сапог, ни халата, ни белья, ни головного убора.
Став, по сути, «вторым императором», он обрел огромное влияние на чиновничий аппарат, держа в своих руках как столичную, так и провинциальную бюрократию. Вокруг Хэшэня сложилась целая клика, состоявшая из его родни, ставленников, сторонников и прислужников. Они торговали титулами, должностями, почетными и учеными званиями. Веря во всесилие своего патрона, усердно брали взятки, расхищали казенные имущество и средства. Львиная доля добытого попадала к Хэшэню. Деградация правящей верхушки и бюрократического аппарата шла по нарастающей. Фаворит и его клевреты повсюду насаждали своих приверженцев, а те, в свою очередь, окружали себя «своими» людьми. Стараясь всемерно угодить второму некоронованному властителю Китая, чиновничество на всех уровнях, как могло, подражало временщику и его окружению. Разложение госаппарата приняло невиданные масштабы. Чиновники, знавшие меру и заботившиеся о стабильности самой системы, безуспешно пытались остановить это сползание вниз. Хэшэнь без труда расправлялся с теми, кто подавал жалобы на него или его людей.
В течение девяти лет (1790–1799) Хэшэнь и его клика вершили судьбы Цинской империи, последние три года уже при новом богдохане Юнъяне. Боясь показать себя непочтительным сыном и обидеть отрекшегося в 1795 году Хунли, Юнъянь вплоть до смерти отца не решался трогать его любимца. Между тем тлетворное влияние последнего проникло в армию, которая в период Крестьянской войны «Белого Лотоса» (1796–1804) терпела от повстанцев одно поражение за другим. Дольше мириться с этим было уже нельзя.
Смерть Хунли в феврале 1799 года положила конец невероятной карьере Хэшэня. После обличительных выступлений со стороны группы цензоров он был арестован, обвинен в неуважении к императору, превышении власти и занятиях, недостойных маньчжура и шэньши, то есть в ростовщичестве и торговле. Все его богатства отошли в казну. Несколько недель потребовалось, чтобы вывезти из подвалов фаворита горы серебра, золота, жемчуга, драгоценных камней и дорогих мехов (75 тысяч шкурок). Под усиленной охраной двигался этот необычный «караван» по улицам Пекина. А жители столицы часами молча наблюдали, как выжатые из населения Китая несметные богатства переходят из одних рук в другие. При описи конфискованного имущества опытные чиновники, пораженные уникальностью многих изделий из золота, яшмы, жемчуга и драгоценных камней, так и не смогли даже примерно определить их стоимость. Как, например, оценить золотой столовый сервиз из более чем четырех тысяч предметов?!
Хэшэнь был казнен. Наиболее оголтелые и бездарные его ставленники потеряли посты, но никто из его окружения не был привлечен к суду. В противном случае пришлось бы арестовать и допросить десятки сановников и сотни чиновников, чего новый богдохан явно не хотел делать. И в XIX веке около «драконового трона» появились новые, хотя и более мелкие хэшэни.
Костры из книг и поэты на плахе.
«Литературная инквизиция»
Город как бы притих под тяжестью объявленного судебного приговора. Семьдесят осужденных должны были сложить свои головы на плахе. День за днем их выводили по двое, по трое из главных ворот ямэня — резиденции начальника области. Руки связаны сзади, на груди и на спине куски белой ткани с черными иероглифами — обозначение вины и наказания. Их втаскивали на повозки и в сопровождении солдат возили по улицам, дабы все видели и боялись. Как было испокон веку в Китае, каждый прохожий мог насмехаться над обреченными, оскорблять их. Горожане и приходящие на городские рынки крестьяне всегда любили смотреть на казнь. Это был род бесплатного и захватывающего зрелища, подобного представлению актерами популярных пьес или праздничному шествию с «пляской дракона».
Однако на этот раз на улицах, где двигалась страшная процессия, не было слышно злобных и издевательских выкриков в адрес осужденных. Люди молча провожали взглядом печальный кортеж. Да и в толпе на площади вокруг помоста с палачом не было обычных оживления, шума, праздного любопытства и злорадства. Толпа угрюмо смотрела, как обреченных снимали с повозок и подводили к эшафоту. За последние два десятилетия — а дело было в 1663 году — народ настолько часто видел смерть, что казнь перестала быть развлечением. Только что закончилась первая полоса маньчжурского завоевания Китая, и вокруг городов, вдоль дорог, на заброшенных полях и в опустевших деревнях еще лежали неубранные скелеты множества людей. Одни погибли от оружия завоевателей, другие от голода, холода и эпидемий. Люди уже пресытились видом смерти. Да и нынешняя казнь была необычной. Казнили не воров, не грабителей, не убийц и не разбойников. На этот раз лечь на плаху должны были ученые, книжники, а их-то народ всегда уважал, тем более когда они выступали против завоевателей — «северных варваров», которых явно или тайно ненавидело и боялось большинство собравшихся на площади. Сердцем и помыслами они были с осужденными. И когда палач занес над головой первого приговоренного тяжелый кривой двуручный меч, по толпе прошел негромкий жалостливый вздох. Для китайцев, верующих в загробную жизнь, обезглавливание было самой страшной из казней. На том свете душа обезглавленного теряла свое пристанище — голову, была обречена на мучительные скитания и становилась вечным изгоем. Меч палача лишал человека счастья в потусторонней жизни, последней надежды на воздаяние за тяготы и лишения на этом свете.
Массовыми казнями 1663 года завершилось громкое «дело» ученого-историка Чжуан Тинлуна. Маньчжуры только что завершили завоевание Китая, и на переднем крае духовного сопротивления «северным варварам» оказались историки. Своим правдивым описанием кровавой эпопеи падения империи Мин и становления господства династии Цин историки как бы лишали «северных варваров» морального права на Мандат Неба, то есть на право владычествовать над Срединным государством.
Вина Чжуан Тинлуна заключалась не только в правдивом описании событий. Маньчжуров больше всего возмутило то, что Чжуан Тинлун и его соавторы обозначили персоны цинских богдоханов не девизами правления, а личными именами, что означало непризнание их законными государями. Кроме того, в изданных очерках «Истории династии Мин» осуждались полководцы — предатели родины, перешедшие на службу к завоевателям. После доноса начались аресты и следствие по делу, к ответу привлекли около двухсот человек. В ходе разбирательства Чжуан Тинлун умер, и его осудили посмертно. Его могилу разрыли, труп разрубили на куски, а кости сожгли. Осквернение могилы, по религиозным представлениям китайцев, было тяжелой карой и позором как для покойника, так и для его родни. Отец Чжуан Тинлуна умер в тюрьме, младшего брата казнили, женскую половину рода отправили в ссылку, а имущество конфисковали. Все, кто хоть как-то оказался причастен к публикации этого труда, были объявлены крамольниками. Всего было казнено более 70 человек.
Среди них оказались не только авторы и составители, члены их семей, все мужчины рода Чжуан старше шестнадцати лет, но и сверщики текста, граверы, издатели, книготорговцы, а также все купившие эту книгу и просто случайные люди. Еще большее число людей подверглось различным менее страшным наказаниям, пыткам и ссылке. Тем, кому удалось избежать ареста, пришлось, спасаясь от преследователей, всю оставшуюся жизнь скитаться под чужим именем. Сама книга подлежала уничтожению. «Дело Чжуан Тинлуна», по замыслу его устроителей, должно было парализовать интеллектуальную оппозицию, запугать ее. Репрессии 1663 года остановили издание открыто антиманьчжурских сочинений, сделали авторов более осторожными, форму изложения иносказательной, приходилось читать «между строк».
«Дело Чжуан Тинлуна» открыло собой полосу «письменных судилищ». Этот вид борьбы азиатской деспотии с интеллектуальной оппозицией был известен в Китае еще с эпохи Хань (206 год до н.э. — 220 год н.э.). К «письменным судилищам» нередко прибегали и в периоды правления династий Сун (960–1279) и Мин (1368–1644), но только при Цинах они приняли невиданный размах.
Многие китайские интеллигенты — ученые и литераторы не могли примириться с иноземным игом. Для них, как и для всех китайцев того времени, Китай был центром Вселенной, единственным оазисом культуры и величия духа среди окружавших его «варваров» и «дикарей». И вдруг это избранное Небом могучее Срединное государство оказалось покоренным «северными варварами», пришедшими из диких лесов Маньчжурии. Многие патриоты, потерпев к середине 80-х годов XVII века поражение в вооруженной борьбе, продолжали сопротивляться завоевателям иными методами. Одни демонстративно отказывались служить маньчжурам. Другие писали исторические, философские и художественные сочинения со скрытой критикой новой власти. Маньчжурам пришлось учесть громадный вес в традиционном Китае конфуцианства, ученых мужей, в том числе носителей ученых степеней (шэньши), особую роль печатного слова, рукописного текста и авторитета интеллигенции. Династия Цин не могла считать свое господство в Китае до конца прочным, пока на ее сторону не перешла основная масса шэньши и интеллигенции, пока не была задушена вольная мысль, скрытое сопротивление интеллектуалов. Непокорным грозили арест, пытки, казнь, их родным — смерть или ссылка, их книгам — костер, их имуществу — конфискация. Схватка была неравной — вся мощь госаппарата с тюрьмами и плахами против нескольких тысяч гордых и стойких духом личностей, не захотевших пресмыкаться перед чужеземцами, захватчиками и палачами.
В 1711 году прошел процесс по делу литератора Дай Минши. Это был его второй арест. На этот раз в его трудах обнаружили упоминание императорских девизов правления минских ванов, правивших в Южном Китае после захвата Пекина маньчжурами в 1644 году. Расценив это как признание династии Цин незаконной, власти безжалостно расправились с Дай Минши. Он был четвертован, а его родня и друзья, написавшие предисловия к его сочинениям, более ста человек, — казнены. В 20-х годах XVIII века наиболее громким стал суд над уже умершим историком, литературоведом и медиком Люй Люляном. Он отказался служить маньчжурам, оплакивал гибель империи Мин, а в своих трудах допускал антиманьчжурские высказывания. Его тело вырыли из могилы и разрубили на части, его родных и учеников казнили, а труды запретили и сожгли.
В XVIII столетии отмечено несколько сот «письменных судилищ» и запретов на те или иные произведения. «Литературная инквизиция» достигла своего апогея при императоре Хунли, пик ее пришелся на 70–80-е годы. Человека могли казнить только за хранение неофициальных трудов по истории эпохи Мин, за посмертное издание трудов ранее казненного ученого или литератора, за изменение текста высочайше утвержденного издания. Могли отправить в ссылку за написание грустных стихов, за упоминание о слезах, что расценивалось как скорбь по низвергнутой династии Мин. Литератор мог поплатиться жизнью за вольную или невольную игру слов. В китайском языке это обычное явление, ибо один и тот же иероглиф зачастую имеет несколько значений. Так, поэта Ху Чжунцзао арестовали всего за одну строку из поэмы. Из-за двойного смысла иероглифа вместо «порок и добродетель» здесь можно было прочесть «распутная [династия] Цин». Поэта обезглавили, а у его семьи конфисковали все имущество, включая землю. Другой стихотворец, Сюй Шукуй, поплатился за строфы, имевшие иносказательный подтекст. Во фразе: «Отодвигаю в сторону кувшин с вином, желая снова повидать вас послезавтра» охотники за крамолой углядели иное: «Отодвигаю в сторону маньчжуров, желаю снова видеть Сына Неба [из династии] Мин». В строфе: «Завтра утром расправлю крылья, одним взмахом достигну столицы [династии] Цин» ревностные верноподданные узрели скрытый смысл: «Когда дом Мин расправит крылья, он одним взмахом сметет столицу Цин». Автора бросили на плаху, дабы другим было неповадно играть словами. Уже умершего мэтра официальной поэзии Шэнь Дэцяня подвергли посмертному надругательству за одну-единственную фразу из стихотворения о бордовом пионе: «Хоть и подделываетесь под красное, вы все же не по-настоящему красного цвета. Ведь вы другого сорта, как же вы можете называть себя царем цветов?!» Слово «красный» могло быть истолковано как намек на основателя династии Мин — Чжу Юаньчжана (правил в 1368–1398 годах), чей фамильный иероглиф (Чжу) означает «красный». Маньчжуры усмотрели в этом намек на незаконность своего господства в Китае, а смысл двух строф истолковали так: «Хоть вы и захватили власть у династии Мин, но вы не из породы государей. Ведь вы же иноземцы, так как же вы можете именоваться императорами?!» Лингвист и литератор Ван Сихоу пренебрег запретом на личные имена цинских императоров, фактически поставив под вопрос их законность, за что оказался на эшафоте, а двадцать его родственников — в тюрьме. Семерых его сыновей и внуков превратили в рабов. Были сожжены все произведения поэта Цянь Цяньи за звучавшую в них скорбь по поводу тяжелой судьбы родины и обличения жестокости маньчжуров.
Хунли решил поставить под свой неусыпный контроль всю творческую мысль — и прошлого и настоящего. По его приказу специальные комиссии чиновников пересматривали все письменное наследие Китая начиная с древности. Даже из сочинений Конфуция была вычеркнута фраза о том, что правитель-тиран не имеет права рассчитывать на верность подданных. Повальное цензурование охватило всю страну. Нельзя было упоминать личные (табуированные) имена маньчжурских правителей. Из текстов вымарывалось все «оскорбительное» для маньчжуров и прежних завоевателей-«варваров» (гуннов, киданей, тангутов, чжурчжэней и монголов). Запрещалось писать о защите границ Китая от этих «варваров». Исключались всякие упоминания об оппозиционных политических союзах и группировках эпохи Мин («Дунлинь», «Фушэ», «Цзишэ»). Вычеркивались все места, кои содержали или могли быть поняты как критические, вольнолюбивые, реформаторские и антиправительственные высказывания. Категорически запрещалось выступать против конфуцианской ортодоксии. Все, что противоречило учению Чжу Си (1130–1200), искоренялось. Нельзя было обличать коррумпированную бюрократию предшествующих династий, что могло быть понято как косвенная критика цинского госаппарата. Произведения, содержавшие перечисленные выше виды «крамолы», подлежали либо полному уничтожению и запрещению, либо сокращению за счет изъятия опасных глав или отрывков и фраз. Созданная Хунли особая комиссия составила в 1782 году первый индекс запрещенных книг. Под страхом тяжелых наказаний они изымались у населения и сжигались. Всякий, кто их продолжал хранить, а тем более тайно переиздавать, предавался смертной казни.
Чиновники устроили настоящую охоту на опальные издания и на их владельцев. Запрещенные книги повсеместно уничтожались. На городских площадях запылали костры. С 1774 по 1782 год в огонь было брошено без малого 14 тысяч запрещенных книг. Это были многотомные ксилографические издания, каждое из которых состояло из нескольких книжек, обернутых закреплявшейся костяными застежками папкой из обшитого цветной материей картона или помещенных между двумя деревянными дощечками, скрепленными шелковым шнурком. Люди осуждающе смотрели на это варварство, ибо в Китае издавна утвердился культ иероглифа, написанного кистью или отпечатанного с деревянных досок. Бумага с иероглифами вообще считалась священной. Такую случайно выброшенную бумагу собирали специально выделенные для этого люди, которые относили ее на особые алтари и там сжигали, сопровождая это поклонами и почтительными заклинаниями. В стране веками культивировалось особое преклонение перед книгой. Она была одним из символов китайской цивилизации, и костры из книг еще раз убеждали китайцев, что маньчжуры — это «северные варвары». Кроме того, в «черные списки» были внесены как «развращающие» некоторые эпические сказания, воспевавшие национальных героев Китая, а также ряд романов, многие новеллы и повести бытового жанра. Маньчжуры объявили «аморальными» такие замечательные произведения, как «Речные заводи», «Цзинь, Пин, Мэй» и «Западный флигель».
Помимо индексов запрещенных изданий составлялись огромные списки книг, «не заслуживавших внимания», но не подлежавших сожжению. Такие произведения не рекомендовалось изучать, публиковать и использовать при преподавании. Из разрешенных к переизданию произведений императорская комиссия и чиновники на местах также выбрасывали опасные для маньчжуров или сомнительные, с их точки зрения, главы, абзацы и фразы. Сокращения зачастую меняли главный смысл книги.
Широко практиковалась фальсификация исторических документов и трудов. Ярким примером этого стала составленная в 1739 году «История династии Мин», где вторжение маньчжуров в Китай и связанные с этим события излагались в строгом соответствии с правительственным заказом. Все это нанесло большой ущерб исторической науке. Такого рода духовный террор продолжался при Хунли около двух десятилетий. Творческая мысль оказалась скованной страхом. По меткому выражению писателя-демократа Лу Синя, китайская письменность была посажена за решетку. Ученым, шэньши и интеллигенции китайская деспотия оставила лишь узкое русло компиляции и комментирования старых текстов. Интеллектуальная сфера коснела в бесконечном толковании древних памятников и топталась на средневековом уровне.
Бедный ученый, «вечный студент».
Тернистая стезя Пу Сунлина
- Ученый, как птица в неволе,
- Опутан нуждою сидит,
- В обнимку с печальною тенью
- Лачугу свою сторожит.
В Китае эта книга есть в любом книжном магазине и в каждой лавке букиниста. Вы найдете ее на любом книжном развале и на каждом уличном лотке. Ее можно увидеть в руках у людей разных возрастов, профессий и уровня образования. С восторгом и умилением ее читает и утонченный интеллигент, и студент, и простой труженик. Что-то неведомое заставляет перечитывать эту книгу вновь и вновь. Речь идет о «Рассказах Ляо Чжая о необычайном» («Ляо Чжай чжи и»). Под псевдонимом Ляо Чжай выступал Пу Сунлин (1640–1715) — гордость Китая, один из признанных гениев китайской литературы. В переводе на русский Ляо Чжай означает «Кабинет празднословия» или «Кабинет Говоруна (Празднослова)». В тогдашнем Китае было принято подшучивать над собой.
Писатель родился на севере провинции Шаньдун и практически всю жизнь прожил в ее пределах. Вышел он из обедневшей семьи шэньши. Его отец — мелкий землевладелец и интеллигент-неудачник, чтобы прокормить семью, занялся торговлей. Однако и это занятие не принесло семье благосостояния, и ей пришлось расстаться с последним участком собственной земли. Скромный достаток не позволил отцу Пу Сунлина устроить сына в частную школу, а тем более нанять учителя. С одаренным мальчиком занимался сам отец — он-то и ввел будущего писателя в храм классической конфуцианской науки, научил его ценить «аромат книг». С детства Пу Сунлин начал готовиться к сдаче государственных экзаменов, надеясь получить ученую степень, войти в сословие шэньши, а затем обрести чиновную должность — словом, сделать блестящую карьеру. Пу Сунлин успешно выдержал оба тура экзаменов на звание туншэна (ученика, студента), которое давало возможность сдавать экзамены на получение первой, то есть низшей, ученой степени (шэнъюань, сюцай).
Для ее обретения надо было пройти цикл экзаменов, проводившихся два раза в три года. Его выдерживали один-два человека из ста. Остальные должны были пробовать свои силы вновь и вновь. Экзамены сводились к написанию сочинений. Происходило это в крохотных, изолированных друг от друга душных каморках, похожих на тюремные камеры-одиночки. Покидать их до сдачи готового сочинения строго запрещалось. Длительное пребывание взаперти отражалось на здоровье соискателей. Были случаи, когда самые слабые и истощенные во время экзаменов умирали. Кандидатам из знатных и сановных семей заранее был уготован успех, они шли как бы вне конкурса. Богатые семьи либо давали крупные взятки экзаменаторам, либо вместо своего чада посылали на экзамен подставное лицо — начетчика высшей марки. Иногда такой профессионал, написав сочинение, через подкупленных стражников или надзирателей тайно передавал его в каморку состоятельному соискателю. В итоге побеждал не самый достойный, а самый богатый. Подавляющая масса неудачников становилась вечными студентами. В большинстве случаев эти бедолаги продолжали участвовать в гонке за степенью всю жизнь — вплоть до глубокой старости. Иногда звание сюцая они получали в возрасте восьмидесяти лет и старше.
Так и Пу Сунлин неустанно готовился к экзаменам, участвовал в них и всякий раз терпел неудачу, оставаясь вечным студентом-неудачником. Между тем средства к жизни писатель добывал, как правило, уроками. Он натаскивал тех, кто готовился к сдаче экзаменов на получение ученой степени. Связей с сильными мира сего и денег для подкупа экзаменаторов у бедного интеллигента не было. Пу Сунлин смолоду остро переживал свои неудачи. Жалкое положение вечного студента, тяжелое материальное положение и поиск хлеба насущного отравляли жизнь писателя. Ко времени его рождения Северный Китай был разорен Крестьянской войной. Затем страну захлестнуло маньчжурское завоевание. Завершилось оно, когда Пу Сунлину исполнилось сорок три года. После этого страна и его родная провинция Шаньдун оказались в трясине послевоенной разрухи. Все это усугубило и без того несладкую жизнь писателя.
Бедность заставила его жить и работать в богатых семьях на положении то домашнего учителя, то личного секретаря. Если хозяин дома был чиновником, то приходилось быть ко всему прочему и секретарем-писцом, вести личную переписку хозяина, составлять его служебные бумаги, послания и поздравления начальству, делать копии с документов. Во всех этих ролях в глазах окружающих он был «нахлебником» (мэнькэ).
Пу Сунлин даже написал «Жертвенную речь духу бедности в канун Нового года», умоляя духа покинуть его дом, где нет ни монетки, ни зерна, ни одежды. В ответном «послании» дух советовал Пу Сунлину бросить науку, стать жадным, думать только о своей пользе, забыв о других. Более сорока лет он провел вне родного крова. Свое небольшое жалованье писатель отсылал семье и родным. Побывать дома он мог только в редкие праздники — обычно на Новый год. Тогда вся страна отдыхала от трудов без малого месяц. Если он работал недалеко от семейного очага, то приезжал на несколько дней на праздник «лодок-драконов» и на праздник Луны.
Дома или среди друзей писатель становился веселым, подшучивал над собой и своей судьбой. Как каждый китайский интеллигент, Пу Сунлин имел склонность к самоуничижению, что, впрочем, являлось обратной стороной духовной гордости всякого конфуцианца. Характер Пу Сунлина раскрывается в его коротких авторских послесловиях к новеллам. И здесь он поистине многолик. Перед нами обличитель зла и веселый балагур, конфуцианский моралист и озорной насмешник, глубокий мыслитель и легкомысленный говорун, вдумчивый собеседник и любитель всяческих розыгрышей. То он прикидывается простачком, то предстает ученым мужем, то невинным празднословом, то грустным регистратором людских пороков, то любителем посмеяться над человеческими слабостями. Мы видим человека, обделенного судьбой, и искрометного весельчака, злого сатирика и безобидного насмешника, кабинетного ученого и умудренного жизненным опытом простолюдина. Воистину это был «человек с тысячью лиц».
Литературные критики и почитатели таланта Пу Сунли-на называли «Рассказы Ляо Чжая о необычайном» «книгой сиротливой досады». В ней явно звучит крик исстрадавшейся души автора — бедного человека, бессильного перед злой судьбой. Вот что написано о Пу Сунлине в предисловии к одному из первых изданий его новелл: «Он сознавал в себе недюжинные силы и оставался всю жизнь рядовым студентом без высшей степени и вне путей к государственной должности. Ему негде было высказаться и дать волю обуревавшим его порывам, и он прибегает к книге фантазий, невероятных, немыслимых, чуждых конфуцианским установлениям… Поневоле пришлось нашему автору обратить свои мысли к миру фантазии и считать, что химеры тоже живут и чувствуют… Да, ум Ляо Чжая пришел в брожение, и душа его скорбела».
Пу Сунлин превосходно знал и любил древнюю и средневековую китайскую классику. Писал он и стихи, создав со своими друзьями поэтическое содружество, и пьесы для простонародья — как серьезного, так и комического содержания. Занимался Пу Сунлин и просветительством. Им написаны популярные наставления по сельскому хозяйству и медицине, размышления о ремеслах и искусстве и своего рода учебник для обучения грамоте. Пу Сунлин писал произведения не только на литературном, но и на разговорном языке — сказы, исполнявшиеся под барабан (гуцы), и напевные многочастные сказы (лицюй). Однако лишь в его пленительных новеллах и коротеньких «рассказах о странном и необычайном» заблистал великий талант автора.
Как рождались эти шедевры? Пу Сунлин записывал все услышанные им случаи, байки, легенды и сказы. Искал их в старых книгах, дополнял, перерабатывал и, наконец, придумывал их сам либо развивал сюжет из нескольких услышанных фраз о чудесах. По преданию, он любил ставить у дороги столик с чашками чая и набитыми трубками. Останавливая прохожих и приглашая их присесть, Пу Сунлин просил рассказать ему что-нибудь интересное и удивительное. По его просьбе друзья и знакомые с почтовой оказией присылали ему такого рода записи. Каждая из новелл Пу Сунлина представляет собой мастерски воспроизведенный удивительный случай. Среди них есть состоящие всего из нескольких строк, но рядом с миниатюрами в одну-две, а то и в полстраницы он пишет и большие новеллы. Среди них: «Пока варилась каша», «Царевна Заоблачных Плющей», «Остров блаженных людей», «Вещая сваха Фэн Третья», «Дева-рыцарь» и «Нежный красавец Хуан Девятый». Его новеллы посвящены сверхъестественному — лисам-оборотням, духам, монахам-волшебникам и странным происшествиям.
Странным человеком был и сам Пу Сунлин. Этот правоверный конфуцианец всю жизнь тянулся к миру фантастическому и заботливо собирал народные байки и рассказы о нечистой силе. Его, человека строгой морали и чистоты духа, неумолимо тянуло к лицам сомнительной репутации. Как истинный ученый-конфуцианец, Пу Сунлин считал себя «благородным мужем» (цзюньцзы). В его новеллах судьба испытывает таких людей на прочность, но никогда не губит окончательно. Если такого человека не ценят на земле, то его по достоинству оценят в потустороннем мире добрых духов и блаженных избранников. Там нет людских законов, условностей и злой воли. Там царят избавление от бед и высшая справедливость. Если земные экзаменаторы не могут «отличить яшму от черепицы», достойного от недостойного, то это делают сверхъестественные силы. Подлинным судьей становится мир духов, как добрых, так и злых. Именно они призваны награждать счастьем достойного, скромного, честного и просветленного человека. Эти же неземные силы карают профана, стяжателя, предателя, труса и шантажиста. Мир духов и сонм неземных сил призваны восполнить отсутствие земной справедливости, выступить обличителями и карателями недостойных. Тем самым обиженный на земле призывал незримые стихии и обращался к ним в поисках справедливости.
Писатель мечтал о появлении в Китае честных чиновников и справедливых правителей. Исходя из собственного опыта, он говорит, что все беды Китая происходят от несправедливого выбора правителей-чиновников через экзамены. Здесь бракуются настоящие таланты, государственные умы и люди высокой морали. Зато идущие по протекции, за взятку и натасканные зубрилы торжествуют. Наиболее резко Пу Сунлин выступил против несправедливости и несовершенства экзаменационной системы в новеллах «Удачливый вор» и «Святой Хэ». Некоторые его новеллы содержат сатиру на чиновничество, сидящее по разным канцеляриям — от уездной управы (ямэня) до резиденции губернатора. Писатель показывает суть этой бюрократии — продажность, стяжательство, произвол, бесчеловечность, интриганство. Особенно жестко автор обличает чиновничество в послесловиях к новеллам. Так, «Сон старого Бо» он завершает своим суровым приговором: «Повсюду в Поднебесной крупные чиновники — тигры, а их слуги — волки. Если крупный чиновник не тигр, то слуга его наверняка волк, даже более свирепый, чем тигр».
Пу Сунлин писал в обстановке жесточайших гонений на литераторов. Даже за намек, иносказание, понятое как вызов и протест против завоевателей-«варваров», писателю или поэту, а также его родне грозила казнь. Не потому ли он обращался к фантастике? Будучи правоверным конфуцианцем, Пу Сунлин все же пошел на нарушение запрета Конфуция, требовавшего не говорить о непостижимом и сверхъестественном. Именно этот фантастический жанр развязывал ему руки и давал гарантии самосохранения. Возможно, писатель встал на путь иносказаний и аллегорий, чтобы зашифровать истинный смысл произведений. Эзопов язык, позволяя Пу Сунлину не кривить душой и писать то, что он думал, спасал его от лап литературной, а по сути, политической инквизиции. В то же время язык аллегорий предполагал, что умный читатель все закодированное поймет и расшифрует.
Демократически настроенная публика зачитывалась «рассказами о необычайном». В тогдашней творческой среде воздавали должное редкому дару Пу Сунлина, его тонкому стилю, благородной простоте, глубине мысли и основательности суждений. В начале XVIII века литературная слава о нем гремела по всему Китаю. Видимо, поэтому в 1711 году на очередных экзаменах он наконец получил низшую ученую степень и был включен в число «привилегированных сюцаев» (суйгуншэн, суйгун). Таким образом, только на восьмом десятке жизни, всего за четыре года до смерти, вечный студент смог войти в сословие шэньши. В качестве суйгуна Пу Сунлин получил две привилегии. Во-первых, он мог теперь поступить на учебу в Академию Сынов Отечества — высшее учебное заведение. Само собой разумеется, что для семидесятилетнего старика это звучало насмешкой. Во-вторых, в виде особой милости писателю могли предоставить невысокую чиновничью должность. Однако этого благодеяния свыше так и не последовало. В 1715 году писатель отошел в мир иной, а по сути — в бессмертие.
Долгое время власть имущие не желали признавать этого гения китайской литературы. Для бюрократии он был человеком без связей, без протекции, незнатной фамилии, без денег и земли — всего лишь озлобленным неудачником. Ему не могли простить обличения власть имущих, скрытой, но злой сатиры на завоевателей-маньчжуров и чрезмерного увлечения миром нечистой силы. По этим причинам книга Пу Сунлина не попала в знаменитую библиотеку императора Хунли. Ей не нашлось места среди официальной придворной литературы. Она не была включена в библиотечные списки и каталоги за слишком вульгарную, по мнению эстетов, фантастику.
Прошло несколько десятилетий после смерти Пу Сунлина. Его новеллы обретали успех среди читающей публики. Более полувека «Рассказы Ляо Чжая о необычайном» расходились в рукописных копиях. Единственный сохранившийся сейчас в Китае полный список относится к 1752 году. И только в 1766 году вышло в свет первое печатное издание, выполненное ксилографическим способом. Из него были изъяты наиболее «рискованные» упоминания о завоевателях и творимых ими бесчинствах. По тем же соображениям некоторые новеллы вовсе не были опубликованы. С тех пор началось победное шествие волшебных историй Ляо Чжая по стране. Кто-то из императоров, горячий поклонник таланта Пу Сунлина, хотел даже поставить табличку с его именем в храме Конфуция, чтобы таким образом отметить соблюдение писателем конфуцианских принципов морали. Однако императорское окружение воспротивилось такому, по их мнению, непомерному восхвалению, и посмертная честь Пу Сунлину не была оказана.
Впрочем, на популярности писателя это никак не сказалось. Вышедшие из народного фольклора темы, образы и сюжеты, ставшие литературными шедеврами под кистью великого писателя, обеспечили Пу Сунлину любовь и признание китайского народа. Скоро будет триста лет со дня его смерти. За это время «литературная инквизиция» умерла, маньчжурское иго пало, династия Цин исчезла, а новеллы его остались, и притом навсегда. Как говорил Наполеон: «На свете есть лишь две могущественные силы: сабля и дух. В конечном счете дух побеждает саблю».
«Сон в красном тереме».
Судьба великого писателя и его шедевра
Знаменитый книжный базар Люличан шумел не столь громко, как остальные рынки Пекина. Да и публика здесь собиралась весьма солидная — ученые, преподаватели, студенты, соискатели ученой степени, книгочеи, любители антикварных изданий. «Золотая молодежь» приходила сюда за порнографией. Здесь был особый мир: книги и гравюры, свитки-картины со стихами на шелку, рисунки, новогодние лубки и каллиграфия — все, что душе угодно! Конфуцианские каноны и комментарии к ним, исторические хроники и буддийские сочинения, романы и сборники стихов — подходи и покупай! В этой толчее и негромком гомоне нетвердой походкой шел человек лет сорока. Гордая посадка головы, потертый, застиранный халат, умный грустный взгляд и старые, стоптанные туфли. Сразу было видно, что этот интеллигент мало ест, но много пьет вина. Когда о нем спрашивали у книготорговцев, те сдержанно отвечали: «Это Цао Чжань. Да, да — из тех знаменитых цзяннаньских богачей. Они вконец разорились! Живет в деревне за городом. Бедствует. Продает свои рисунки со стихами. Рисует и рифмует хорошо! Тем и кормится. Горд и дерзок! Образован. Ни перед кем головы не клонит! Много пьет — гаоляновая водка в столице дешева. Приходит сюда раз в неделю. Говорят, что-то пишет там у себя в деревне. Неразговорчив. Сопьется!» По бледному, изможденному лицу и усталым глазам было видно, что долго этот человек не протянет. Вскоре он перестал появляться на Люличане, а потом узнали, что он умер. Его смерть прошла почти не замеченной.
Но вскоре в списках стал расходиться неоконченный роман Цао Чжаня. Покупатели спрашивали списки на Люлича-не все чаще, платили за них звонкой монетой. Так Цао вернулся на Люличан. А когда в 1791 году, спустя два с лишним десятилетия после его смерти, роман был отпечатан типографским способом — книга шла нарасхват. Еще бы! Ведь это знаменитый «Сон в красном тереме» — кто ж его к этому времени не знал?! Поколение за поколением будет с головой уходить в мир его героев, и сам автор обретет бессмертие.
Данные о Цао Чжане скудны и, увы, зачастую ненадежны. Не известно точно, когда он родился — в 1715 или в 1724 году. Смерть его тоже датируется по-разному — от 1762 до 1764 года. Он известен как Цао Сюэцинь, но настоящее его имя Цао Чжань. Его псевдонимы — Циньси, Мэнжуань и Циньцу. По одной из версий он родился в Нанкине. Доподлинно известно, что происходил он из семьи сановников и богачей и скончался в горной деревушке близ Пекина. Один из его предков был взят в плен маньчжурами после овладения ими Пекином в 1644 году, приписан к «Белому знамени» — одному из восьми маньчжурских корпусов, а потом оказался связан с императорской фамилией династии Цин. Именно это определило невиданную карьеру прадеда писателя — Цао Си. В 1663 году он стал инспектором (даотай) провинций Южного Китая. Одновременно он был управляющим ткацкими мастерскими в Цзяннине, принадлежавшими Дворцовому управлению. Последняя должность была наследственной и от его прадеда перешла к деду, затем к отцу и братьям писателя. Его дед Цао Инь в течение двадцати лет занимал этот пост. Тогда он считался одним из самых богатых людей в Китае, слыл ученым и поэтом, пользовался большим влиянием. Более того, сам император Сюанье, совершивший шесть поездок в долину Янцзы, четыре раза останавливался в доме ЦаоИня. Много ли найдется в Поднебесной семей, чьим гостем был сам Сын Неба — владыка империи и всего мира?!
После смерти великого Сюанье богатство рода Цао стало для некоторых сановников бельмом на глазу. Посыпались доносы на отца писателя Цао Фу. Новый богдохан Иньчжэнь внял наветам. Дважды, в 1729 и в 1739 годах, его отец вследствие придворных интриг попадал в немилость. Когда будущему писателю шел пятый год, отца сняли с должности. Но и этого врагам показалось мало. В следующем году все имущество семьи в Цзянсу конфисковали. Оставлена была только часть недвижимости в Пекине. Сюда-то семья и была вынуждена переселиться. Беды на этом, однако, не кончились. Преследования продолжались до тех пор, пока семья Цао не была разорена окончательно. Тем не менее Цаю Сюэцинь все же успел получить прекрасное образование. Существует предположение, что он выдержал экзамен на первую ученую степень и одно время подвизался мелким служащим в училище для членов императорской фамилии. Но и отсюда ему пришлось уйти. Он остался без жалованья. Вот тогда в дом пришла настоящая нужда.
Цао Сюэцинь обладал гордым и независимым характером и не стал унижаться ради получения постоянной службы. Он стал продавать свои рисунки. Денег хватало на рисовую кашу и гаоляновую водку. Писатель еле сводил концы с концами, но ходил с высоко поднятой головой. Ему пришлось оставить столицу и переселиться в горную деревушку недалеко от Пекина, где жилье дешевле, а бедность не так заметна. Здесь он и начал писать свой роман «История камня» (или «Записки о камне» — «Шитоу цзи»), который потом станет «Сном в красном тереме» («Хунлоумэн»). Радость творчества скрашивала невзгоды. Но жизнь была беспощадна к нему — умер единственный сын. Затем последовала болезнь.
Судьба безжалостно бьет уже лежачего. На дворе 1764 год. Ему еще нет сорока лет, но постоянное недоедание и переживания сделали свое дело — у него уже нет сил, дабы одолеть недуг. В деревенскую лачугу неслышно вползает смерть. Но умирающий в бреду твердит о своем. Как же можно уйти в небытие, когда его роман не завершен? Написано всего восемьдесят глав…
Безжалостная к автору судьба смилостивилась над его произведением. Возможно, рукопись среди прочего хлама попала к старьевщику. Тот, кто ее извлек оттуда, понял — перед ним литературный шедевр. Возможно, он начал читать и не мог оторваться. Как бы то ни было, спустя два года после смерти Цао Сюэциня его роман стал расходиться по Пекину в списках под названием «История камня». Популярность его росла, и тогда за дело взялся Гао Э — будущий член академии Ханьлинь. Пытаясь скрыть свое авторство новых сорока глав, Гао Э также делал упор на находку в лавке старьевщика, но уже экземпляра, состоящего из 120 глав. Издание романа 1791 года, о котором только что упоминалось, как раз и включало в себя эти 120 глав.
Образованная часть общества была настолько увлечена романом и не хотела расставаться с его героями, что ожидала дальнейшего развертывания, казалось бы, уже законченного сюжета. Благодаря этому впоследствии появилось более десятка различных его «Продолжений», «Дополнений» и «Повторений». Их авторы находили всех героев Цао Сюэциня отрицательными, стремились вывести положительные персонажи и добивались «счастливого конца». Их сочинения не обладали художественными достоинствами и вскоре были забыты. А триумфальное шествие романа продолжалось, вызывая восхищение все новых и новых поколений читателей. В середине XX столетия «Сон в красном тереме» в сокращении был издан на пяти европейских языках, а в 1958 году вышел в свет полный его перевод на русском языке.
За произведением закрепилось название «Сон в красном тереме», хотя у самого Цао Сюэциня не было устоявшегося названия рукописи. Всего их пять, в том числе три «рыночных», а именно: «Драгоценное зеркало любви», «Записки чувствительного монаха» и «Двенадцать цзиньлинских (то есть нанкинских. — Авт.) шпилек». Наиболее часто создатель первых 80 глав употреблял названия «История камня» и «Сон в красном тереме». Гао Э остановился на последнем, и оно прочно закрепилось за романом (хотя на русский оно иногда переводилось как «Сны юности»). В старом Китае «красным теремом» называли комнаты девушек в богатых домах и дворцах. В романе речь идет о «сне в девичьих покоях», ибо главный герой — юноша Баоюй увидел свой вещий сон, заснув на женской половине.
«Сон в красном тереме» вызвал пристальный интерес литературоведов-исследователей. Многие из них посвятили изучению романа всю свою жизнь. Одни считали его исторической хроникой и увлеченно искали реальных прототипов его героев. Другие видели в романе семейную хронику рода Цао, а в главном герое Баоюе — самого автора. Третьи рассматривали произведение как психологический роман. Четвертые расценивали его как описание быта и нравов. Пятые сравнивали его с сентиментальными романами эпохи Просвещения на Западе. Да, в романе Цао Сюэциня можно обнаружить все пять начал, но его нельзя расчленить на эти компоненты. Это уникальный монолит с множеством специфических и разнородных граней, которые воздействуют на читателя одновременно, создавая неповторимое ощущение шедевра.
Откуда взялось название «История камня»? Что это за камень? Речь идет о большой драгоценной яшме, оставшейся невостребованной после того, как богоподобная небожительница Нюйва, сплавив множество таких же камней в одну массу, заделала ею брешь в небосводе. Побывав в руках Нюйвы, камень обрел чудесную силу. С этого начинается его длительная история. Попав во дворец волшебной феи, он полюбил Траву Бессмертия. Им — траве и камню — суждено спуститься на бренную землю: ей — в виде нежной и хрупкой девушки-сироты Дайюй, ему — в обличье прекрасного юноши Баоюя (дословно «Драгоценная Яшма»). Волей Неба они предназначены друг другу в супруги. Такова завязка романа, его волшебный пролог.
Заснув однажды на женской половине («в красном тереме»), Баоюй снова попадает во дворец той же феи. Здесь он перелистывает книгу судеб, где уже обозначено будущее его семьи. Здесь же слышит вещую песню под названием «Сон в красном тереме». В ней иносказательно предначертана печальная судьба его рода в будущем. Все это должно сбыться на земле — в двух роскошных дворцах Нинго и Жунго с массой слуг, служанок и прихлебателей. Во дворцах живут две ветви аристократической семьи Цзя в окружении многочисленных дальних и близких родственников. Здесь вечный праздник и кричащая роскошь, безделье, мотовство и веселье. Но за этим внешне благополучным фасадом царит домострой. Суровая конфуцианская мораль переходит в бытовой деспотизм. Произвол старших над младшими, богатых над бедными, сильных над слабыми. Девушки-служанки становятся забавой своих господ. В этих дворцах за ширмой постоянного веселья происходят большие и малые, явные и тайные трагедии.
В такой обстановке развертывается основной сюжет романа — история нежной, чистой и возвышенной любви Баоюя и Дайюй. Они давно предназначены друг другу в супруги, но власть старших сильнее любви. Готовится свадьба, на которой вместо Дайюй к жениху Баоюю подведут другую — не любимую им. Узнав об этом, Дайюй умирает. Баоюй, обнаружив подмену, заболевает от горя и уходит из дома. Однажды, в снежную ночь, его отец видит на пристани бритого босого монаха в красной рясе, который ему кланяется. Это Баоюй, избравший путь духовного очищения и бегства от мирского зла. Такова развязка основного сюжета. Перед читателем проходит жизнь трех поколений семьи Цзя. С каждым из них все явственнее становится разложение, вырождение и угасание рода. За роскошью и расточительностью неумолимо следуют оскудение и разорение. Многих настигает кара за содеянное. Сбывается предначертанное в вещей песне:
- Кто чиновником был,
- У того к разорению клонится дом,
- Кто богатств не считал,
- Тот расстался и с золотом, и с серебром.
- Кто был добрым ко всем,
- Жизнь того только в смерти спасенье нашла,
- Кто бесчувственным был,
- Тот увидел расплату за злые дела,
- Отнимавшему жизни
- Ныне жизни лишиться пришлось.
- Исторгавшему слезы
- Не хватает теперь своих слез.
- За обиду обидой воздается потом,
- И расплата нелегкою будет.
- По веленью судьбы и разлука придет,
- И счастливые встретятся люди.
- Потому-то причины несчастной судьбы
- Нужно в прошлых рожденьях искать.
- И лишь случай счастливый на старости лет
- Может сделать богатым опять.
- Чье разрушено счастье,
- Тот прощается с миром, уйдя от людей.
- Кто страстям предавался,
- Тот напрасно пожертвовал жизнью своей.
- Если кончится корм,
- В роще быстро скрываются птицы,
- Остается лишь чистое поле,
- Только голая степь без границы.
У Цао Сюэциня доминирует идея о предопределении. Роскошь греховна сама по себе, а жизнь бренна. Падение знатного рода в романе — это возмездие за роскошь, расточительность и грехи. Отмщение неотвратимо! Выход — в следовании буддийской морали. Уйти от греховности жизни в мир молитвы и созерцания. Мирской жизнью не надо дорожить! «Вся жизнь — это сон!» — таков лейтмотив романа.
Невидимый гигант набирает силу.
Тайное общество «Триада»
Пословица гласила: «Если сойдутся хотя бы три китайца, значит, “Триада” среди них». Это тайное общество объявило беспощадную войну династии Цин, завоевателям-маньчжурам и их приспешникам. Вступивший в союз должен был пустить три стрелы из лука в чучело или изображение маньчжурского императора, поклясться убить богдохана, отомстить за все беды Поднебесной. В тогдашнем Китае, где подданным нельзя было даже упоминать личное имя императора (это было тягчайшим государственным преступлением), поклявшийся убить Сына Неба становился бойцом-смертником и сжигал за собой все мосты. В присяге «Триады» говорилось: «Мы вместе живем и вместе умираем, спаянные в одну семью! Обе белые столицы (Пекин и Нанкин. — Авт.) и тринадцать провинций (то есть весь Китай. — Авт.) заодно с нами! Мы объявляем смертельный бой ненавистным врагам и восстановим династию Мин!» Основатель династии — Чжу Юаньчжан правил под девизом Хунъу, и поэтому «Триада» избрала иероглиф «хун» для своего второго, образного обозначения — «Братство Хун» («Хунмэнь»).
В императорском дворце, в покоях сановников и в местных управах-ямэнях были известны такие заявления «Триады»: «Герои Хун приходят, чтобы отомстить [маньчжурам] за все обиды!», «Мы никогда не дадим покоя маньчжурам!». Там знали, что ячейки союза «растут как трава после дождя», что «Триада» накапливает оружие, что ее сторонники рассеяны по всем провинциям долины Янцзы и Южного Китая. Но подпольный великан оставался невидимым и неуязвимым. Будучи всегда в тени, он выходил на свет только для нанесения удара. Это был опасный противник — окруженный тайной, неуловимый и вездесущий. Днем он как бы растворялся в житейской толчее — на рынках и пристанях, на полях и в шахтах, у городских ворот и харчевен. Он продавал овощи и делал соевый творог, возил уголь и шил куртки, пахал землю и собирал урожай. А по ночам в дальних сельских кузницах тайно ковал наконечники для пик и легкие повстанческие мечи, проводил собрания и принимал новых членов. Он все видел, но оставался невидимым, копил силы и ждал своего часа.
Согласно одной из легенд, рождение «Триады» произошло в горах Цзюлянынань в провинции Фуцзянь в год Тигра (1674). В окруженном лесом буддийском монастыре Шаолиньсы маньчжуры заподозрили заговор. Посланные ими солдаты ночью проникли в монастырь, подожгли его и учинили кровавую резню. От огня и меча погибли 128 монахов-хэшанов. Удалось спастись только пятерым во главе с Цай Дэчжуном. Когда цинские солдаты окружили их, из земли вырос грозный меч. На его рукояти имелось изображение двух драконов — китайского и маньчжурского, борющихся за жемчужину — Китай, а также надпись: «Низвергнем Цин, возродим Мин!» При виде этого волшебного оружия враги бросились врассыпную. Затем река прибила к ногам стоявших на ее берегу пяти монахов фарфоровую курильницу с тем же девизом. Эти знамения свыше укрепили веру хэшанов, и они стали первым звеном тайной организации. За это их впоследствии именовали «пятью старшими предками». К ним присоединились пять благородных храбрецов — «пять младших предков» во главе с У Тянью. Все десятеро укрылись в монастыре Баочжусы. Сюда стекались многие патриоты. Среди них и бывший минский сановник, и ученый-даос, и человек, назвавшийся внуком последнего императора династии Мин. Именно его — Чжу Хунчжу избрали главой созданного здесь тайного «Союза Неба и Земли» («Тяньдихуэй»). Члены союза поклялись отомстить за сожжение Шаолиньсы и погибших хэшанов и изгнать маньчжуров из Китая. Вокруг монастыря собрался отряд, названный «Войском Триады» — «Саньхэцзюнь». В многочисленных схватках с врагом он понес большие потери и был разгромлен. Погибли и пять монахов, и пять праведных удальцов. Командир авангарда «Триады» Су Хунгуан собрал оставшихся в живых и разослал их по семи провинциям вербовать новых сторонников и создавать местные организации под лозунгом «Свергнем Цин, возродим Мин!». Так родилась «Триада».
По другой версии, этот союз был основан воинами удельного князя Гэн Цзинчжуна — одного из «трех князей-данников», восставших против маньчжуров в 1673–1681 годах. Потерпев поражение в бою, его солдаты не пожелали сдаться на милость «северных варваров». Уединенный горный монастырь Шаолиньсы стал их главной базой. В год Кабана (1684) войска богдохана осадили и сожгли эту обитель, уничтожив ее защитников. Пятеро спасшихся от огня и резни монахов отправились странствовать и вербовать сторонников династии Мин. Призывы хэшанов нашли отклик, и они создали тайное общество. Разойдясь затем по разным провинциям, монахи основали там филиалы «Триады». В Фуцзяни, Гуандуне, Хугуане, Чжэцзяне и Гуанси ими были созданы пять «первичных лож» (цяньфан). Позднее в пяти других провинциях (Цзяннань, Хэнань, Сычуань, Гуйчжоу и Юньнань) появились пять «вторичных лож» (хоуфан).
По третьей версии, основы союза заложил Чжэн Чжи-лун — пират, купец, богач, а затем — сановник, доверившийся в 1646 году маньчжурам и погубленный ими. Его сын Чжэн Чэнгун — знаменитый военачальник и правитель Тайваня — в своей борьбе с маньчжурами использовал тайные торговые фактории в морских портах. С захватом Цинами материкового Китая один из помощников Чжэна — Чэнь Юнхуа преобразовал фактории и их обширный подсобный персонал в тайные антиманьчжурские общества — из них-то и сложилась «Триада».
Всего имеется восемь различных версий и дат возникновения «Триады». Это объясняется глубокой конспирацией и таинственностью, окружавшими все связанное с этим союзом. Документально обоснованная и наиболее достоверная версия относит создание «Триады» к году Мыши (1768), или 32-му году правления императора Хунли. Это произошло в буддийском храме богини милосердия Гуаньинь, в провинции Фуц-зянь. Основателем союза стал хэшан этого храма Чжэн Хун (в монашестве — Хун Эр, то есть Хун-второй). Отсюда тайное общество быстро распространилось на долину Янцзы и Южный Китай. Первое название «Триады» было «Союз Неба и Земли». Его приверженцы почитали Небо в качестве «отца», а Землю — в качестве «матери». Династия Мин происходила от этих «родителей» и поэтому имела «истинный Мандат Неба», то есть законное право на владение Поднебесной империей, чего не было у узурпаторов-маньчжуров. Название «Триада» означало взаимодействие Неба, Земли и Человека и вытекающий из этого триединства законный источник власти. Данная символика заключалась и в другом наименовании союза — «Общество Трех точек» («Саньдяньхуэй»).
В уставе «Триады» говорилось: «Учение Трех точек есть тайная доктрина смены династий». Отсюда главная цель союза — реставрация власти дома Чжу, то есть империи Мин, ибо «истинный государь, истинный дракон (то есть Сын Неба. — Авт.) — это государь династии Мин», а «восстановить Мин — основной замысел Братства Хун». С изгнанием маньчжуров и утверждением на «драконовом троне» императора-китайца «Триада» связывала наступление счастливого будущего. Тогда «снова наступит Великий Расцвет», «воцарится Всеобщий Мир», «Поднебесная вновь познает радость», «наступит Великое Благоденствие». Главным лозунгом «Триады» был «Свергнем Цин, возродим Мин!», то есть восстановление национального суверенитета Китая, освобождение родины от чужеземных завоевателей. Распространенным был призыв «Возродим Китай, уничтожим маньчжуров!». В союз, основанный на ненависти к «северным варварам», принимались только чистокровные ханьцы, то есть китайцы без примеси маньчжурской крови. Не забывала «Триада» и чиновных приспешников династии Цин. Лозунг «Чиновники притесняют — народ восстает!» был крайне популярен среди бедноты и трудящихся слоев общества. В Юго-Восточном Китае, в приморских районах позиции «Триады» были особенно сильны, а в Цзянси чуть ли не большинство взрослого мужского населения считались членами союза. Вступление в него было связано с множеством трудностей, клятва верности связывала человека на всю жизнь, ему приходилось подвергаться опасности, строго подчиняться дисциплине, находиться под надзором других членов «Триады» и по их приказу в любой момент браться за оружие. Тем не менее ненависть к завоевателям-маньчжурам была столь велика, что, несмотря на все эти тяготы, множество мужчин шли в тайное братство.
До вступления в «Триаду» неофит должен был пройти разного рода предварительные проверки и испытания. Только после этого перед ним раскрывались ворота «Города Ив» («Муянчэн») — так именовалась местная ложа — место тайных собраний и ритуальных церемоний. Это было пространство, окруженное со всех сторон стеной и поделенное на две части. Первая, ближняя, находившаяся сразу же за воротами в ложу и открытая солнечному и лунному свету, предназначалась для собраний и первой стадии церемонии по приему новых членов. В центре ее находились три арки («Да Хунмэнь»). Здесь и начинался обряд посвящения со сложным ритуалом и жертвоприношением животного. Он представлял собой торжественную мистическую и устрашающую церемонию с декламацией легенды о гибели монастыря Шаолиньсы и длинных стихотворных текстов, с песнопениями и прохождением последовательных ступеней посвящения. У всех стоявших здесь членов союза были обнажены правые плечи и руки, сжимающие боевые мечи, а за спиной были укреплены или зажаты в левых руках треугольные флаги союза. Введенного в первое отделение «Города Ив» неофита ставили на колени, и двое встречавших его приставляли острия мечей к горлу испытуемого. На грозный вопрос: «Зачем ты пришел?!» — неофит отвечал: «Чтобы свергнуть Цин и возродить Мин!» Ему расплетали маньчжурскую косу и распускали волосы по минскому обычаю. Его одевали в белые одежды минского покроя (белый цвет — символ смерти, похорон и траура). Оставляя обнаженной грудь, приставляли к ней острые мечи. Ему подавали лук и три стрелы — ими он пронзал чучело богдохана или его изображение на бумаге.
Совершив магическое убийство Сына Неба, неофит с тлеющей курительной палочкой в руке становился на колени. Над его головой заносили два клинка и произносили церемониальные священные ритмические тексты, и он повторял их. Затем неофит проходил через три арки, падая перед каждой на колени, и оказывался перед воротами, ведущими в дальнюю часть «Города Ив», которая находилась под крышей. Эта часть, имевшая целиком ритуальное назначение, называлась Зал Верности и Справедливости (Чжунъитан). Здесь стояли один за другим три алтаря со священными реликвиями. Среди них фарфоровая «драгоценная курильница», чудодейственный меч из персикового и сливового деревьев, красная дубинка, волшебное зеркало, буддийская патра — монашеская деревянная чаша и желтый церемониальный зонт. Курильница и меч служили символами содействия Неба и залогом будущей победы, зеркало имело свойство отличать правду от лжи, дубинка означала наказание отступникам, патра — верность делу пяти монахов — основателей союза, а зонт — преданность династии Мин. Там же находились макет Девятиярусной пагоды, сосуд со «священным рисом», таблички с магическими надписями и другие реликвии, стояли боевые знамена «Триады».
После очередного коленопреклонения неофита под занесенными клинками процессия торжественно вступала в таинственный полумрак Зала Верности и Справедливости. Он был наполнен терпким запахом курительных палочек, тлеющих в бронзовых курильницах, и ароматических свечей. Здесь процессию встречали вожди союза в одеждах и головных уборах минского и древнего покроя, а также будущие нареченные братья неофита с обнаженными клинками и флагами в руках. Вперед выступал один из иерархов ложи. Стоя на коленях, неофит выслушивал и повторял за ним 36 клятв. Каждая из них содержала обязательство делать положенное либо не совершать запретного и провозглашала кару за нарушение обета — гибель от «пяти ударов грома», от «десяти тысяч мечей», прозябание всех последующих поколений, истечение кровью через рот, нос, глаза и уши, смерть в пути, в одиночестве, растерзание волками и тиграми, без похоронного обряда и упокоения души. Затем читались вслух и повторялись неофитом 72 установления. Каждое из них трактовало поступок — либо обязательный, либо запретный, а также наказание за нарушение «закона»: смертная казнь за измену и отступничество, отсечение ушей, обращение в рабство и прочее. Далее звучали 21 правило и 10 запретов. За этими цифрами стояла символика чисел — соответственно 36 «небесных духов», 72 «земных духа», 21 легендарный основатель «Триады».
Потом наступала первая фаза обряда побратимства — неофит братался со всей «Триадой» в лице двух членов союза. Его подводили к главе ложи или старшему иерарху местного отделения. Кровь зарезанного на алтаре жертвенного животного стекала в ритуальную чашу. Сделав себе надрезы мечами, два члена союза добавляли туда свою кровь, скрещивая над головой неофита окровавленные клинки. При постоянно звучавших магических текстах они прокалывали мечами кожу на груди испытуемого и пускали его кровь в чашу. В этот момент новичок, на чью склоненную шею ложилось лезвие тяжелого меча, приносил клятву верности на всю жизнь. Он клялся строго подчиняться дисциплине, блюсти тайну, соблюдать установления, правила, запреты и обряды, помогать нареченным братьям по союзу, вместе с ними быть готовым к вооруженной борьбе с завоевателями и по первому сигналу выступить против врага. Объявляя о своей смертельной ненависти к маньчжурам, о своем стремлении изгнать «северных варваров» и возродить империю Мин, он обещал укреплять в себе отвагу и готовиться ко «дню мщения». После принесения клятвы два члена союза, давших свою кровь, и неофит по очереди припадали к чаше со смешанной кровью, а последнему сверх того мазали ею губы. Так завершался обряд братания, и неофит становился нареченным братом (сюньди) остальных членов союза. Его подводили к «святая святых» — алтарям, чтобы поклониться памяти пяти погибших монахов-«первооснователей», совершить символическое жертвоприношение и возжечь благовония. Под сводами Зала Верности и Справедливости звучало заключительное торжественное песнопение, и войско «Триады» обретало нового бойца.
В зависимости от местных условий церемония могла быть сложнее или проще. Но все ложи и их отделения старались сохранить магический и символический элемент обряда и стихотворные тексты, якобы навеянные высшей, сверхъестественной силой. Торжественность церемонии подчеркивала высокие цели союза, а мистический покров действа соответствовал средневековому складу мышления и характеру тогдашних китайцев. Таинственные обряды, притчи, легенды, заклинания и талисманы еще более сплачивали членов «Триады», выделяя их из остальной массы населения и давая им ощущение своей избранности, сопричастности к великому делу, угодному Небу. Это создавало уверенность в поддержке высших небесных сил и в предстоящей победе.
«Триада» не признавала ни династии Цин, ни правительства в Пекине, ни местных властей. Цинского суда для членов союза не существовало — выступать на нем даже в качестве свидетеля считалось позором, они судили собственным судом. Иными словами, тайное общество являлось не только подпольной боевой организацией, но и как бы «государством в государстве». Хотя «Триада» отвергала все маньчжурское и официальное, ее «братья» могли состоять на государственной службе, но при обязательном сокрытии своей принадлежности к союзу. Это было особенно опасным для цинского режима, поскольку создавало в его лагере сеть вражеских разведчиков-осведомителей, которые поставляли «Триаде» ценную оперативную информацию.
«Триада» не имела вертикальной многоярусной централизованной структуры. Напротив, она представляла собой сумму горизонтальных, однородных, по сути, автономных ячеек. Союз представлял собой не «дерево», растущее ввысь у всех на виду, которое можно свалить под корень одним ударом, а «траву», стелющуюся по бескрайним просторам. Власти могли уничтожить одну-две ячейки, проваленные или случайно обнаруженные, но всю сеть низовых организаций раскрыть было невозможно. Они выживали даже в случае обнаружения местной ложи. Благодаря этому «Триада» не только сохранялась как величина постоянная, но и росла вширь.
В провинциях бассейна Янцзы и Южного Китая действовала «семья» конспиративных организаций, объединенных общностью лозунгов и целей, единым легендарным происхождением, единой системой символов, ритуалов, паролей, условных знаков, устного языка арго и тайнописи. Сеть их не имела общего руководства и регулярных связей между звеньями. Однако единство идейного багажа, принципов внутренней структуры и наличие общего врага делали «Триаду» своеобразным подпольным политическим движением. Иногда в одной области создавалось несколько организаций или, наоборот, одна организация охватывала несколько областей. Расширяясь и создавая новые звенья либо укрываясь от преследования властей, организации дробились, объединялись и меняли названия.
Все члены «Триады» делились на ранги. Каждый из рангов имел свои собственные функции и образное наименование — своего рода должность и чин. В этой строгой иерархии военный советник («белый веер») стоял выше экзекутора («красная дубинка»), а тот — намного выше простого разведчика («соломенные сандалии»). В свою очередь, руководство подразделялось на пять рангов и имело большую власть над рядовыми членами. Вожаки «Триады» выдвигались чаще всего из среды мелких и средних торговцев и избирались всеми «братьями» на тайных собраниях. Местной ложей руководил «голова дракона», ниже стоял «владыка благовоний». Вожаки выступали в качестве высших авторитетов, старейшин, арбитров, судей и боевых командиров. В приморских районах в «Триаде» значительную роль играли представители торговых кругов, обиженные местными властями, или оппозиционно настроенные помещики, не получившие на экзаменах ученую степень интеллигенты, не добившиеся чиновной должности шэньши, а также командиры и бойцы отрядов сельской милиции.
В «Триаде» не существовало каких-либо социальных или имущественных ограничений для приема новых членов. В этом смысле «Братство Хун» взяло за образец «Великое братство Шуйху», воспетое в многочисленных народных сказаниях, стихах, песнях и пьесах XII–XIII веков. Позднее на их основе писатель Ши Найань (1296–1370) написал роман «Речные заводи», отважные герои которого создали братство, объединившее выходцев из всех сословий и имущественных слоев — бедных и богатых. Именно этот дух равенства и единства всемерно культивировался в «Триаде». Кем бы ни был «нареченный брат» — ученым, крестьянином, актером или торговцем, он должен строго выполнять обязанности члена союза. Общая цель — свержение власти ненавистных завоевателей — должна объединять в священной борьбе всех китайцев.
Особенно сильны позиции «Триады» были в городах, где в ее ряды вступали ремесленники, мелкие торговцы, матросы, контрабандисты, грузчики, лодочники, кули, нищие и другие представители низов. Ячейки союза возникали в сельской местности, в районах горных разработок, на транспортных артериях, вовлекая в свои ряды и люмпенов, и работный люд. Для маргиналов «Триада» зачастую служила последней опорой в жизни, якорем спасения, источником надежды. Союз притягивал к себе бедноту, поскольку выдвигал, правда в туманной форме, ряд привлекательных идей — социальной справедливости, равенства и взаимопомощи. Организации зачастую служили их членам и местному населению защитой, сдерживающей силой против крайнего произвола чиновников. Антиманьчжурские лозунги приводили в «Триаду» и оппозиционно настроенных богатых людей. На их взносы и пожертвования членам союза оказывалась материальная помощь, закупалось оружие, покрывались расходы на текущие нужды организации.
Называя себя «Братством Хун» и «Семьей Хун», союз гарантировал для всех равные права, обязательства и дисциплину независимо от социального и материального положения его членов. Этому же способствовала религиозная терпимость и конфессиональная «всеядность» тайного общества. «Братья» поддерживали «своих» в конфликтах с «чужаками», в том числе в ссорах и драках, укрывали от преследования властей, оказывали материальную помощь, давали друг другу приют и оказывали содействие при передвижении по стране. В «Триаде» ходила поговорка: «Каждый нареченный брат, не имея ни гроша за душой, может пройти по всей Поднебесной». Члены союза заботились друг о друге, помогали в несчастье. Одна из заповедей «Триады» гласила: «Если брат в опасности или арестован властями, все братья должны принять меры к его спасению. Уклонившийся от этой ответственности под каким бы то ни было предлогом должен быть наказан ста восьмью ударами бамбуковых палок». Вражда и неприязнь между «братьями» запрещались. За проступки и преступления, совершенные по отношению друг к другу, наказывали крайне строго. В «Триаде» господствовал дух сплоченности, взаимовыручки и самопожертвования.
Внутри союза действовал жесткий распорядок. Богатые и состоятельные «братья» платили взносы. Все члены общества должны были являться на тайные собрания и по вызову вожаков, неукоснительно выполнять приказы и распоряжения, сохранять полную боевую готовность, соблюдать бдительность и конспирацию. О членстве «брата» в союзе не должны были знать даже его ближайшие родственники. Разглашение тайны, измена, дезертирство и отступничество карались смертью. «Триада» требовала от своих членов особой осторожности в городах — средоточии чиновников, мелких служащих ямэней, солдат и всякого рода недоброжелателей союза. Для предотвращения крупных провалов местные организации делились на «пятерки». Рядовой ее член даже под пыткой мог выдать только четверых. «Триада» уничтожала потенциальных доносителей из местного населения и наиболее опасных своих врагов. Благодаря искусной конспирации члены союза, как правило, оставались неуловимыми. Для связи применялись условные обороты речи, едва заметные жесты, особая манера складывать пальцы, держать палочки для еды, ставить плошки с пищей на столе. Для непосвященных были непонятны тайные пароли, условные знаки, специфический жаргон и особые приемы тайнописи. Собрания ячеек или «пятерок» происходили в глубокой тайне, чаще всего по ночам.
Члены «Триады» воспитывали в себе дух героизма, самопожертвования и преданности общему делу. «Нам следует закалять в себе отвагу, готовясь ко дню мщения», — говорилось в установлениях союза. От «братьев» требовалась умеренность в еде, запрещались пьянство, азартные игры и посещения публичных домов, ибо эти пороки ослабляли стойкость и боевую готовность. Разрешалось лишь курить табак. Вдали от посторонних глаз члены союза овладевали «военными искусствами» (ушу) — занимались фехтованием и упражнениями с мечом и пикой, а также изучали мастерство рукопашного боя и нанесения ударов ногами. «Военные искусства» в сочетании с магическими ритуалами, талисманами, заклинаниями и амулетами создавали веру в «неуязвимость» перед врагом. «Братья» тайно изготовляли и покупали оружие, делились на боевые группы и отряды во главе с командирами, строго следившими за соблюдением дисциплины. В нужный момент конспиративная организация превращалась в боевую дружину или ряд вооруженных отрядов. «Триада» уничтожала наиболее ненавистных маньчжуров, их приспешников-китайцев и готовилась к решающему восстанию. Если во время боевых действий «брат» проявлял нерешительность и колебания, он должен был погибнуть от рук своих же. Боевым цветом союза служил красный. Иероглиф «хун», его обозначающий, входил в название — «Братство Хун». Во время восстания бойцы «Триады» надевали на головы красные повязки или алые тюрбаны, подпоясывались красными кушаками, к одежде прикалывали банты того же цвета или клочки кумача.
Наступил год Овцы (1787) — время первой пробы сил. Действовавшая под названием «Союз Неба и Земли» «Триада» подняла восстание на Тайване. «Братьями» руководили глава сельской дружины самообороны Линь Шуанвэнь и деревенский богатей Чжуан Датянь. Первый был провозглашен правителем острова (девиз — Тяньюань — Небесное предопределение), а второй — главнокомандующим. Из руководителей союза были избраны чиновники, создан госаппарат, восстановлены порядки и обычаи династии Мин. Только через год, перебросив на Тайвань более ста тысяч солдат, маньчжуры с большим трудом смогли по частям разгромить силы повстанцев. Обоих лидеров в клетках доставили в Пекин, и там они сложили головы на плахе.
После этого строжайшее запрещение «Триады» появилось в уголовном кодексе Цинской империи, принадлежность к ней каралась смертной казнью или пожизненной ссылкой с отбыванием каторжных работ. Однако уже ничто не могло напугать или парализовать этот боевой союз. Во всех ложах и ячейках их главы произносили ритуальную речь: «Мы, единые и в радости и в горе, посвятили себя возрождению династии Мин, происходящей от Неба, Земли и всего сущего. Мы посвятили себя уничтожению бандитов-варваров и ожидаем истинного повеления Неба. Как только народ начнет проявлять неповиновение, это будет знак, данный нам Небом, что должна быть восстановлена династия Мин, а бандиты-варвары — уничтожены. Все те, кто хочет возродить династию Мин, отомстить за наши обиды, смыть наш позор и установить всеобщий мир, пусть получат титулы… и их потомство пусть процветает во всех поколениях!»
«Великая стена» вдоль морского побережья.
«Закрытие» Китая для европейцев
Китайский чай, шелк и фарфор издавна привлекали к себе внимание Европы, которая видела в Срединном государстве богатейший, безграничный по своим возможностям рынок. Казалось, что с завершением маньчжурского завоевания Китая для деловых кругов Запада открылись радужные перспективы. Купцы из Португалии, Голландии, Англии и Франции, ведущие торговлю на побережье Китая, создавали там свои фактории: англичане — в Гуанчжоу (Кантон), французы — в Нинбо, а португальцы — в Макао (Аомэнь). Активно действовали Ост-Индские компании Англии и Голландии, направлявшие в Пекин свои миссии. Приезжали португальские посольства и специальный представитель Людовика XIV.
Первое время после завоевания Китая маньчжуры относились к европейцам-миссионерам довольно благожелательно. В Пекине и других городах миссионеры, в основном иезуиты и францисканцы, занимались проповедью христианства и открывали свои церкви. Но позже, когда позиции завоевателей-маньчжуров внутри страны стали заметно слабеть, а в госаппарате увеличивалась роль китайцев, династия Цин предприняла особые меры предосторожности, дабы воспрепятствовать вторжению в Китай чужеродной силы, могущей еще более дестабилизировать внутреннюю обстановку и создать внешнюю угрозу. В итоге сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, имела место эйфория от ощущения своего могущества, а с другой — росло стремление укрыться в собственной скорлупе в преддверии начинающегося кризиса империи. В Пекине не без оснований считали, что влияние «заморских варваров» разлагает традиционные устои конфуцианской системы, а поэтому «закрытие» Китая от внешнего мира — важное условие самосохранения режима.
Маньчжуры и преданные им китайские сановники помнили, что европейцы — «заморские варвары» из далеких и, по их мнению, слабых стран — вмешались в середине XVII века в борьбу между династиями Мин и Цин, помогая как тем, так и другим. Во избежание повторения подобного Пекин решил постепенно «закрыть» Срединную империю для «рыжеволосых» и «длинноносых» варваров. Цинские правители хорошо усвоили уроки китайской истории. Ослабление очередной династии всегда сопровождалось нарастанием угрозы извне, а внутренние «смуты» в конце правления обреченной династии использовались внешними силами для захвата власти в Китае, как это сделали сами маньчжуры. Исходя из печального опыта династии Мин, богдоханы Иньчжэнь и Хунли приняли превентивные меры против возможной внешней угрозы. Тем более что «мирный» сорокалетний период господства династии Цин стал сменяться «периодом тревог». Конец ему положили восстания на Тайване в 1721 году и народности мяо в Гуйчжоу (1735–1739). Явный перелом наступил в середине XVIII века, когда волна вооруженных выступлений резко возросла и на горизонте замаячил очередной период «смут». В этих условиях политика «закрытия» Китая для внешнего мира виделась богдоханам как одно из средств самосохранения.
Одним из важных шагов к изоляции страны стало объявление вне закона в 1724 году миссионерской деятельности «заморских варваров». Затем последовал запрет китайцам покидать свою родину, который должен был предотвратить возникновение за рубежом сильной антиманьчжурской эмиграции со своими вооруженными отрядами и эскадрами. Китайским купцам запрещалось плавать на иностранных судах, общаться с «заморскими варварами» и изучать их языки.
Вообще все, связанное с морской торговлей и судоходством, вызывало у цинского правительства предельную подозрительность. Политика изоляции, или «морского запрета» (хайцзинь), складывалась постепенно, в течение нескольких десятилетий, указами богдоханов. Судостроение, прежде всего морское, находилось под особым контролем маньчжурской бюрократии. Под страхом смертной казни запрещалось строить большие суда, способные уходить далеко от берега в открытое море. Даже на каботажный рейс судовладелец должен был получить не только разрешение местных властей, но и поручительство десяти своих коллег — владельцев судов. Тем самым цинский режим лишил купечество Китая внешнеторговой активности и «запер» его в «стенах» Цинской империи. При этом жестко контролировалось прибытие в Китай иностранных купцов и дипломатов.
С 1649 года китайцам нельзя было торговать вне границ Цинской империи, то есть на чужой территории. В 1716 году была запрещена торговля с иностранцами медью и цинком, а с 1733 года — железом. С 1732 года прекращался вывоз железных котлов, а с 1759 года — шелковых тканей. Указ о запрете на экспорт шелка в дальнейшем многократно повторялся. «Заморским варварам» разрешалось скупать только коконы, шелковую нить и пряжу. Иностранцам запретили ввозить в Китай медь, свинец, железо, олово и селитру, ибо династия Цин боялась тайной отливки китайцами медной монеты, а также подпольного изготовления оружия и боеприпасов. Европейцам также запрещалось торговать в Китае рисом и бобами, шелком-сырцом и шелковыми тканями. Цинские власти строго следили за тем, чтобы «заморские варвары» не увозили из Поднебесной серебро в слитках, а также медную монету. Был наложен запрет на ввоз европейских книг. Даже разрешенный экспорт всячески лимитировался — предельные объемы годового вывоза были введены для чайного листа и ревеня.
Вся внешняя торговля Китая проходила через руки специально назначенных правительством или за большие деньги получавших это право купцов-откупщиков — «казенных торговцев» (гуаньшан). Стремясь максимально сузить и всемерно контролировать торговлю с европейцами, император Сюанье в 1720 году приказал «казенным торговцам» южной приморской провинции Гуандун объединиться в полуказенную, получастную гильдию «Гунхан» («Кохонг»). Ее члены получали монопольное право торговли с «заморскими варварами», корпорация осуществляла контроль за ними и сбор таможенных пошлин. Сама «Гунхан» находилась под строгим надзором наместника провинций Гуандун и Гуанси, военного губернатора и таможенного начальника. Купцы, не входившие в эту гильдию, не могли напрямую торговать с европейцами. Им приходилось продавать свои товары членам «Гунхан», платя тяжелые внутренние пошлины, подвергаясь вымогательству и произволу со стороны «казенных торговцев» и чиновников. Только члены «Гунхан» имели право общаться с «заморскими варварами» и изучать их языки. В 1728 году аналогичная корпорация для торговли с Японией была создана в провинции Чжэцзян.
Цинское правительство жестко лимитировало экономические связи со всеми соседними странами. Оно всячески препятствовало расширению деловых контактов русских купцов с китайскими, неоднократно прерывая торговлю в Кяхте: в 1762 году — на шесть, а в 1785 году — на семь лет. Строго контролировались и весьма ограниченные торговые связи с Кореей. Японо-китайская торговля находилась под двойным прессингом — и цинской стороны, и правительства сегунов Токугава. Объявившая себя «закрытой страной», Япония к концу XVIII века сама почти прекратила торговлю с Китаем. Была ограничена внешняя торговля через Макао. С 1725 года в этот порт могло заходить только 25 «варварских» кораблей, ас 1732 года был установлен контроль за каждым таким судном. Наконец, в 1757 году император Хунли запретил иностранную торговлю во всех морских портах, кроме Гуанчжоу. Тем самым для европейцев закрывались порты и таможни Нинбо (провинция Чжэцзян), Чжаньчжоу (Фуцзянь), Юнь-тайшань (Цзянсу) и Динхай (острова Чжоушань). Открытыми остались лишь Гуанчжоу и отчасти Макао. Таким образом, корпорация «Гунхан» становилась монополистом в этой области.
В Гуанчжоу европейцам даже не разрешалось селиться в пределах городской черты. Им возбранялось изучать китайский язык. Тех китайцев, которые обучали языку «заморских чертей», казнили. Китайцам же запрещалось переселяться на прибрежные острова и распахивать там целину. Нарушителей возвращали на материк, а дома их сжигали. В 1787 году было запрещено заселение островов у побережья провинции Чжэцзян. По всему морскому побережью как бы поднялась незримая, но прочная «китайская стена» с единственной «дверью» — Гуанчжоу. Этим завершился процесс «закрытия» Цинской империи.
Англичане стучатся в закрытую дверь.
Миссия лорда Макартнэя
Предрассветный час 14 сентября 1793 года в летней резиденции китайского императора в Мулане (Жэхэ) обещал ясное, чуть прохладное утро. Свежий ветер с окрестных гор трепал свободно висящие полы огромного шелкового шатра богдохана, установленного в дворцовом Парке Несчетных Деревьев. Вокруг малых шатров и палаток, расположенных на подходе к шатру богдохана, толпились маньчжурские князья, сановники, придворные. Они собрались здесь задолго до рассвета в ожидании появления императора. Беседовали, почтительно понизив голос, раскланивались, обменивались любезностями и новостями. Предстоял прием «даннических» послов, прибывших с поздравлениями по случаю дня рождения богдохана. Через три дня императору Хунли должно было исполниться 83 года, 57 лет из которых он провел на «драконовом троне».
Среди послов «даннических» стран своими костюмами и обликом резко выделялись англичане — посольство короля Великобритании Георга III. Впереди членов миссии стоял Его светлость Чрезвычайный и Полномочный посол досточтимый лорд граф Джордж Макартнэй. В парадном бархатном, вышитом золотом камзоле, с осыпанным алмазами орденом Бани и широкой красной орденской лентой, в накинутой поверх камзола орденской мантии он — первый британский посол в Китае — выглядел торжественно. Поскольку китайский церемониал не позволял послам подходить к Сыну Неба с парадной шпагой на боку, сэр Джордж был без нее. Умное, красивое, породистое лицо посла выдавало еле скрываемое волнение. В свои 56 лет этот опытный политик и администратор успел многое повидать. В свое время он был послом в Санкт-Петербурге, губернатором Карибских островов, губернатором Мадраса и недавно отказался от поста генерал-губернатора Индии. Теперь судьба занесла его в далекий и таинственный Китай. Десять месяцев потребовалось британским военным кораблям «Лайен» и «Хиндустан», чтобы доставить посольство из Портсмута к устью реки Бай-хэ вблизи Тяньцзиня. Отсюда на джонках до Тунчжоу, а затем на повозках оно добралось до небольшого загородного дворца Хунъяюань, расположенного южнее летнего императорского дворца и парка Юаньминъюань. Далее Макартнэй с небольшой свитой, миновав проход в Великой Китайской стене, прибыл в Мулань. Оставшиеся в Хунъяюане англичане готовили для императора Хунли своего рода небольшую, но весьма эффектную торгово-промышленную выставку с демонстрацией лучших британских товаров, машин, механизмов и технологий. Для транспортировки багажа и экспонатов потребовалось 90 повозок, 200 лошадей и 3 тысячи китайских носильщиков. В Лондоне надеялись, что выставка поразит воображение богдохана и подтолкнет его хотя бы на частичное «открытие» Китая для английских коммерсантов.
Макартнэй знал, что его и всех англичан в Пекине считали «варварами» и «данниками» Сына Неба, впрочем, как и всех остальных иностранцев. По китайским представлениям все прочие государи стояли намного ниже «драконового трона» и могли жаждать только одного — милостей и этических наставлений богдохана. Им было положено иметь лишь одну высшую обязанность — почитать императора, приезжать к нему с «данью», то есть с выражением своего преклонения, и безусловно повиноваться его воле. Цинский двор не посылал своих послов в Европу и в Азию, не имел там своих представителей, а потому был плохо информирован о положении дел на Западе, который представлялся в Пекине роем маленьких и слабых «варварских» стран. Все они рано или поздно должны явиться на поклон Сыну Неба, дабы приобщиться к его моральному совершенству, величию и могуществу. Иностранные, то есть «даннические», послы в Китае считались простыми чиновниками, а не представителями своего государя и вручать верительные грамоты должны были не богдохану, а одному из его сановников.
Встречая рассвет в дворцовом парке Муланя, сэр Джордж мог считать, что ему повезло, ибо добиться аудиенции у императора было очень трудно. Цинские сановники в отношении европейских послов нередко проявляли грубость, высокомерие, как могли демонстрировали свое «превосходство», угрожали, тянули с ответом и иными способами старались унизить «заморских чертей», а в случае их строптивости выпроваживали несолоно хлебавши. На джонках, везших посольство по реке Байхэ до Тунчжоу, и на повозках, доставивших миссию в Хунъяюань, были вывешены флаги с надписью «Посольство с данью от английского короля». Да и сейчас, в это утро, сэр Джордж оказался в числе «даннических» послов — из Пегу (Бирма) и ряда мусульманских княжеств.