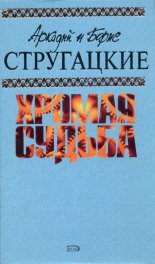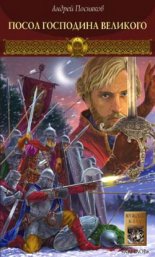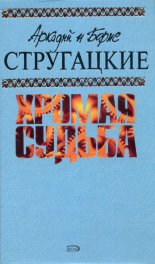Слово Алексеев Сергей
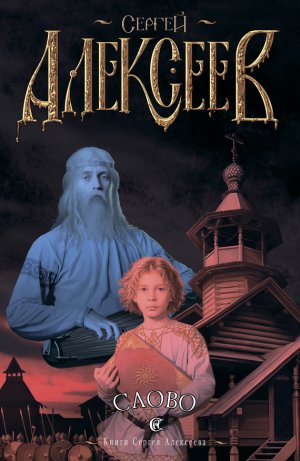
Хлебнул меду великий князь, оросил гортань, огляделся. Просветлели очи княжеские, ровно выплакал он перед старцем темную пелену с них, прозрел в одночасье. Но похолодели те очи, застыли, как у малеванного Христа на иконе.
– Люд-то русский волюшку любит, – вещали струны под перстами старца, – оттого и хорошо тебе, княже, когда ты в поле скачешь с дружиною. Отними-ка волю – и нету Русской земли. Воля – изначальный Бог на Руси. Алчна к ней Русь, и многие лета алчна будет. Вот Улыба мой к тебе в дружину просится. И отпущу его, коли ты пожалуешь. Не стану неволить мудростью письма. Видел я, аки христиане своему богу молятся. В церкви-то духота, теснотища, да все на коленах стоят. Хочешь ты, княже, чтобы вся Русь на коленах стояла, хочешь, чтобы иноземному богу молилась и вместо песен псалмы пела? Хочешь ты, княже чтобы русский люд аки рабы стал? Худое дело ты задумал – русскому люду бога искать.
– Христианство – вера вещая, – креп голос князя. – Многие земли и народы приняли ее. Нельзя Руси поперек стоять, ибо войны грозят ей жестокие. Торговые люди челом бьют, жалятся, товар-де за морями не покупают, поганый, рещат, товар… А еще я новое письмо Руси дам, да чтение, ибо вера христианская – книжная, чистейшая.
– Чем не ладно письмо русское, от отцов наших пришедшее? – осерчал Дивей. – Сказывал я деду и отцу твоему, и тебе решу: письму да чтению не одних княжичей да боярычей учить надобно, елико сынов купеческих, и других людишек, кои тебе да Руси служат.
– То поганое письмо, за морями неведомое и в учении тяжкое. – Расправил великий князь рубаху под пояском, головой тряхнул. – А уже ходит по Руси другое письмо, братьев солунских, Кирилла и Мефодия.
– Тяжкое да поганое? – еще пуще осердился Дивей. – Я же тем письмом об Игоре Рюриковиче слово доброе писал, и об отце твоем песни складывал, аже бы чада твои, и чада чад твоих умом их живот постигли да мудрость имали. И о тебе, княже, нынче я песнь сложил, но рещешь ты – поганая та песнь и токмо молитвы чужеязычно писанные святы?.. Молитвы-то на зрак[27] токмо текут, ровно мед в уста, а исподволь-то они браздою на лик твой, на сердце и думы лягут… Люб ты мне, княже. Сызмальства жалел, от братьев твоих, Ярополка да Олега, упреки слушал – сын рабичи… Страсть аки больно слушать было.
Насупился великий князь, бровь гневно выгнул. Уж который раз старец ему про мать поминает. А в сердце княжеском рана старая, и болит, и саднит – сын рабичи! Елико потешаться можно? Елико бредить душу да струпья с той язвы ковырять? Рогнеда, княжна Полоцкая, вельми дерзка была, в бешенство вводила. «Не хочу за рабичича идти, – крикнула. – Хочу за Ярополка!» И до сей поры нет-нет да и помянут Владимиру про мать-рабичу.
Дивей же на гуслях подыгрывает и знай себе сказывает:
– Польстился ты, княже, на товары заморские, а вкупе с товарами и на бога заморского. Нет бы тебе Русь соколом в небо поднять, окрылить ее славою да силою, аже бы гости из-за моря сами плыли к тебе, и товары везли, и земле нашей поклонялись. Ты же походами на русских же князей ходишь и бьешь их до смерти. Тем временем хазары да печенеги города и веси жгут, людишек в полон, в рабство уводят…
Оглянулся великий князь – оторопел: Божье око следит за ним, и лик мазаный гневом объялся.
– Слеп и глух народ той земли, где заместо песен молитвы поют, где от бога не благость, а страх исходит, – промолвил Дивей, и стихли струны под его перстами. Владимир по светлице прошел – огонь свечей затрепетал, поклонился вослед.
– Добро служил ты Руси, Дивей, вельми добро, – сказал князь. – Чаю я, еще послужишь. Абы не след летописцу и песнетворцу великому князю перечить, против воли его идти. Хочу я быть с тобой в купномыслии, а потому не противься, с зарею ступай на Днепр и прими святое крещение. Будешь при дворе моем жить и лиха не знать. А поелику ты греческое письмо да язык знаешь, велю тебе ихние святые книги на русский язык переложить да новым письмом записать. Харатьи же со старым, поганым письмом сожги, дабы не гневить светлейшего Христа-спасителя. А тебе дарю шубу со своего плеча! – поднял великий князь соболью шубу и на плечи Дивеевы набросил. – Иди почивать до зари. Улыбе, сыну холопьему, волю даю. После крещения присылай, возьму я его в дружину. Быть по сему!
Тряхнул плечом Дивей – спала шубейка на пол, – ожег взглядом князя и вышел вон.
Кровью налился Владимир – экое безблагодие! – заметался по светлице, кликнул доверенного боярина.
– Не пускать Дивея из терема! На чеп[28] его, в темницу, да чтобы людишки не видели.
Боярин давно при дворе служил, знал княжеский норов и приказ исполнил в точности.
Великий князь еще пуще заметался. Куда ни кинется – всюду за ним глаз Божий. Снова призвал доверенного.
– Велю Дивея силой крестить! – топнул ногой. – Аже бы от старца сего поганая вера и ересь противу чистейшей христианской по Руси не пошла! Возьми-ка, боярин, попа с собою да сейчас же ступайте на Днепр. Хоромину же Дивееву вместе с харатьями погаными дотла сожги.
Убежал боярин исполнять приказ княжеский. Владимир рухнул перед иконой на колена, замахал десницей:
– Спаси мя, Господи! Тебе одному молиться стану – спаси! Дай мне веру, покою дай! А я великое дело сотворю на Руси. Я поведу к тебе, Боже, людей своих, а ты прими их в лоно свое святое! Да токмо русскую душу оставь! Всели в нее благость свою, присовокупи к храбрости мудрость, а к вольнолюбию – покорность. Мне же веры дай!
Помолился так великий князь, прислушался к себе. Не дает Бог веры, пусто в сердце, холодно и пусто.
– Веры! Веры дай! – закричал князь и потянулся руками к иконе. – Веры и покою!
Вскорости доверенный боярин прибежал. От порога пал ниц лицом, пополз к ногам княжеским.
– Не вели казнить! – кричит. – Вели миловать! Макнули мы с попом старца Дивея в Днепр, абы крестить его, да утоп он! Утоп! Ровно камень ко дну пошел!
– На то воля Господня, – сказал великий князь и взял ковш с медом. – На, пей за верную службу. Да буди глашатаев моих! Заря поднимается…
Только сказал Владимир – ослабли руки, подломились ноги: все узрел Божий глаз, и почудилось князю – слезы покатились из мазаного ока. А в голове-то слова зашевелились, греком-попом сказанные: не убий, не укради, возлюби… Не убий, не укради, возлюби…
С зарею Киев будто пожаром объялся. Собаки воют, кони по улицам шарахаются и ржут испуганно. К Днепру многотысячная толпа идет, босая, в исподнем, как велено было. Смешался люд: где бояре, где смерды иль холопы – не разобрать. Дружинники верховые по Подолу рыщут, выволакивают строптивых за волосья, хлещут плетьми и к реке волокут. Русские христиане, что ранее крещение приняли, на подмогу дружинникам пришли. Лупят, дерут, секут полуголых людишек. Плач да стон плывет, ровно при набеге печенежском. Ветхие старики качаются тенями среди молодых горожан, матери с грудняками да отроками тащутся, девки молодые, стыдливые – ор над Русью стоит.
А заря-то все пылает, в полнеба выросла. Покраснели городские стены, багряно засветились терема и хоромины, а земля, ровно уголья, рдеет под пеплом седых трав. Сгрудился люд на берегу, белый, холстяной, и пошел в воды Днепра. Кто сам, с радостью и блаженством на лице, кого силой в воду спихнули. Сперло дух от холода, разом стих гомон и рев, и понеслась над рекою речь иноземная. Греки и болгары-попы изо всех сил стараются, да не внемлет ухо чужому слову.
Тем временем Улыба, сын холопий, бегал по пустому городу в обгорелом платье – великого князя искал. В терем его не пустили – огрели пикой по спине и на Днепр отослали. Встретился ему Первуша, дружинник княжеский, витязь храбрый и гулеван отчаянный. Схватил, к себе во двор заволок и сует ковш с вином.
– Пей! Пей да петь будем! А то все куда-то разбежались – повеселиться не с кем!
Едва отбился от него Улыба, вино расплескал, бочку перевернул, створку ворот вышиб плечом и на Днепр утек. А там схватили Улыбу дружинники и в воду бросили. Вынырнул он – и на берег. Проскочил мимо попов – и к князю, который на круче стоял.
– Где Дивей? – кричит. – Где мой дедушко?
Столкнули Улыбу с кручи и окрестили вместе с людом другим. Он же все одно не угомонился. После крещения великий князь с дружинниками поехал на холм, где капище было, а Улыба за ним. Глядит, спешиваются дружинники и давай идолов топорами да мечами рубить. Порубили в щепки и запалили. Пробился Улыба к князю. Благо что среди дружинников и люд простой был, новокрещеный, помогал идолище поганое сокрушать.
– Где мой дедушко? Где Дивей?!
Затрясло Владимира. Приказал он поймать холопа и плетьми драть, но увернулся Улыба, спрятался. А дружинники-то повалили Перуна-бога и топоры занесли над ним. Но тут великий князь десницу поднял: не рубить Перуна-бога! Несите его на Днепр!
Двенадцать дружинников взяли Перуна и понесли на реку. Холопий сын, крадучись, следом побег. Притаился в кустах, выглядывает, как бы поближе ко князю подойти. Ввергли Перуна в Днепр, дружинники в лодки сели и поплыли за идолом. Рассмеялся кто-то над рекой:
– И Перуна-бога окрестили!
– Хватит, постоял над нами!
– Христу сладчайшему – сла-а-ава-а-а…
Выскочил Улыба из кустов и опять к князю:
– Где Дивей? Где дедушко мой?!
Обвял великий князь, заозирался с ужасом и давай лоб крестить. Улыба же не стал ждать, когда словят его дружинники да оруны новокрещеные, и порскнул с берега в Подол. Чужеземные попы да дружинники ходят толпою по городу, хоругви носят, дымом окуривают, словно и так мало дыму в тот день на Руси было. А еще песни поют – псалмы, песни неведомые на Руси, непривычные уху. Слушают их люди, кто-то подтянуть старается, но не поются чужие песни, не приемлет их душа русская. Заместо благости посуленной кручина одолевает, ровно это не Владимир с победой и добычей из похода вернулся, а степняки налетели и покорили Киев, одолели великого князя и угоняют теперь в полон всех людей русских.
И веревки на шее нет, а ровно связанные…
Молодой боярин Первуша в Корсуни так сабелькой наигрался, что в хоромах своих то и делал, что спал, бражничал да с веденицею[29] тешился. Этим утром все дворовые люди и домочадцы на Днепре крещение принимали, он же все проспал в погребке под винной бочкой. А как проснулся, слышит – эко петь на Руси стали! Будто сроду не кормлены и не поены, будто глотки у певцов попересыхали.
– А-алилу-у-у-яя… – тянут как мертвого за ноги.
Выкатил Первуша бочку вина, вышиб крышку и ковш поставил.
– Пейте, люди добрые! Пейте да пойте, абы душа вольным соколом взметнулась!
Попы стороною обойти хотели, но Первуша расставил руки да и остановил враз певцов.
– Экие вы чудные! – рассмеялся. – Видано ли, чтоб на Руси от вина морду воротили?
Сгрудились попы – нету хода – и машут руками, и гомонят чего-то. Боярин же ковш зачерпнул, сам отпил и сует попу, и плещет ему вином на золоченые одежды:
– Ну, пей же, пей!
– Изыди, сатана! – верещит поп, и люди, что за ним были, тоже блажат, словно безздравленники[30], ногами топают. Народ со всех сторон сбегаться начал, стоят, рты разинули.
Первуша знай свое:
– Коли вы народ веселить пошли, что же вина не алчете? Экие потешники на Руси нынче! Не веселье от вас, а молва, ровно от супостата. Я петь стану!
Хватил он ковш вина, вскинул голову, расправил русые кудри и запел. Да так, что на минуту стих люд кругом, и потешники в черных одеждах стихли, прислушались. Улыба хотел протолкаться сквозь народ – запрудила толпа амболку[31] – да в Подол, к Дивеевой хоромине бежать, но застрял среди люда, заслушался…
– Да Первуша-то некрещеный! – крикнул кто-то в толпе. – И креста на нем нету!
Вздрогнула толпа, и ропот возреял над головами. Обступили боярина чернецы и новокрещеные, орут, десницами машут. Поп же, которому Первуша вина подавал, взбагровел от буести:
– Язычник поганый! Сатана! Диавол! На костер сажать его, нехристя!
– На костер! – подхватили чернецы.
– Он Перуну-богу поклоняется!
– Креста на нем нету!
Первуша допел песню, глянул на раззявленные рты – засмеялся.
– Как же нету-то? Вот он крестик!
И вынул из-под рубахи нательный крест.
Толпа приутихла, новокрещеный люд заозирался.
– Отступник! – закричал поп яростнее. – Еретик! Гореть тебе в геенне огненной!
Монахи замахали руками, крестясь, и кое-кто в толпе тоже неумело, на других глядючи, перекрестился.
– Я в Корсуни не сгорел, а дома уж не сгорю! – засмеялся Первуша и снова запел. Народ же так запрудил улицу – ни пройти ни проехать попам, и уж со всех сторон напирает, сдавливает. Тут уж не до расправы с боярином-отступником, только бы выбраться.
Тем временем Владимир со свитой нагрянул – расступился люд, затаил дыхание, замер. Боярин песню допел и лишь тогда великому князю поклонился, тряхнул головой.
– Славна ль песнь моя, княже?
– Славна, аки и воя ты славный, Первуша, – сказал Владимир. – Да ныне святые псалмы петь надобно, еже[32] крещение приняли.
Засмеялся боярин, взмахнул рукой, словно бордунью.
– Вольный я, княже! И песни мои вольные! Слушай еще! – Он взгромоздился на винную бочку и запел.
Попы же и чернецы затянули свое, эхом откликнулись новокрещеные, однако Первуша расправил грудь, и голос его слился с дымами, подпирающими небо.
Улыба и слушать забыл, и чувствовать. Он продирался сквозь народ, не сводя глаз с высокой княжеской шапки, с бледного лица его. Подойти близко не удалось – мешали попы и конные дружинники. А хор попов и новокрещеных понудил, понудил еще и, задавленный Первушиным голосом, умолк. Поп в ризах метнулся к великому князю, воздел руки, закричал что-то черным ртом.
– Боярин! – в ярости окликнул Владимир доверенного.
Тот тронул коня и, наступая на Первушу, потянул из ножен меч. Верно и сгубили бы тут же битливого[33] боярина и храброго дружинника Первушу, да все-таки протиснулся к княжескому стремени Улыба.
– Где мой дедушко?
Тихо так спросил, кроме Владимира, никто более и не услышал. Вздрогнул великий князь, покривился в седле и чуть было не рухнул наземь. Испугался Улыба, отскочил в сторону, затерялся в толпе. Доверенный боярин упредил, удержал князя, подпер его плечом. Опамятовался Владимир и еще пуще взбеленился, лютую казнь придумал для Первуши.
– Отсеки ему язык! – велел он.
Двенадцать дружинников, что Перуна-бога по Днепру сплавляли, навалились разом на молодого боярина, вмяли его в землю, но боярин и из земли встал. Пришли на подмогу чернецы – не осилили. И уж когда новокрещеные встряли, кинулись на Первушу, ровно вороны: кто руку держит, кто голову, кто саблей рот разжимает – одолели, отсекли Первуше поганый язык…
Расторопные новокрещеные стали идолов из хором боярских выносить да на костер сажать. Все, что мечено было знаком языческим, – все огню отдали. А попы наущали:
– В огонь! В смирении и молитвах жить надобно, рабы божьи! В аду отступникам гореть, в смоле кипеть!
– В огонь, – шептал и молился великий князь киевский. – В огонь. Абы и следа не оставить от веры поганой. Присно и во веки веков!
И поднимался над Киевом еще один дымный столб.
Прибежал Улыба на Подол. Глядь – где хоромина Дивеева стояла, только черные головни лежат и дымок еще курится. Волхвы Девятко и Жмура около бродят, попов и великого князя поносят.
Сел Улыба на землю, пепел из руки в руку пересыпает. Может, косточка какая от Дивея осталась… Но лишь наберет горсть – ветер тут как тут, – разнесет пепел, и на ладони лишь угольки останутся.
– Не тщись, Улыбушка, – говорят волхвы. – Этак не отыщешь ты дедушку своего. В огне он не сгорел, в воде не утонул.
– Где же он? – встрепенулся Улыба.
– А где он – токмо мы и ведаем, – зашептали волхвы. – Идем с нами – укажем!
Повели они Улыбу в таилище, достали ларец с харатьями.
– Тута Дивей, – сказывают. – Тута и борошень его. Твоя она теперь. Бери да владей, аки князь престолом.
– Песнь Дивеева! – закричал Улыба.
– В леса уходить надобно! – торопят волхвы. – Нагрянут попы, и пропадет песнь Дивеева!
Подхватили они ларец да отай в черные леса подались. А там народ разный собрался: где боярин, где изгой – уж и не понять, все вровень стоят и молчат, будто воды в рот набрали. Только Первуша с обнаженной саблей перед народом мечется, в сторону Киева указывает и орет безъязыко.
Пробился Улыба в середину, поглядел на народ, потом на дымы, что скрестились над городом, да и запел.
И понеслась над землею песнь Дивеева, только не под гусли звончатые, а под треск огня и стон, что над Русью стоял…
Скитское покаяние. 1961 год
Только утром Марья корову подоила, перекрестила ее и со двора выпустила – одноглазый Лука объявился. Подошел Лука Давыдыч, на городьбу облокотился, веригу свою поправил и уставился на Марью. Здоровый глаз у него, ровно небо, голубой-голубой, а второй – будто сучок выгнивший в старой осине.
– Коровку подоила? – спросил Лука Давыдыч и погладил коровью холку. – Экая справная у тебя коровка. И молочко, поди, жирное дает?
– Дает, Лука Давыдыч, дает, – проронила Марья, не поднимая глаз и понужая корову.
– А я уж и не помню, когда молочное ел, – признался Лука. – Зарок дал, обет: пестовать три года…
Он снова поправил веригу – пудовый буровой ключ, висящий на шее, потер плечо под широкой, посконной рубахой.
– Бо-ольно! – с радостью сказал он. – Больно-то как!
Марья отвернулась, глянула вдоль улицы, куда из дворов выходили и тянулись к лесу коровы.
– Не смешил бы людей-то, верижник, – бросила Марья. – Будто тебя здесь не знают…
– Знают, Марьюшка, знают, – ласково пропел Лука Давыдыч. – Всякого знают… Да токо на молении я теперь, во искупление грехов своих в пустынь подался, вериги надел, плоть мучаю.
– Ох, дурак дураком, – вздохнула Марья, намереваясь пойти. – Люди вон, слышно, в небе летают, а ты с железякой носишься…
– Откуда слышно-то? – ухватился Лука и сощурил голубой глаз. – Радиво слушала? Али еще откуда?
– Слыхала…
– И не молишься, поди, нисколь, и постов не блюдешь?
– Сколько молюсь – Богу известно, – отмахнулась Марья.
– Чего пришел-то, верижник окаянный?
– А за солью, Марья, за солью, – сказал Лука. – Соль у меня в келейке кончилась. Я ж теперь, аки апостол Петр, акридами питаюсь, да без соли и Бог не велел.
– Нету у меня соли для тебя, – отрезала Марья и направилась к крыльцу. – Бог подаст.
– А что за люди к тебе пришли? – остановил ее вопросом Лука. – Мужик и баба…
Марья повернулась, взмахнула рукой.
– Странники, Лука, странники…
– Глянуть бы, что за странники такие? – заинтересованно проговорил Лука Давыдыч. – Нынче всякого люда в тайге полно. И хорошего, и плохого. Кто с добром идет, кто с разором. Нынче и странника не каждого приютишь, Марья, уж я-то знаю… Твои-то люди, поди, никониане, а то и вовсе лба не крестят. А ты их в избу свою пускаешь. Они тебе керосином иконы помажут, осквернят святость-то да уйдут.
– Иди, Лука, ступай себе, – сдержанно произнесла Марья и поднялась на крыльцо.
– Ты на меня зла не держи, – вдогонку сказал Лука Давыдыч. – Я с добром к тебе заходил.
И вдруг поклонился в пояс, так что верига съехала и стукнулась оземь.
– И за Тимку своего не серчай на меня. Все испытание Господне, все от владыки всевышнего!
Лука Давыдыч поднял лицо к небу и широко перекрестился двуперстием. Сползшая с плеча рубаха оголила стертое цепью и изъеденное гнусом тело. Лука попятился немного, затем повернулся и пошел вдоль улицы, ступая босыми ногами в холодную, по-утреннему, пыль. Марья поглядела ему вслед, перекрестилась – и в избу.
Пришедшие вчера люди, умаянные дорогой, еще спали. Женщину она положила на кровать у входа, где, бывало, спал Тимофей, а мужчину – на лавку, к окну. Спросить, кто они друг другу, Марья постеснялась, муж с женой или брат с сестрой, но заметила, что мужчина устраивается на лавке, и решила, что все-таки брат с сестрой, потому как чужие люди, особенно мужик и женщина, ходить вместе не могут. Да и имен не спросила: неловко, а потом, поздно уж было, устали люди, отдыхать надо. Вон женщина лежит, ночь проспала, а кровинки в лице нет. Видно, городские, по болотам да шелкопрядникам не хаживали. И обутка у них плохая – сапоги резиновые. В броднях бы, все полегче было… Мужчина молодой еще, и бороды не носит. Во сне, слыхала Марья, все кликал кого-то, подзывал будто, а кого – не разобрать. Тоже умаялся, хоть и мужик. Странники, одним словом, – Марья вздохнула, – а странников спрашивать грех великий. Если ходят по свету, значит, нужда есть.
Она процедила молоко, стараясь не греметь подойником, убрала его в погреб и, вымыв руки, прошла в горенку. В углу, на божничке, стояли медные иконки-складенки и висел черный восьмиконечный крест. Марья зажгла лампадку и встала на колени – молиться…
Анна проснулась от шороха молока в кринке: хозяйка, до глаз завязанная платком, цедила молоко через самодельное ситечко. Анна глянула сквозь ресницы и снова закрыла глаза. Надо полежать, подумать, что делать дальше, что говорить, как вести себя. Она прислушалась к дыханию Зародова, спутника по странствиям, младшего научного сотрудника краеведческого музея. Тот еще спал: дышал глубоко, размеренно. Еще по дороге в Макариху, в поезде, потом на пароходе и леспромхозовском катере, Анна сделала вывод, что спутник попался ей с нервами крепкими, непорчеными, и даже обрадовалась этому. Кто-то же должен в экспедиции быть всегда с трезвым умом, не терять рассудка и памяти. Зародов, как все спокойные люди, был молчалив, неторопок и спать мог в любых условиях. Теперь же здесь, в Макарихе, это немного раздражало Анну. Нужно думать, что делать дальше, а он спит, как сурок. То, что они напридумывали и напланировали по дороге, сейчас ей показалось никуда не годным. Да, материалы Никиты Евсеевича Гудошникова есть, вон они лежат, в рюкзаке, бережно завернутые в полиэтилен и спрятанные в кожаную папку. И в материалах есть все: списки старообрядцев, имеющих рукописные и старопечатные книги, списки названий тех книг, названия сел, деревень, где есть кержаки, схемы, как пройти в дальние, таежные скиты, и еще много чего, но что же делать дальше? Вот ходит и хлопочет по хозяйству Марья Егоровна Белоглазова, отмеченная Гудошниковым особо. Марья – жена бывшего наставника старообрядческой общины, погибшего в войну. И книг за ней числится – полный круг чтения, то есть более сорока. Самое ценное – рукописный сборник четырнадцатого века, другой «помоложе», но с текстом «Сказания о Мамаевом побоище» интересной редакции, есть три книги федоровской печати…
Все есть и у кержаков, и у Марьи Белоглазовой, но видит око, да зуб неймет.
Вот Марья Егоровна в горницу ушла, и занавески сомкнулись за нею. Что там, за ними?.. Вот, слышно, шепчет что-то… Анна чуть повернула голову, прислушалась.
– …денно и нощно молюсь по тебе – убиваюсь. Не водой умываюсь – слезами горючими. Докричусь я тебя, дошепчусь, моя кровиночка, и прозреешь ты, и развеешь смуту на душе своей да вспомнишь о матери-горемычнице. Все глаза выплачу, все слова выскажу, ослепну-оглохну и сердцем сотлею, а молить тебя не перестану. И да долетит молитва моя к сердечку твоему и уму твоему. И да по воде пойду к тебе, аки посуху, по земле пойду, ноги до колен изношу – лишь одним глазком на тебя глянуть, словечко бы твое услыхать. Где ни на есть ты – заклинаю: вспомни! Вспомни матерь свою! Вспомни и приди, иль отзовись хотя б, иль посулись прийти. И да успокой ты мое сердушко, хоть молвою, что живой ты и жить еще будешь… Нет мне смерти без тебя, нет мне жизни без тебя, Тимофеюшка-а-а…
Анне почудилось, будто эхо где-то отозвалось – а-а-а! – отозвалось голосом чистым и высоким. Непонятно было: то ли молится Марья Егоровна, то ли плачет.
– Во одно небо с тобой глядим, от одного солнышка греемся, по одной земле ходим, а нет нам встречи-свидания. Разлучила-развела нас судьбинушка, ровно матери ты знать не знал, а я – сыночка своего видеть не видывала. Что за времечко такое нагрянуло, Господи! Дети гнездышка родного не помнят, не тоскует их сердечко по дому, будто у зверей лесных…
Ком подкатил к горлу. «Плачет, – подумала Анна. – По сыну плачет». Вчера вечером они с Зародовым толком-то и рассмотреть хозяйку не успели, хотя стояли над Макарихой белые ночи и в избе без лампы было светло. Марья Егоровна ходила, завязанная темным платком по брови, и даже возраста ее было не определить. То ли сорок лет, то ли все семьдесят… Но плач хозяйки был особенный, бесслезный, из тех самых плачей, которые они еще в студенчестве записывали на фольклорной практике. Однако там старушки не плакали, а просто пересказывали тексты, да еще посмеивались: экое занятие – старые песни собирать, и на что только? Голос Марьи Егоровны царапал сердце, и подступала какая-то тихая тоска одиночества. Вспомнилась мать, еще не старая женщина, но уже с горькой складочкой на губах, какая появляется у всех матерей, проводивших своих детей из дому в большой мир пусть и не навсегда, но надолго. Вот ведь как получилось: пока бегали с оформлением документов экспедиции, пока «добывали» материалы Гудошникова, ушла прорва времени, и Анна не успела съездить домой – в маленький шахтерский городок. А это почти рядом, три часа на поезде… Надо хоть письмо написать отсюда, пускай мать не волнуется.
– Уж и звериное сердце бы растаяло, как я молю тебя, Тимофеюшко, уж и звериное сердце бы услышало да откликнулось…
Анна приподняла голову от подушки и глянула на Зародова. Тот лежал на лавке, заложив руки за голову, и смотрел в потолок, крашенный зеленой краской и потемневший от времени.
– Вставать? – одними губами спросил Зародов, косясь на дверной проем горницы.
– Только тихо, – предупредила Анна.
Зародов осторожно спустил ноги с лавки и на цыпочках прошел к порогу за сапогами. Еще в городе Зародову было поставлено условие: подчиняться Анне беспрекословно и исключительно во всем. Зародов, не моргнув, согласился.
– Тем лучше, – сказал он. – Значит, как в армии – говорит старшина: бурундук – птичка, следовательно, птичка.
Через минуту, обутый и одетый, Зародов сидел на лавке и тер кулаком припухшие от сна глаза.
– Как в разведке, – прошептал он Анне. – У меня такое ощущение, будто нас в тыл врага забросили. По тонкому льду ходим: чуть не так – и провал.
– Отвернись, разведчик, – сказала Анна и встала с постели. И только сейчас ощутила, как болят икры ног, ломит поясницу и шею. Тридцать километров отмахали вчера, а может, и больше – кто мерил здешнюю дорогу?
– Поспали бы еще, – заботливо сказала Марья Егоровна, неожиданно появившись из горницы. – Время-то – солнышко токо встало.
– А кто рано встает – тому Бог дает, – брякнул Иван Зародов и глянул на Анну. – Мы с солнышком привыкли…
«Разговорился, – недовольно подумала Анна. – Сказано же было – молчать…»
Марья Егоровна ничего не ответила и даже не взглянула на Зародова.
– Коли помыться желаете, – во дворе у нас, – сказала она. – Летом-то мы на улице умываемся.
Пока они умывались, пока Марья Егоровна собирала завтрак в летней дощатой кухне, Анна сосредоточенно думала, как вести себя, что говорить, как объяснить, зачем пришли? Разработанный с Ароновым план и его наставления вдруг показались какими-то нежизнеспособными. Вроде все было правильно: не спешить, искать контакта, доверия у старообрядцев, на все вопросы напрямую не отвечать, чтобы оставалась какая-то загадка у них. Аронов предупреждал, что кержаки – народ проницательный и психологией владеют не хуже цыган, но вместе с тем доверчивы и где-то наивны. У хранителя все-таки опыт был. Как ни говори, три года ездил с Гудошниковым, кое-что посмотрел, кое-чему научился. О книгах заговаривать, лишь когда уже старообрядцы перестанут бояться нового человека, привыкнут, притрутся. Но когда это будет? И как не пропустить этот момент?
Чем больше думала Анна, тем сильнее и неожиданнее подступали страх и растерянность. В самом деле, будто в тылу врага… Больше всего смущало Анну то, что Марья Егоровна вообще ни о чем не спрашивала. Вчера они пришли поздно, отыскали избу Белоглазовых, постучались и были впущены без слов. Так же без слов их накормили, уложили спать, и сегодня утром продолжалось то же самое.
– Вот туто-ка колба моченая, – потчевала Марья Егоровна. – Для аппетиту хорошо. Оно, правда, пахнет после изо рта, да кто тут нюхать станет? Ешьте хорошенько, ешьте, а на меня не смотрите, я дома.
– Спасибо, спасибо, – кивала Анна и, чтобы скрыть растерянность, отважно черпала острую, терпко пахнущую чесноком колбу. Иван Задоров ел не спеша, часто поглядывая на своего начальника, словно бы спрашивая: а так ли я все делаю?
– Крепко ешьте, – приговаривала Марья Егоровна. – С дороги-то всегда ести хочется. Дорога-то, она не токо ноженьки мотает, а и кишки на кулак…
Ну хоть бы поинтересовалась – надолго ли в Макариху, куда путь держите или самый естественный вопрос: откуда про нее-то узнали, про Марью Белоглазову?
Успокаивало и оставляло надежду единственное – их приняли, угощают, ночлег дали. Не выставили за ворота, не побрезговали мирскими людьми, не побоялись «опоганить» избу и посуду чужаками – словом, не сделали того, чего больше всего опасалась Анна. Это успокаивало, но и обескураживало.
После завтрака они вышли во двор и, не сговариваясь, сели на вросшее в землю бревно у плетня. Над Макарихой перекликались запоздавшие петухи, где-то брюзжал трактор, и поднималось розовое, но уже горячее солнце. Марья Егоровна, убрав со стола, повязала другой платок и, не говоря ни слова, куда-то ушла, как будто так и надо, оставив непрошеных гостей в полной растерянности. Едва она скрылась за калиткой, Иван Зародов встал и расслабленно прошелся по двору.
– Товарищ начальник, какие указания будут?
– Будут – скажу, – недовольно бросила Анна и отвернулась. – Ждите.
– Я и так вам в рот заглядываю, – вздохнул Зародов. – Может, дров ей поколоть? Глядите, какая куча чурок. А? Я ведь в прошлом тимуровец.
– Помолчите, пожалуйста, – поморщилась Анна. – Без ваших шуток тошно.
– Понял: бурундук – птичка, – сказал Иван и сел на место. – Кстати, а избу она не закрыла. Заходи и бери что хочешь… У них что здесь, другие социальные отношения?.. А я, пожалуй, дреману часок. – Он прислонился к плетню и закрыл глаза. – Бабушка придет – пихнете…
Может, пойти, походить по деревне, размышляла Анна, с чего-то начинать надо, не в гости приехали, на работу. Зайти к начальнику лесоучастка, все-таки официальное лицо, может, он что подскажет? О Макарихе, поселке в сто дворов, она кое-что уже знала. Капитан катера, на котором плыли двое суток от райцентра, говорливый мужичок, едва узнав, что молодая пара (их приняли за мужа и жену) едет в Макариху, вытаращил глаза и засвистел.
– Вас что же туда, за тунеядство? Иль по вербовке?
– По вербовке, – сказала Анна.
– Ну это еще ничего, – протянул капитан. – Кержакам понравитесь – на постой пустят. А туники в бараке живут. Весе-елый барак! Особенно в аванс и получку. Кержаки грозятся спалить его к едрене фене. А ведь и спалят!
На северной реке по-весеннему еще было холодно, в трюме, куда поместили Анну с Зародовым, не оказалось стекол в иллюминаторах, да и весь катер был битый, мятый, обшарпанный молевым лесом и видом своим походил на капитана. Но капитан все-таки душа-человек, позвал в рубку – единственное теплое помещение. Позвал и первым делом вынул из-под штурвала початую бутылку, отер рукавом горлышко, сунул Зародову:
– А ну-ка, парень, врежь!
Зародов глянул на Анну и сказал – не пью. Затем капитан расспросил – зачем да куда и догадливо изрек:
– Понял. Деньги делать поехали. Только ты, парень, сам запомни и бабе своей скажи: денег в Макарихе нету. Нынче ж реформа денежная. Старыми-то получали – ого! А на новые переложить?.. В лесу денег нету, в лесу мантулить надо. Не зря ж туников к нам на исправление присылают! – Анне разговаривать с ним не хотелось, впрочем, и капитан все время обращался лишь к Зародову, не замечая «бабу». Зародов же помалкивал, косясь на Анну.
– Да-а, – вдруг протянул капитан. – Гляди-ка, сколь нынче реформ! И деньги поменяли, и в космос человека запустили. Кержаки говорят, это все к концу света.
На исходе пути капитан, окончательно расположившись к попутчикам-пассажирам, неожиданно предложил:
– Вот что, господа вербованные. Нахаркайте вы на подъемные, что вам отвалили, не суйтесь в лес, там и без вас балду гоняют. А купите-ка вы пасеку колодок на десять, и года через три озолотитесь. Там вокруг Макарихи шелкопрядников и гарей тьма, медосбор – убиться легче. Кержаки там старыми деньгами избы обклеивали. Вы держитесь к ним поближе и на ус мотайте. У них, лешаков, ничего не пропадает. Летом мед, осенью орех, зимой пушнина, весной рыба. Умеют жить.
Вспомнив это, Анна усмехнулась. Может, и правда, завести пасеку? От мысли пойти к начальнику лесоучастка она тут же отказалась. Аронов инструктировал: как можно меньше ходите к местным властям, в некоторых случаях даже избегайте их. «Я, – сказал он, – не знаю, почему это так, но Гудошников никогда не обращался ни в райисполкомы, ни в сельсоветы, а милиционеров так вообще за версту обходил. Наоборот, казалось бы, ему сподручнее было действовать через местные власти. Он – герой гражданской войны, орденоносец, бывший комиссар, – кого хочешь убедил бы и помощи добился. Он же на протезе хромал десятки верст, а машины не просил…»
Вот она, Макариха, заповедное место Гудошникова. Судя по материалам, и был-то он здесь всего раз, правда, четыре месяца прожил. Но все равно, выходит, можно найти подход к старообрядцам. Он есть, он существует, только с какой стороны?
Дремавший Зародов вдруг выпрямился, смахнул пот со лба, выступивший под горячим солнцем.
– Так, озарило, – будничным голосом сказал он. – Хватит, начальник, ломать голову.
– Что еще? – поморщилась Анна.
– Будем использовать старый капитал. Вернее, чужой капитал, если пока своего не нажили. Нечего от бабушки скрывать. Надо ей заявить или намекнуть, что мы пришли от Гудошникова. Его-то она помнит! Наверняка помнит! И ей сразу все ясно, и нам полезно.
– Это уже неплохо, – оживилась Анна. – По крайней мере, первая подходящая мысль. А вы, Ваня, соображаете.
– Ну так, – пожал плечами Зародов. – Подчиненные иногда тоже кумекают, если их не зажимать. А вообще, мне во сне всегда хорошие мысли приходят.
– Тогда спите еще, – распорядилась Анна. – Хоть целые сутки.
– Это можно, – сказал Иван и снова привалился к плетню.
Однако поспать ему не дали. По-хозяйски отворив калитку, во двор вошел высокий, седобородый старик в рубахе навыпуск и валяной крестьянской шапке, несмотря на грядущий жаркий день. Он мельком глянул на пришлых, поздоровался и с ходу направился в избу. Через несколько минут старик вышел оттуда с тяжелым, на длинной ручке, колуном и, поставив одну из чурок на попа, стал колоть. Работал он неторопко, с прицелом, с глубоким придыхом в момент каждого удара, и белые поленья отлетали с веселым звоном. Расправившись с одной чуркой, он развернул другую, толстую, комлевую, примерился и развалил ее пополам, в три удара. В старике, а на вид ему было, пожалуй, за семьдесят, чувствовалась какая-то спокойная, без удали и молодцеватости, мощь. Он, как тяжеловоз, впрягшись в оглобли, тянул груз не спеша, размеренно, зато мог въехать на любую гору. Между тем куча дров росла на глазах, и Зародов не выдержал.
– Пойду помогу, – бросил он и добавил с поддевкой: – С вашего позволения, конечно.
Иван подошел к старику и, выждав, когда тот расправится с очередным чурбаком, попросил с веселым задором:
– Ну-ка, дед, дай-ка мне размяться. Руки чешутся!
Старик оперся на колун, неторопливо оглядел Зародова.
– В сенях там еще один есть, – сказал он. – Токо немоченый, с черешка соскакивает.
– Ничего! – возразил Иван. – Клин поставим.
Мужики замахали колунами, старик по-прежнему размеренно, Иван – самозабвенно и азартно. Сидеть и смотреть было уже невмоготу. Анна подошла к мужикам и начала отбрасывать поленья, выхватывая их чуть ли не из-под колунов. Простая крестьянская работа неожиданно сблизила их, и, еще не обмолвившись ни единым словом со стариком, Анна вдруг ощутила доверие к нему и даже какое-то притяжение. Через полчаса уже казалось, что в Макарихе они давно и что не первый раз они вот так близко встречаются с этим стариком, и бесплодные вопросы, мучившие Анну все утро, будто отступили и потеряли прежнюю остроту. Даже боль в суставах прошла.
Тяп, тяп – стучал Зародов, стараясь угодить в одно место.
– Г-гах! – выдыхал старик, и шапка подпрыгивала на его голове.
Они были под стать друг другу, Иван даже пошире в плечах, оба длиннорукие, прямые. Правда, Зародов сильно потел, волосы размещались сосульками, тогда как на старике и капли не выступило. Он только раскраснелся, побагровел, отчего белая лохматая борода казалась еще белее.
«Хорошо, все хорошо! – про себя восклицала Анна, отшвыривая дрова и переворачивая мужикам чурки. – Пусть все идет так, как есть. Так, как есть».
– Ты, девка, не суетись, – вдруг сказал старик. – Зашибем ненароком. Отойди.
Полено выпало из рук. Анна отступила за спины и растерянно огляделась. Ком обиды, что она, выходит, здесь не нужна и бесполезна, уже подкатывался к горлу, и, подавляя его, Анна снова схватилась за поленья и начала складывать их вдоль плетня. «И в самом деле, – зашибут, – уже через минуту думала она. – Ишь как размахались… Что тут обижаться?»
Как-то само собой она снова начала думать о Марье Белоглазовой, изредка поглядывая на калитку. Вспомнился ее плач по сыну. Видно, нелегко ей одной-то, тоскует. Вот и дров поколоть некому, старика наняла, а скоро ей и сено косить… Интересно, что за сынок у нее, если глаз не кажет? Почему-то представлялся сразу мужичок наподобие веселого капитана леспромхозовского катера: говорливый, бестолковый и шалопай из шалопаев. Мать тут убивается по нему, а сыну хоть бы что… Может, и правда в живых нет?..
В следующую секунду Анне стало жарко: вот он, подход к Марье Белоглазовой и ее доверие – сын! Имей они хотя бы весточку о нем – здесь бы как родных встретили. Нужно срочно его разыскать! Послать запрос, узнать адрес, в конце концов написать Аронову, пусть идет в милицию или еще куда, находит сына Марьи, совестит его, уговаривает – главное, чтобы весть о нем, лучше, конечно, о его приезде, Марья Егоровна получила от них.
Тяп, тяп – г-г-ах! – стучало за спиной.
Во что бы то ни стало ее сын должен нынче приехать в Макариху! На веревке его притянуть, под конвоем привести, но чтобы был здесь. И тогда они с Зародовым станут в глазах Марьи Егоровны добрыми вестниками, а их появление в Макарихе – хорошим предзнаменованием для нее. Анна подняла поленницу в метр по всей длине плетня, когда вдруг послышался протяжный, глубокий вздох и колуны разом стихли. Она повернулась…
Старик лежал на траве, запрокинув голову и зажав ладонями лоб. Бледный, мокрый от пота, Зародов стоял чуть поодаль с черешком от колуна в руках и глядел на старика с ужасом, будто убийца на жертву. Анна бросила поленья и подбежала к старику. Тот не шевелился, и только на багровом горле ходил крупный, угловатый кадык.