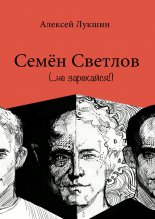Национализм. Пять путей к современности Гринфельд Лия

Англия как богоизбранный народ и знак Его любви
Случилось так, что надежды опальных изгнанников оправдались, когда на трон взошла преемница Марии I, принцесса-протестантка Елизавета. Когда изгнанники вернулись и заняли ведущие посты при новом режиме, они приложили все свои силы, чтобы доказать, что связь между существованием Англии как нации и протестантской верой нерасторжима, и сделали все, чтобы она таковой и оставалась. В 1559 г. будущий епископ Лондонский Джон Эйлмер (John Aylmer) подхватил как знамя поразительное заявление епископа Латимера, что у Бога есть национальность. В удивительном отрывке из Harborowe of True and Faithful Subjects он заявил, что «Господь – англичанин» и призвал своих соотечественников благодарить Его по семь раз на дню за то, что Он создал их англичанами, а не итальянцами, французами или немцами. Англия была не только «землей, богатой и обильной говядиной, бараниной, маслом, сыром и яйцами, пивом и элем, не считая шерсти, свинца, сукна и кожи», но еще и «Господь со своими ангелами сражался на ее стороне против ее чужеземных врагов». «Ибо вы сражаетесь не только во имя своей страны, – напоминал он своим соотечественникам, – но также, и главным образом, ради Его истинной веры и его возлюбленного сына – Христа» [71].
Возвращающиеся изгнанники не ограничивались всего лишь красноречием. Архиепископ Кентерберийский Мэтью Паркер (Matthew Parker) давал деньги и активно помогал исследованиям и публикациям в области английской истории и старины [72]. Из этих исследований должно было бы следовать, что христианство в Англии всегда носило ярко выраженный характер, ибо англиканская церковь есть истинно апостольская церковь. Помимо того, что он был главным издателем Bishops’ Bible, собрал ценную коллекцию исторических документов, рукописей и книг, завещанную им Кембриджскому колледжу Corpus Cristi, и опубликовал историю становления британского христианства, Паркер еще покровительствовал нескольким широко известным авторам хроник, среди которых был автор «Книги Мучеников» (Мартиролога) – Джон Фокс.
«Книга Мучеников» – это народное, краткое название монументального труда Фокса «Акты и памятные события тех последних, гибельных времен, касающиеся дел церкви, где собраны и описаны все гонения и ужасные беды, чинимые и практикуемые тогда Римскими прелатами в королевстве Английском и Шотландском особо, в годы от сотворения с тысячного и по сей день. Собрано и отобрано согласно истинным отчетам и сочинениям пострадавших сторон, а также и из Книг Записей Епископов, которые их сами совершали» [73]. Верная своему названию, книга представляла собой самый полный, мастерский и обстоятельный отчет о страданиях мучеников при режиме Марии I – великих и простых людей в равной мере. Эти страдания были представлены как еще одно выражение, самое недавнее и очевидное, того, что Англия верна истинной религии, за которую она много раз страдала в прошлом и которую она многажды была призвана защищать от безбожных чужеземных посягательств. Идейный посыл книги состоял в том, что Англия находясь в согласии с Господом, оставалась верной истинной религии в прошлом и теперь вела мир к Реформации, ибо Англия была отмечена Богом. Быть англичанином фактически означало быть истинным христианином, английский народ был избран, выделен из остальных и отмечен Богом, сила и слава Англии была в интересах Его церкви, и победа Реформации была национальной победой. Такая идентификация Реформации с английскостью привела к тому, что папство стало считаться главным национальным врагом, а это подразумевало исключение английских католиков из членства в нации. Хотя эта мысль никогда не высказывалась открыто. Как бы критичен ни был Фокс относительно поведения своих соотечественников-папистов, в своей эпистоле он призывал всех своих читателей объединиться во имя служения нации. В ней слышна отчетливо примирительная нота. «Тех, кто заблуждается, – писал он, – не будем лишать возможности встать на путь истинный. …Поскольку Господь так поставил нас, англичан жить здесь в одном государстве (common wealth), а также в одной церкви, как на одном корабле – вместе, не будем же рубить или делить корабль, который, если его разделить, погибнет. Пусть каждый человек служит с усердием и благоразумием там, куда он призван» [74].
Статус книги Фокса и то влияние, которое ей было позволено оказать на умы англичан в XVI и XVII вв., были гораздо большими, чем у любой другой книги той поры. Их можно было сравнить только со статусом и влиянием Библии. В течение жизни Фокса эта книга переиздавалась шесть раз (в 1554, 1559, 1563, 1570, 1576 и 1583 гг.). После смерти автора ее переиздавали еще четыре раза (в 1596, 1620, 1632 гг. и, что важно, в 1641 г.). В 1570 г. «эту полную и совершенную историю», по приказу мэра и Лондонского совета (корпорации), читали во всех домах призрения и помещениях городских мануфактур, а в 1571 г. синод издал указ, чтобы эта книга, наравне с Библией, имелась в свободном доступе для населения в кафедральных церквях и резиденциях епископов, архиепископов, архидьяконов и деканов [75]. В 1577 г., согласно Уильяму Харрисону (William Harrison), «в любом помещении (при королевском дворе) имелись либо Библия, либо книга актов и памятных событий англиканской церкви, либо и то, и другое, а кроме этого, хроники и летописи [76]. Популярность «Книги Мучеников» была невероятной, а ее авторитет – непререкаемым. «Знаменитый капитан Сэр Френсис Дрейк (Francis Drake) брал ее с собой в море и раскрашивал в ней иллюстрации» [77]. И даже автор Principal Navigations … of the English Nation, Ричард Хакльют (Richard Hakluyt), который, благодаря своему довольно специфическому предмету исследований, «(по правде говоря) … имел более просвещенный взгляд на вещи в некоторых отношениях, чем все наши исторические книги могли мне предложить», считал Фокса исключением [78].
Книга сводилась к ярко выраженному утверждению идентичности английских национальных и протестантских интересов. На некоторое время англиканская религия и национальность стали одним и тем же. Ричард Хукер (Richard Hooker), апологет англиканской церкви, в такой значительной книге как The Laws of Ecclesiastical Polity, писал: «Мы знаем, что не существует ни единого человека, принадлежащего к англиканской вере, который не был бы членом Commonwealth, и нет ни одного человека, члена Commonwealth, который бы не принадлежал одновременно к англиканской церкви… хотя качества и действия одного рода носят имя Commonwealth, а черты и функции другого вида – имя церкви» [79]. Если спуститься на землю, то пример недавних мучеников, людей, которые практически ничем от других не отличались, не мог не убеждать население, что буде этот урок забыт, то их судьбу могут разделить и остальные.
Именно английская религиозная позиция стала фундаментом национальной особенности и исключительности. Божественное благоволение и вера в Англию были видны во всем. Явно не было никакой другой причины для столь очевидных примеров английского процветания, как победа над Армадой [80], или постоянно хорошее состояние здоровья Елизаветы I, или стабильное правительство, которое повергало в прах все интриги ее врагов. Соответственно, эти примеры интерпретировались как знак божественного вмешательства. Подобная интерпретация событий имела место в массе популярной литературе того времени. Избранная Господом, Англия постоянно находилась в центре Его внимания и, находясь в безопасности под покровом божественной поддержки, пока она оставалась верной своему договору с Господом, одновременно могла быть уверенной в том, что ее накажут, в тот самый момент, когда она расслабится. Национальное существование Англии зависело от ее религиозного рвения. Роджер Коттон (Roger Cotton) сделал этот вывод в стихотворной форме, в труде, озаглавленном The Armour of Proofe, brought from the Tower of Dauid.
- If this be true, that all God’s trueth we holde,
- What neede we then of Spayne to be afrayede?
- For God, I say, hath neuer yet such solde
- To sworde of foe; but still hath sent them ayde,
- The trueth we haue, yet therein walke not wee;
- Where oftimes God hisseth for a bee…
- O Englande, then consider well thy state;
- Oft read God’s worde, and let it beate chiefe sway
- Within thy hart: or els thou canst not scape
- The wrath of God; for he will surely pay…
- Remember then thy former loue and zeale,
- Which thou to God and to his worde didst beare,
- And let them now agayne with thee preuale:
- And so no force of forrayne shalt thou beare [81].
- Коль истинно, что мы храним всю истину Господню,
- К чему ж Испании тогда бояться нам?
- Ибо Господь вовек не отдавал сей дар
- Мечу врага; хоть помощь слал ему…
- О, Англия, помысли о себе, и чаще
- Читай Господне слово, пусть главну власть оно
- Над твоим сердцем возымеет, а иначе
- Не избежать тебе Господня гнева; ибо Бог,
- Конечно же, тогда тебя накажет…
- Воспомни же былое рвенье и любовь,
- С которыми ты Господу служила,
- И слову Господа; пускай они опять в тебе возобладают:
- И отныне пред мощью чужеземной ты не склонишься никогда.
Национальная идентичность предполагала совершенно новый набор обязательств, которые бы отделяли Англию от всего остального мира. Но в то время существование автономного единства, подобного нации, не было самоочевидным. Оно было сомнительным и требовало утверждения и осмысления в знакомых терминах. Таким образом, было бы только естественным, если бы в эпоху, когда религия была центром любой сферы общественной жизни, зарождающийся национализм облекался в религиозный идиом. Более того, благодаря связи Реформации с английской национальной идентичностью, протестантизм не только снабдил языком все еще безгласный национализм, но и обеспечил его убежищем и защитой, в которых он нуждался для созревания. Короче говоря, хотя нельзя сказать, что протестантизм породил английскую нацию, он действительно сыграл очень важную роль акушерки, без которой ребенок мог бы и не родиться.
Именно благодаря связи протестантизма и национализма, главным фактором в развитии национального сознания, также опять стала монархия. Завершающим житием в «Книге Мучеников» стало житие Елизаветы I, ставшей символом связи и тождества протестантской и национальной борьбы. Протестантизм и национализм были объединены в ее персоне. Фокс был не единственным или первым из вернувшихся изгнанников, кто придерживался подобных взглядов, но через его книгу эта точка зрения стала известна народу.
Степень и широта восхваления Елизаветы I заставляют поморщиться многих современных исследователей XVI в. Эти исследователи раздражаются и стыдятся того, что в свете сегодняшнего равенства выглядит недостойным и отвратительным лицемерием [82]. И не удается им увидеть, что, восхваляя Елизавету I, эти, казалось бы, лицемерные англичане на самом деле выражали растущее уважение к себе. Елизавета I была знаком божественного признания национальной добродетели, избранности английского народа. Слова Джона Джуела (John Jewel), который написал: «Когда Господу стало угодно дать нам свое благословение, Он дал нам свою служанку Елизавету, чтобы быть нашей Королевой и орудием Его Славы перед всем миром», могли бы считаться «самым полным и самым замечательным выражением» этой веры [83]. Но этот довод пользовался благосклонностью многих писателей. В книге, озаглавленной A Progress of Piety, Джон Норден (John Norden), один из незначительных авторов образовательных и религиозных сочинений для простого народа, и мирянин, включил нижеследующую Jubilant Praise for Her Majesty’s most Gracious Government, в которой он благодарил Господа за то, что он дал Англии Елизавету.
- Rejoice, O England blest!
- Forget thee not to sing
- Sing out her praise, that brought thee rest
- From God thy mighty King!
- Our God and mighty King
- Our comforts hath renewed
- Elizabeth, our Queen, did bring
- His word with peace endu’d…
- She brings it from his hand;
- His counsel did decree,
- That she, a Hester in this land,
- Should set his children free.
- None ruleth here but she;
- Her heavenly guide doth shew
- How all things should decreed be
- To comfort high and low.
- Oh, sing then, high and low!
- Give praise unto the Ring
- That made her queen: none but a foe
- But will her praises sing/
- All praises let us sing
- To King of kings above
- Who sent Elizabeth to bring
- So sweet a taste of love [84].
- Возрадуйся, о Англия благословенна!
- И не забудь воспеть:
- Воспеть хвалу той, что даровала тебе покой,
- По воле Господа, твоего всемогущего Повелителя!
- Наш Господь и всемогущий Повелитель
- Возродил наше благоденствие,
- Несет Елизавета, королева наша,
- Слово Его, дышащее миром…
- Его Длань над ней;
- Его Слово провозглашает,
- Что в этой земле она – Эсфирь,
- Должна освободить Его детей.
- Никому здесь не владычествовать, кроме нее;
- Ее Небесный пастырь показал ей
- Как должно устроить все вещи
- Для благоденствия и знатных, и ничтожных.
- Так воспойте же, и знатные и ничтожные,
- Хвалу тому Кольцу[10],
- Что сделало ее королевой: все,
- Кроме врагов, да воспоют ей хвалу.
- Давайте же возблагодарим Царя Царей
- На небеси за то, что он послал нам Елизавету,
- Принесшую столь сладостный вкус любви.
В этом стихотворении демонстрируется тройная идентификация нации, благочестия и королевы. Обратите внимание, что Бога восхваляют за то, что он был добр к Англии, дав ей Елизавету как знак своего признания и особого благоволения. Но ни Господа, ни Елизавету не восхваляют самих по себе! И религиозные чувства англичан в конце XVI в., и их преданность своей королеве, несомненно, были национальны.
Джон Филлип (John Phillip), в строфах из A friendly Larum, or faythfull warnynge to the truehearted subjects of England, обратился к Господу со следующей просьбой:
- Our realme and Queen defend, dere God
- With hart and minde I praie;
- That by thy aide hir grace may keepe
- The papists from their daie.
- Hir health, hir wealth, and vitall race,
- In mercy longe increase;
- And graunt that ciuill warre and strife
- in England still may cease [85].
- Страну и королеву нашу, О Боже, защити,
- И сердцем, и душой (духом) своей, молю;
- Чтоб с помощью твоей ее благодать
- Не дала папистам победить.
- Чтоб здравие, богатство и жизненные силы ея
- Преумножались в длительном счастии;
- И сделай так, чтобы гражданская война и раздоры
- В Англии прекратились.
Таким образом, Бога молят оказать благоволение Елизавете с тем, чтобы она могла служить Англии.
Елизавету I воспринимали как символ избранности Англии в очах Божьих. «Она была златой свирелью, чрез кою великий Бог передавал всем свои благословения: Она была знаком Его нежной любви» [86]. Но тем не менее в ретроспективе эту божественную королеву помнили из-за ее поразительно мирских достижений, достижений, по природе своей политических и увеличивавших славу Англии в этом мире. Когда Майкл Дрейтон (Michael Drayton) описывал ее царствование в Poly-Olbion, то ему пришлось сказать следующее:
- Elizabeth, the next, this falling Scepter hent;
- Disgressing from her Sex, with Man-like government
- This Island kept in awe, and did her power extend
- Afflicted France to ayde, her owne as to defend
- Against the ‘Iberian rule, the Flemmings sure defence:
- Rude Ireland’s deadly scourge; who sent her Navies hence
- Unto the Either Inde, and so to that shire so greene,
- Virginia which we call, of her a virgin Queen:
- In Portugal gainst Spaine, her English ensignes spread;
- Took Cales when from her ayde the brav’d Iberia fled.
- Most flourishing in State: that all our kings among,
- Scarce any rul’d so well: but two that reigned so long. [87].
- Елизавета, следом, подхватила сей скипетр падающий,
- И отринув суть женскую свою, сей остров
- По-мужски в повиновении держала, своею
- Властию пришла на помощь страдающим французам,
- Собственной ж державе была защитой от господства
- Иберии (Испании), сопротивленья фламандского и
- От смертельной угрозы Ирландских хамов, послала
- Она свой флот в другой конец земли, к тому зелену
- Краю, что в честь нее Виргиньей[11] нарекли;
- В Португалии против Испаньи, ее флот сражался;
- Был взят Кале, когда от войск ее бежала
- Испанья храбрая. Сама она и государство наше столь
- Процветает, что из наших государей, навряд ли кто
- Так правил счастливо – и только два так долго.
Подобно своему отцу Генриху VIII, Елизавета сама, возможно, и не была националисткой, но, как и он, исходя из собственных интересов, признавала и поддерживала растущее национальное чувство [88]. И действительно, безо всяких усилий со своей стороны она сослужила ему ценнейшую службу. Ибо в течение почти полувека национальное чувство фокусировалось на персоне королевы-девственницы как на главном объекте. Елизавета была символом величия и уникальности Англии. Этим объясняется поразительное спокойствие ее режима, который при ретроспективном анализе предстает фундаментально нестабильным; главный мотив того времени – патриотизм – стал тождественен преданности правящей монархине и это гарантировало усердную заботу о сохранении ее царствования. Связь национального чувства с особой королевы ослабила и замедлила развитие демократических тенденций английского национализма. Во времена Елизаветы I парламент, по большей части, предпочитал не выдвигать требований насчет равной доли в управлении государством или, по крайней мере, выдвигал эти требования не в агрессивной манере. В то же самое время удачная гармония и единство интересов короны и нации, которой эта корона управляла, гармония и единство интересов между старым и новым, та поддержка, которую старый порядок оказывал возникающему новому, позволили вызреть национальному сознанию. То же самое делал и протестантизм. Национальное сознание стало широко распространенным и законным. К концу века это мировоззрение явилось могущественной силой с собственным импульсом. Национальному позволили укорениться в английской культуре и вырвать его оттуда было уже нельзя. Роль Елизаветы I в таком развитии событий состояла в том, что она дала официальное подтверждение английской национальной идентичности, и в немалой степени благодаря этому к концу XVI в. Англия действительно уже обладала полностью развитым национализмом и вошла в современную эру.
Ведутся споры о том, эти ли именно отношения предвещали и способствовали развитию английской национальной идентичности, говорится о том, что возникающая идентичность была религиозной, протестантской скорее, чем национальной [89]. Однако этот довод покоится на непонимании природы национализма и на ошибочном отождествлении национальной идентичности с этнической принадлежностью. Английский национализм в те времена, безусловно, не определялся в этнических терминах. Его определяли на языке религиозных и политических ценностей, которые сходились в одну точку в разумной – и потому имеющей право на свободу и равенство – личности. Диссидентский характер Реформации и соответствие английской протестантской теологии ценностям рационалистического (разумного) индивидуализма сделали протестантизм прекрасным союзником зарождающегося национального чувства. Благодаря уникальным историческим обстоятельствам, особенно связанным с царствованием Марии I, религия и национальное чувство стали идентифицироваться друг с другом. Поэтому английская нация была нацией протестантской. Главное, что следует в этом случае понять, – что именно существительное, а не прилагательное здесь и составляет всю разницу. Протестантская или нет, но Англия была нацией. Она была нацией, потому что народ символически был поднят до положения элиты, и это возвышение создало новый тип коллективности (collectivity) и социальной структуры, не похожей ни на какую-либо другую, и новую, для того времени особенную, идентичность.
К концу XVI в. секулярная нация завоевала преданность уже очень большого и все увеличивающегося количества англичан, а религия все больше отодвигалась на периферию. Те, кто жил в то время, этот факт осознавали, хотя мы не должны преуменьшать степень трудности, которая требовалась, чтобы отделить нацию от религии в ту пору. Ричард Кромптон (Richard Crompton) в 1599 году писал: «Хотя мы и различаемся по нашей религии… но все же я верю, что мы со всей преданностью и повинуясь долгу… объединимся во имя защиты нашего Повелителя и нашей страны против врага». Сэр Уолтер Рэли (Вальтер Ралей, Walter Raleigh) воззвал ко всем англичанам «без различий в вероисповедании» присоединиться к нему в войне против Испании, в которой, как писал другой его современник, люди умирали «со спокойной и легкой душой, отдав …жизнь, как те, что сражались за свою[12] страну, королеву, религию и честь» [90]. В сборнике поэзии, посвященной Елизавете I, о котором мы уже упоминали, можно найти следующий диалог между римским католиком и сторонником реформистской религии, озаглавленный «Ответ на Римские стихи» поэта Дж. Родса (J. Rhodes). В нем протестант на доступном языке, но очень ловко парирует все доктринальные измышления своего противника, несомненно, доказывая более высокую разумность своей собственной позиции. Среди прочих, почти неопровержимых доводов, он говорит следующее:
- Our bibles teach all truth indeede
- Which every Christian ought to reede:
- But Papists thereto will say nay;
- Because their deedes it doth bewray
- Christ, he the twelue apostles sent;
- But who gaue you commandement
- to winne and gather anywhere?
- To bind by othe, to vowe, and sweare
- New prosylytes to Popery,
- Gainst trueth, our prince, and countrey? [91].
- Наши библии на самом деле учат всей той истине,
- Которую следует читать каждому христианину,
- Но паписты говорят этому «нет»,
- Потому что это срывает маску с их дел.
- Христос послал всего двенадцать апостолов,
- А кто дал вам заповедь везде скопляться
- и пытаться Власть захватить?
- Склонять к клятве папству новых прозелитов,
- Против правды, государя и Родины?
Здравому смыслу явно противоречило, что истинная религия может подразумевать что-либо столь unparticularistic (непатриотичное).
Звук их голосов
То ли потому, что англичане были уверены в своей богоизбранности, то ли благодаря тому, что еще большее количество людей стало теперь приверженцами идеи «Англия» как нации, но национальное чувство в эпоху Елизаветы I утверждалось с большей мощью и пылом, чем в какое-либо иное время. Этим чувством были проникнуты церковные богослужения, которые продолжали, хотя более открыто и упорно, традицию Книги Мучеников. Оно также было выражено в светской английской литературе – новый решительный поворот событий, заложивший основы современной английской культуры. В современной истории литературы стало уже общим местом, отмечать замечательный, поразительный по своей вездесущести и напору, национализм литературы Елизаветинской эпохи. Однако же, национализм этот не удивителен. Светская (секулярная) литература на родном языке была ярчайшим выражением национального сознания и идентичности, которые возникли в Англии. Прежде безымянные, бесформенные, новые чувства людей «опьяненных звуком своих собственных голосов» обрели письменную форму [92]. Это был первый выразительный акт национального самоутверждения.
Елизаветинцы имели целью исполнить культурные ожидания первых националистов при Генрихе. Возник целый новый класс людей, чьим главным занятием было исследовать и писать – хроники, трактаты, поэмы, романы и пьесы – на английском языке, об Англии. К этому классу авторов могли принадлежать как выходцы из пэров, так и из простых людей, в нем были англичане из любых слоев населения, за исключением самого низшего слоя: сельской и городской бедноты [93].
Все английское стало объектом внимания и питало новое чувство национальной гордости. Было создано Общество любителей старины. Холиншед (Holinshed), Уорнер (Warner), Камден (Camden) и другие писали общие истории Англии и истории отдельных эпох. Драматурги – Шекспир и Марло в их числе – писали драмы о событиях национальной истории. Первые романисты, такие как Нэш (Nash), Лилли (Lyly) и Делони (Deloney), и такие писатели, как Уильям Гаррисон (William Harrison) и Сэр Томас Смит (Thomas Smith) сконцентрировали свое внимание на английском образе жизни. Майкл Дрейтон в Poly-Olbion славил землю Англии и ее реки, начинание, которое не оставило равнодушным также и Спенсера. Новое чувство патриотической любви выросло в страсть, и страсть эта обильно и с глубоким лиризмом изливалась в стихах. В былые времена с подобным лиризмом писали только об интимных личных отношениях. «Тот край благословенный, ту страну, то королевство, ту Англию …тот край таких драгих мне душ, о милый, милый край» превозносили на всех уровнях [94]. «Благословенный край» вдохновлял создателей многих замечательных произведений искусства, так же как и авторов литературных опусов, имевших небольшую эстетическую, но солидную документальную ценность.
Расцвет творчества в культуре Англии в XVI и начале XVII вв. был совершенно беспрецедентным и внезапным, и те, кто был к нему причастен, это полностью осознавали. До них мало что можно было сказать о литературе на английском языке. Многочисленные литературные обзоры, написанные первоисследователями XVI в., это признавали. «Первый из наших английских поэтов, о которых я слышал, – писал в 1586 г. Уильям Вебб (William Webbe), – был Джон Гауэр (Гоуэр, John Gower)… Чосер был следующим за ним, но современником Гауэру не был… потом Лидгейт (Lydgate)… С тех пор я не слышал ни о ком до Скелтона (Skelton), писавшего в эпоху короля Генриха VIII» [95].
Но это их не пугало. Они закладывали фундамент национальной культуры, то, что они понимали свою благородную роль, усиливало их ощущение собственной значимости. «Мы, Зачинатели, – писал Габриель Гарвей (Gabriel Harvey) в письме к Спенсеру, – имеем преимущество перед нашими последователями, которые должны будут согласовываться с тем, и подчинять свои примеры и проповеди тому, что написали мы, подобно тому, как, несомненно, Гомер или кто-либо другой из греков, и Энний, и не знаю, кто еще из римлян, превосходили и умаляли тех, кто следовал за ними» [96]. Кроме того, культура, ими создаваемая, имела отчетливые признаки гениальности, и ей предназначено было стать величайшей. Английские писатели XVI в. в это верили и неустанно это повторяли. В навигации «исследуя самые противоположные концы и уголки земли, и прямо говоря, не однажды избороздив всю землю вдоль и поперек», – считал Ричард Хакльют в 1589 году, англичане «превзошли все нации и народы на земле». Сэр Уолтер Рэли заявлял, что англичане гораздо более человечны, чем испанцы; Уильям Гаррисон, – что английское духовенство считается самым образованным. Немногим позже, Генри Пичем (Henry Peacham)) в The Complete Gentleman защищал английских композиторов, которые, как он утверждал, были «ничуть не хуже никого в мире по глубине таланта и богатству замысла». Он также считал, что то же самое можно сказать про английскую геральдику [97].
Но главную хвалу в XVI в. изливали на английских писателей. В основном ею был удостоен Чосер, которого благодарные соотечественники называли «наш отец Чосер», «наш достойнейший Чосер», «благородный Чосер». Трех древних Мастеров – среди которых Чосер был самым знаменитым и почитаемым – сравнивали с великими мастерами античности. Френсис Мерес (Francis Meres) писал в 1598 г. в Comparative Discourse of Our English Poets with the Greek, Latin, and Italian Poets: «Так же, как у греков есть три поэта великой античности – Орфей, Линей и Мусей, а у итальянцев есть три других поэта древности – Ливий Андроник, Энний и Плотин, так же и у Англии есть три поэта древности – Чосер, Гауэр и Лидгейт». «Английским итальянцам», говорившим о «Петрарке, Тассо, Цельяно и бесчисленном количестве других», Томас Нэш противопоставлял Чосера, Лидгейта и Гауэра. «Я уверен в одной вещи, – писал он, – что каждый из этих трех с такой же гордостью и восхищением писали свои произведения на английском, с какой надменнейший Ариост когда-либо писал на итальянском». Сэр Филип Сидни (Philip Sidney) проводил такую же параллель: «Так, у римлян были Ливий (sic), Андроник и Энний. Так, в итальянском языке, что и дало ему право претендовать на звание Сокровищницы Науки, были поэты Данте, Боккаччо и Петрарка. Так, в нашем английском языке были Гауэр и Чосер» [98].
Писателей современников восхваляли с не меньшим энтузиазмом. Количество панегириков – в некотором отношении поэты пели панегирики сами себе – не поддается исчислению. Упоминали «быстрого умом, соотечественника нашего сэра Томаса Мора», «чудо нашего времени, сэра Филипа Сидни», «нашего знаменитого английского поэта Спенсера» – «божественного мастера, чудо разума», которого Томас Нэш поставил бы в «один ряд с теми, кто отстаивал честь Англии перед Испанией, Францией, Италией и всем миром»; говорили о «нашем английском Гомере» – Уорнере и о «медоречивом Шекспире», чей «полногласный язык» наверное использовался бы музами, говори они по-английски [99].
Сам английский язык стал объектом страстного поклонения. Его любили как «наш родной язык», но культивировали его за то, что он мог дать становлению нации, в качестве «нашей самой главной славы». Не существовало ничего, чего нельзя было достичь или выразить на «столь богатом и свободном языке, каковым является наш английский язык». Некоторые заявляли, что он во всем равен другим «главным и знаменитым» языкам: таким, как иврит, греческий, латынь, итальянский, испанский и французский. Майкл Дрейтон в стихотворении из England’s Heroic Epistles (1598) писал:
- Though to the Thuscans I the smoothness grant
- Our dialect no majesty doth want
- To set thy praises in as high a key
- As France, or Spain, or Germany, or they. [100].
- Хотя тосканцы благозвучностью сильны,
- Величия в наречьи нашем достает,
- Чтоб петь на нем хвалы, в таком же стиле
- Высоком, как Франция, Испанья, или
- Германия и сами итальянцы.
Однако большинство считало, что английский намного превосходит другие языки. Непревзойденным образцом такого мнения остается Epistle on the Excellency of the English Tongue (1595–1596) Ричарда Кэрью (Richard Carew). Кэрью написал эту эпистолу «взыскуя той хвалы, которую мог бы я воздать нашему английскому языку, как это сделал Стефаний – для французского языка, и прочие – для своих родных языков». Хвалить английский язык, как он обнаружил, было за что: он был богаче, чем остальные, «поскольку мы заимствовали (и это – не позорно) из голландского, бретонского, романского, датского, французского, итальянского и испанского языков, как может наш язык не превосходить их по богатству?» И, отдавая должное другим языкам, или, скажем, считая так, Кэрью находил, что английский был еще и сладкозвучнее, чем все остальные языки:
«Италианский язык – благозвучен, но не имеет мускульной силы, как лениво-спокойная вода, французский – изящен, но слишком мил, как женщина, которая едва осмеливается открыть рот, боясь испортить свое выраженье лица, испанский – величествен, но неискренен, в нем слишком много О, и он ужасен, как дьявольские козни, голландский – мужественен, но очень груб, как некто, все время нарывающийся на ссору. Мы же, заимствуя у каждого из них, взяли силу согласных италианских, полнозвучность слов французских, разнообразие окончаний испанских и умиротворяющее большее количество гласных из голландского; итак, мы (как пчелы) собираем мед с лучших лугов, оставляя худшее без внимания. Посему, совмещая в себе мощь и приятственность, полнозвучие и изящество, величавость и красоту, подвижность и устойчивость, как может язык, имеющий такую звучность быть каким-либо иным, нежели чем самым наилучшим» [101].
Такому изумительному языку самой судьбой было предназначено сыграть большую роль в мировой культуре. Сэмьюэл Дэниел (Samuel Daniel) высказал эту провидческую мысль, разделяемую многими, в «Musophilus»:
- Who in time, knows whither we may vent
- The treasure of our tongue, to what strange shores
- This gaine of our best glory shall be sent
- T’inrich vnknowing Nations with our stores?
- What worlds in th’yet vnformed Occident
- May come refin’d with, th’accents that are ours [102]
- Кто во время оно будет знать, где расточим мы
- Сокровище английской речи (языка), к каким чужим брегам
- Се достоянье лучшей нашей славы пребудет послано,
- Чтобы безвестные народы обогатились нашим изобильем?
- Миры какие, в том, не сформировавшемся доселе Западе,
- Усовершенствуются, быть может, нашим языком?
Считалось, что властители, знать, страна и человечество в целом должно быть признательно литераторам за их писательский труд. Франсис Мерес полагал, что Елизавета I, спенсеровская Королева Фей, «имела преимущество перед всеми королевами мира, поскольку была воспета таким божественным поэтом». Эшем был уверен, что изучение трудов Томаса Элиота «во всех областях знания принесет большой почет всему дворянству английскому». Бен Джонсон восхищался Камденом в следующих строках:
- Camden, most reverend head…
- to whom my country owes
- The great renown and name wherewith she goes.
- Камден, ум достойнейший,
- Кому моя страна обязана
- Великой славой и именем, с чьей помощью
- Она идет вперед.
А Пичем, говоря о Роберте Коттоне, заявлял, что «не только Британия, но и сама Европа должна воздать должное его трудам, расходам и любви, с которой он собрал столь много редких рукописей и других ценных памятников старины» [103].
Выражая чувство собственного достоинства англичан и чувство национальной гордости, копившееся в течение предыдущих десятилетий, эта литература одновременно развивала и распространяла эти чувства. Она дала форму и таким образом установила новое измерение опыта; как ранее религия, она предлагала язык, на котором национальное чувство могло себя выразить. В этом случае это был собственный язык национализма, не менее внятный, но отличный от языка религии. Итак, это стало еще одним, возможно последним событием в длинной цепи развития событий, которые все вместе привели к тому, что в Англии уже к концу XVI в. твердо укоренился современный, хорошо развитый зрелый национализм. С тех пор в истории Англии он сам стал одним из главных, если не самым главным фактором в любом важном повороте событий.
Перемена положения короны и религии в национальном сознании
В XVII в. главенство национальности демонстрировалось различными способами, некоторые из этих способов, хотя они и не противоречили духу елизаветинского национализма, отличались от тех способов, при помощи которых национализм выражали обычно. Положение дел при первых Стюартах способствовало отделению национального чувства от монархического. Социальные и политические изменения предыдущей эпохи имели своим результатом резкое и стабильное увеличение фактического благосостояния и власти групп, представленных в парламенте, о чем эти группы были очень хорошо осведомлены. Эти группы были в авангарде национализма и их национальное самосознание росло пропорционально этой осведомленности. Негибкость Стюартов, имевших несчастье унаследовать престол после Елизаветы I и имевших глупость настаивать на божественном праве королей, была для этих людей нестерпимым оскорблением. Они чувствовали, что имеют право на большую долю в управлении страной и на большее уважение, получая при этом меньше того, к чему привыкли. Политика Якова I и Карла I и их неспособность осознать те вещи, которые подразумевались в определении Англии как нации, угрожали, казалось, самому существованию англичан как англичан, их вере в то, что они являются тем, кем они являются, и противоречили самой идентичности народа. Эта политика мешала свободе быть англичанином, мешала реализовывать свое членство в нации, и, таким образом, воспринималась как угроза «вольностям английским». Именно эта невозможность быть англичанином в Англии и заставила около шести тысяч людей уехать в Северную Америку – важный шаг, чью значительность удалось оценить только двумя столетиями позже [104].
Стюарты своеобразно повторили ошибки царствования королевы Марии I. Они оскорбили значительную часть населения в ее национальном сознании, в том сознании, которое возвысило массы англичан до положения элиты и дало каждому из них такое сладостное чувство личного достоинства, каковое, поскольку они знали его столь короткое время, ничуть не утратило для них своего вкуса. Реакция на это оскорбление была такой же, как и при Марии, – в национальной идее стали обращать внимание на антимонархические посылки, и нацию переопределили как единственный источник верховной власти. Те слои, которые к этому времени приобрели национальную идентичность все еще – и очень глубоко – были преданы тому политическому единству, чьей частью они были, но король уже не был в этой преданности центральной фигурой. Само существование короля стало считаться опасным и излишним. В национальности усилились демократические и либертарианские смыслы.
Политика Стюартов также оскорбляла определенные религиозные чувства людей, что было почти неизбежно, поскольку нация, чью национальность Стюарты не смогли оценить, была в это время протестантской нацией. Протест против этой политики, подобно оппозиции власти Марии I, был поэтому связан с религиозным протестом. В нем использовался расхожий идиом Протестантской религиозной оппозиции – пуритане. Пуританство было созданием елизаветинской эпохи. Возможно, непосредственной причиной возникновения этого движения послужил недостаток престижных постов для духовенства. Одновременно с этим росло количество образованных выучеников университетов, подготовленных и готовых занять эти посты [105]. Пуританское состояние ума было, однако, ничем иным, как логическим развитием национального сознания, которое становилось сильнее с каждым днем и начинало перерастать самодовольно монархические одежды, так хорошо служившие ему вначале.
Восшествие на трон Елизаветы I привело к тому, что возвращающиеся изгнанники убрали республиканские мотивы в национальном определении Англии как организованной общности (polity) на задний план. Но эти мотивы не были забыты. Хукер в The Laws of Ecclesiastical Polity писал: «Там, где над доминионом властвует король, никакое иностранное государство или властитель, никакое местное государство или местный властитель, буде он один или много, не могут… обладать более высокой властью, чем король». «С другой стороны, – добавил он, – король один не имеет власти действовать без согласия палаты лордов и общин, собирающихся в парламенте: король сам по себе не может изменить ни суть судебных исков, ни суды… ибо закон ему это запрещает». К концу века классы, представленные в парламенте, имели большую власть, и власть эту они осознавали. Сэр Томас Смит писал в De Republica Anglorum (1589), что «самой высшей и абсолютной властью в Королевстве Английском обладает парламент… Парламент отменяет старые законы и создает новые… изменяет права и имущественное положение отдельных людей, … устанавливает формы религии… устанавливает форму престолонаследия… Ибо считается, что каждый англичанин присутствует в нем, лично ли, либо через своих представителей ли, к какому бы сословию человек сей ни принадлежал, каким бы положением и достоинством или качествами ни обладал, от принца до самого последнего нищего Англии» [106]. Это было не голословным утверждением, а очень точным описанием сложившейся ситуации. Именно благодаря этой ситуации, после самой серьезной стычки с парламентом за все ее царствование – дебатов относительно монополий 1601 г. – потерпевшая поражение Елизавета I сочла нужным поблагодарить палату общин за то, что удержали ее от ошибки, добавив, что государством должно управлять во благо подданных, а не во благо тех, кто призван им управлять, и воззвала к «любви» своих подданных [107].
Эту в основе своей республиканскую позицию негласно разделяли многие, но для того, чтобы отстоять ее открытое внедрение в социальный строй, потребовалась религиозная фракция (секта). Вначале эта религиозная секта, которая впоследствии стала известна под одиозным названием пуритане требовала лишь реформы церкви согласно, якобы, заветам Писания [108]. Пуритане нападали на епископов, настаивая на праве и способности каждого читать и толковать Библию, и агитировали за пресвитерианское управление церковью. Однако их противники были правы, указывая на то, что пуританство открывало ворота для реформы общества в целом и подразумевало не менее чем уничтожение существующего строя. В речах Томаса Картрайта (Thomas Cartwright), лидера пуритан, архиепископ Витгифт (Whitgift) усмотрел «ниспровержение государевой власти в делах духовных и гражданских». Епископ Эйлмер увидел в пуританстве основание для «величайшей спеси подлейшего свойства», а король Яков I суммировал все это в чеканной формулировке: «Нет епископа – нет короля» [109]. Лоренс Стоун справедливо определил пуританство как «не более чем общую убежденность в необходимости независимого суждения по совести, суждения, основанного на чтении Библии» [110]. Пуритане были страстными националистами, и пуританство привлекало различные и широкие круги населения; вот почему великий социальный и политический бунт середины XVII в. известен как Восстание пуритан [111]. Это, безусловно, совершенно не противоречит тому факту, что настоящие пуритане были, вероятно, глубоко религиозными людьми. Хотя точно также вероятно, что их сторонники и участники оппозиции Стюартам, которых позднее, не проводя между ними различия, тоже называли пуританами и идентифицировали как пуритан, религиозными людьми не были. Но было или не было пуританство по своей сути религиозным движением, ему исключительно помогло, что оно себя таковым выставляло. Религия все еще оставалась наиболее убедительным средством для того, чтобы оправдать беспрецедентной величины социальное изменение, которое было заложено в определении Англии как нации. Она помогала верить, что, независимо от того, что конкретно обуславливала новая реформа, этого требовал Господь, и это прямо проистекало из роли Англии в религиозной борьбе между силами света и тьмы. В ноябре 1640 г. пуританские проповедники, при поддержке парламента, призвали англичан, восстать во имя своего религиозного долга. Но к тому времени приоритет политического и национального над всем религиозным становился все более очевиден.
Главным вопросом революции была, по мнению Гоббса, не религия, а «та свобода, которую себе присвоил низший слой граждан под предлогом религии» [112]. Теперь людей объединяла не религия, а национальная идея, базирующаяся на свободе разумного индивидуума. Сдвиг относительного центра в том, что касалось собственно религиозной и секулярной национальной преданности, можно было увидеть раньше. Он отразился в той гибкости, совершенно исключительной для XVI в., с которой английское население приспосабливалось к многочисленным сменам веры, благодаря бурной истории того времени. И среди жаркого общественного противостояния, буквально в те самые года, которые предшествовали восстанию пуритан, общее отношение к революции сводилось к тому, что «самое безопасное – придерживаться религии большинства» [113].
Здесь не место вдаваться в подробную дискуссию о причинах, предпосылках и течении революции; все они уже давно и долго обсуждались, ибо революция была главной темой исторических исследований, связанных с Англией XVII в. В то же самое время обсуждение национализма представляет это событие в иной перспективе и на самом деле требует новой интерпретации этого факта. В свете этого взгляда революция, в сущности, является действительно конфликтом между страной и короной, то есть, конфронтацией между короной и нацией.
Это был акт политического самоутверждения нации: именно всех тех групп, включенных в тогдашний политический процесс и обладавших национальным сознанием, а оно фокусировалось на проблеме верховной власти.
Такая интерпретация английской революции дает ей мотив, являющийся необходимым элементом в человеческой деятельности подобной сложности. Она также объясняет в ней некоторые сомнительные моменты. В этом случае, например, понятно, почему деревенская беднота и городские наемные рабочие оставались пассивными и индифферентными. Они были пассивны и не заинтересованы в революции, потому что они были неграмотными, на них не воздействовала, дающая собственное достоинство, национальная идентичность; они еще не стали членами английской нации и их не затрагивало оскорбление национальности. Эта интерпретация также объясняет отсутствие четкого разделения населения, активно участвующего в конфликте. На обеих сторонах, участвующих в конфронтации, можно было обнаружить представителей всех затронутых ею слоев. Этот факт уменьшает правдоподобность объяснений, связанных со стратификационным делением, будь оно классовым или статусным.
Однако при анализе в терминах национальных чувств не поддающееся, в противном случае, классификации деление становится понятным. После почти полутора веков длительного развития, идея «нация» стала иметь связь с различными факторами, которые через эту связь приобрели внятный националистический смысл и могли быть интерпретированы несколькими способами. Долгое время нация была связана, фактически персонифицирована в личности короля, поэтому для многих оппозиция королевской власти была ничем иным, как антинациональной оппозицией. Наиболее распространенная точка зрения же была такова, что нация определялась в терминах индивидуального личного достоинства, или свобод (вольностей) ее членов, и все, что мешало осуществлению этих свобод, было антинациональным. Эти две точки зрения были доступны людям, принадлежащим к любому социальному слою, и человек выбирал одну из них, иногда в противовес собственным объективным интересам. Тот факт, что повстанческая точка зрения эти объективные интересы поддерживала, а при монархической точке зрения (когда нация была связана с монархией) эти интересы были несущественны, стал причиной тому, что превалировала точка зрения мятежников, и способствовал окончательной победе парламентского (или патриотического) дела. Определение английской нации без монархии, а корона в течение первого наиболее важного столетия постоянно помогала ее развитию, было, однако, очень сомнительным; при Реставрации нация и монархия опять оказались связанными воедино, хотя уже и на других условиях, и монархия осталась важным национальным символом.
Тем не менее революция помогла разъединить вещи, исторически связанные с идеей «нация», но для нее несущественные. Она ясно дала понять, что национализм был про право участия в управлении государством, он был – за свободу, а не за монархию или религию [114]. Этих двух, ранее незаменимых союзников, на время отставили. Королевская власть была упразднена, а религию переосмыслили таким образом, что она утратила большую часть своей специфически религиозной значимости. Ее по-прежнему идентифицировали с борьбой за нацию, но если раньше именно связь с религией узаконивала национализм, то теперь только связь с национализмом придавала религии хоть какое-то значение, в An Humble Request to the Ministers of Both Universities and to All Lawyers in Every Inns-A-Court (1656) диггер Джерард Уинстэнли (Winstanley) определил истинную религию как возможность национального существования. «Истинная, чистая религия, – говорил он, – состоит в том, чтобы позволить каждому иметь землю, которую он может возделывать, затем, чтобы все могли жить свободно своим трудом». Важную роль здесь играет то, что диггеры символизировали собой проникновение национального сознания в низшие, ранее не имевшие к нему отношения слои общества. Уинстэнли толковал национальность, не будучи обремененным слишком тесным знакомством со всеми сложными традициями, которые участвовали в ее создании, но своим незамутненным взглядом он ухватил самую суть. Быть англичанином означало для него быть по существу равным любому другому англичанину и иметь право на долю во всем, чем располагает нация. Если национализм парламента этого не означал, тогда такой национализм не значил ничего и парламент был предателем нации. «Основою же всех национальных законов, – настаивал Уинстэнли, – есть собственность на землю… Первый парламентский закон, который побуждает бедный народ Англии засевать общинные и пустые земли таков, что в нем люди объявляют Англию свободным государством (Commonwealth, общим достоянием). Этот закон разбивает вдребезги королевское ярмо и законы Вильгельма Завоевателя и дает каждому англичанину обычную свободу: спокойно жить на своей собственной земле, в противном случае Англия не может быть государством – Commonwealth… судьи не могут называть этих людей бродягами… потому что по закону копать землю и работать, бродяжничеством не является… Эти люди – англичане по закону палаты общин Англии» [115].
Высказывания главных деятелей этого времени, вероятно, проигрывают в прямоте речам Уинстэнли, но влияние национальной идеи на этих деятелей равно очевидно. Совершенно ясно, что нация и, соответственно, свобода (вольность) были в центре внимания у О. Кромвеля, и он не проводил четкого различия между службой нации и истинным вероисповеданием. «У Господа в этом мире есть две величайших заботы, – говорил он, – одна из них – это религия… а также свобода людей, исповедующих благочестие (во множестве форм, существующих среди нас)… Другая его забота – это гражданская свобода и интересы нации, которые, хотя и (и как я думаю справедливо) должны быть подчинены более личному интересу Бога – тем не менее, они являются той второй лучшей вещью, кою Господь дал миру сему … и ежели кто-либо мыслит, что интересы христиан и интересы нации противоречат друг другу или означают разные вещи, то пусть душа моя никогда не постигнет сей тайны!» Религию О. Кромвель поставил на первое место, но его трактовка «интересов Бога» (то есть религиозной свободы) делает ее просто одним из интересов нации. В другом месте он утверждал: «Свобода совести и свобода подданных – две столь же великие вещи, за которые стоит бороться, сколь и любые другие, кои дал нам Господь». В своих речах в парламенте он много раз подчеркивал, что борется за «свободу Англии» (а не религии); что цель революции – «сделать нацию счастливой». И с гордостью заявлял о своей преданности нации, говорил об «истинно английских сердцах и ревностном усердии на благо нашей Родины-Матери». «Мы склонны хвастаться тем, что мы – англичане, – говорит Кромвель, – и воистину нам не следует этого стыдиться, но это должно побуждать нас действовать как англичане и алкать истинного блага нации сей и выгод ея» [116].
Каким бы националистом ни был сам Кромвель, а, очевидно, он был настоящим, глубоко чувствующим националистом, Драйден (Dryden), Спрат (Sprat), Пепис (Pepys) и другие интеллектуалы тогдашнего времени подчеркивали его вклад в усиление и славу нации и именно за это его восхваляли. Примерно через три столетия после его смерти сочли нужным издать монографию о личности О. Кромвеля и социальной роли «Божьего англичанина» (God’s Englishman) и выбрали в качестве эпиграфа его высказывание: «Мы – англичане, одно это – уже хорошо» [117].
Мильтон (Milton), лидер «новой религии патриотизма», является другим примером все более светского национализма и акцентуации его либертарианских предпосылок в XVII веке [118]. Как многие другие до него, Мильтон верил в богоизбранность англичан. В Areopagitica он апеллировал к палате лордов и общин: «Воззрите, к коей Нации Вы принадлежите, и коею правите: нациею не медлительною и тупоумною, но быстрого, искусного и пронзительного разума, скорой на изобретения, яркой и живой в речах своих, нациею, коя может достичь любого самого высшего предела человеческих возможностей… сия нация избрана пред всеми другими… (Когда) Господь указывает начать какую-либо новую и великую эпоху. …Разве он не открывает себя… как это ему свойственно, прежде всего своим англичанам?» С течением времени, однако, взгляды Мильтона на природу и причины этой избранности претерпевали значительные изменения. В своей ранней работе – трактате Of Reformation in England (1641) – он выдвигал уже известную апокалиптическую концепцию, очень в духе Фокса, об английском лидерстве в Реформации. Позднее, ратуя за различные социальные реформы, в частности за реформу брака (Doctrine and Discipline of Divorce, 1643–44) и свободное от лицензии книгопечатание (Areopagitica, 1644), он защищал эти реформы на том основании, что они соответствовали английскому национальному характеру, так же как и религиозному и историческому предназначению Англии. В своей «Истории Британии» (History of Britain) он нападал на организованную церковь как таковую, доводя до логического заключения протестантскую доктрину о священстве всех верующих и требуя полного равенства для своей нации «столь гибкой и столь расположенной к поиску знания». Его изречения, полные религиозного пыла и все еще использующие авторитет религиозных текстов, перестали иметь что-либо общее с религиозным содержанием. «Великая и почти единственная заповедь Евангелия – не творить ничего против блага человека, – писал он, – и особливо не творить ничего против его гражданского блага» – и «главной целью любого обряда, даже самого строгого, самого божественного, даже Субботнего обряда является благо человека, да даже его мирское благо не должно быть исключено». Теперь для него исключительность Англии отражалась в том, что она была «домом свободы», народом «навеки славным прежде всего в достижении свободы». Вместо того чтобы быть вождем других наций в религиозной Реформации, Англия стала их вождем на пути к гражданской свободе. В этом, писал Мильтон, «мы имеем честь, быть впереди всех других наций, которые сейчас прилагают тяжкие труды, чтобы стать нашими последователями» [119]. Свобода стала отличительной чертой английскости.
Революция помогла завершить процесс, который начался столетием раньше. Она способствовала тому, что большее количество людей «было вовлечено в политические действия во время революционных сороковых и пятидесятых, поставила их в более прямую зависимость от Лондона… национальное сознание (поэтому) распространилось в новых географических регионах и проникло в низшие социальные слои» [120]. Парламентские статуты, речи и листки отделили тему национальности от темы религии и от власти английской короны и прояснили значение национальной идентичности. После Гражданской войны, нацию утвердили как главный объект преданности, и в этом отношении ее перестали считать сомнительной. Будучи самоочевидным фактом, она больше не требовала ни религиозной, ни монархической правомерности.
Религиозный идиом, при помощи которого национальные идеалы выражались ранее, вскоре исчез. Это не подразумевает того, что люди утратили веру в Бога или перестали соблюдать церковные обряды – в XVII в. это было почти невероятно, – скорее, религия утратила свою власть в других видах деятельности, она перестала быть источником социальных ценностей и, вместо того чтобы их формировать, ей пришлось приспосабливаться к общественным и национальным идеалам. Условия, облегчившие принятие протестантства и пуританства в Англии, были теми же, что стали почвой для развития национального сознания, чему религия послужила лубрикатором (смазкой).
Судьба монархии не слишком отличалась от судьбы религии. Реставрация не реставрировала старые взаимоотношения между короной и народом. При Карле Втором парламент настойчиво подчеркивал свой мирный и покорный характер и даже, как мы видим, воздерживался от употребления самого слова «нация» в своих документах. Но вскоре после возвращения короля, изменившееся по своей сути положение, как религии, так и монархии, символизировал и отразил королевский молитвенник (Common Prayer Book). В версии Карла Второго к обычному объему молитв был добавлен целый новый раздел «молитв и благодарствий по случаю отдельных событий», куда были включены молитвы о дожде, хорошей погоде, войне и бедствиях, чуме и болезни; среди молитв, относящихся к такому внезапному выражению божьего гнева или благоволения, была «Молитва о собрании парламента, читаемая во время его сессии». Текст молитвы известен, он гласит:
Most gracious God, we humbly beseech thee, as for this Kingdom in general, so especially for the High Court of Parliament, under our most religious and gracious King at this time assembled: That thou wouldest be pleased to direct and prosper all their consultations to the advancement of thy glory, the good of thy church, the safety, honour and welfare of our Sovereign, and his Dominions; that all things may be so ordered and settled by their endeavours, upon the best and surest foundations, that peace and happiness, truth and justice, religion and piety, may be established among us for all generations. These and all other necessities, for them, for us, and thy whole Church, we humbly beg in the name and Mediation of Jesus Christ our most blessed Lord and Savoiur. Amen [121].
(Всемилостивейший Боже, смиренно умоляем Тебя как королевства сего ради, так и особенно ради высокого собрания парламента при нашем благочестивейшем и милостивейшем государе-короле, собравшегося и созванного в сие время: Не оставь Своею милостью и направь и благоприятствуй всем его (собрания) советам касательно распространения славы Твоей, благоденствия церкви Твоей, безопасности, чести и благосостояния государя нашего и его доминионов; чтобы, благодаря его (собрания) усилиям, все так уладилось и поставлено было на самых лучших и твердых основаниях, чтобы покой и счастье, истина и справедливость, религия и благочестие восторжествовали у нас во веки веков. О сем и всем остальном насущно необходимом, ради них, ради нас и всей церкви Твоей, смиренно умоляем именем и заступничеством Иисуса Христа, благословенного Господа нашего и Спасителя. Аминь.)
Контекст этой молитвы – то есть место парламента относительно выражения Господнего недовольства или благоволения – показательно и интересно то, что такой молитвы за здравие или благоденствие короля не существовало.
Страна экспериментального знания
Чувство культурной особенности нации возникло одновременно с ее политическим самоутверждением. Тенденции Елизаветинской эпохи имели продолжение в новом столетии. Писатели, как и раньше, подчеркивали достоинства английского языка и литературы и настаивали на том, что они превосходят классические языки и литературу и французские язык и литературу, которые в то время считались стандартом совершенства. Пожалуй, наиболее известными трудами, с точки зрения литературного патриотизма, в XVII в., были труды Драйдена. Драйден был убежден, что английская драма намного превзошла французскую и требовал, чтобы английским поэтам «отдали их несомненный долг, в том, что они превзошли Эсхила, Еврипида и Софокла». В Annus Mirabilis Драйден вторит оптимистической вере Дэниела в будущее величие Англии:
- But what so long in vain, and yet unknown,
- By poor man-kind’s benighted wit is sought
- Shall in this age to Britain first be shown,
- And hence be to admiring Nations taught.
- А что столь долго, тщетно бедный и отсталый
- Ум человечества алкал и так и не познал,
- Будет в сей век Британии открыто первой,
- А затем ученьем будет восхищенным нациям
Однако причиной для этого оптимизма были не совершенство английского языка или надежда на его литературную гениальность, а наука [122].
Уже в начале XVI в. (как мы уже отметили) здравомыслие – как часть разумения – считалось в Англии высшей ценностью. Оно было «божественной сущностью» человека, и сам язык, как считалось, был его слугой. Здравая мысль могла быть выражена посредством языка и поэтому культивировать язык было достаточно здравой мыслью [123]. Именно это рассуждение стало первым среди доводов, приведенных королю сэром Брайаном Туком (Brian Tuke), когда король рекомендовал ему издать в 1532 г. собрание сочинений Чосера, к которому сэр Брайан написал вступительное слово [124]. Для сэра Филипа Сидни родство языка со здравомыслием служило доказательством полезности поэзии. В Apologie он аргументировал это следующим образом: «Если Oratio, вслед за Ratio, речь, вслед за здравомыслием, суть величайшие дары, данные смертным, то не может быть бесполезным то, что более всего оттачивает благословенную речь» [125].
Когда понятие английского национального характера выкристаллизовалось, рациональность (rationality) заняла в нем центральное место. Таковая английская интеллектуальная диспозиция выражалась в независимости мышления, критическом уме, способности приходить к решениям на основании – предпочтительно собственных – знаний и размышлений, любви к практическому знанию. Кроме того, благодаря этому английский национальный характер отличался тем, что апеллировать к англичанам желательно было рациональным, а не эмоциональным и не авторитарным способом, бесстрастностью и отвращением к энтузиазму. С точки зрения философа-пуриста английское мировоззрение в XVII в. можно было бы охарактеризовать как антирациональное. Недоверие к здравомыслию и «то, что по положению своему оно стоит ниже чувств» в трудах Френсиса Бэкона и его последователей подчеркивается справедливо, поскольку в то время было популярно учение скептиков [126]. Но, что бы из него ни выводили и что бы ни думали по этому поводу пуристы, это мировоззрение вело к рациональному поведению. Размышления, теоретизирование, не основанные на фактах, были действительно сомнительными, но оборотной стороной всеобъемлющего недоверия к власти была вера в здравомыслие отдельно взятой личности. Скептики ладили с властью и испытывали недостаток веры.
Вера в здравомыслие индивидуума способствовала его самоутверждению в отношениях с властью, а скептицизм, подчеркивающий бесполезность пустых размышлений, сделал чувственное эмпирическое знание основой для утверждения здравомыслия. Из этих разных элементов возникло уникальное мировоззрение, не пуристское с точки зрения философии, но исключительно систематическое в поддержке свободы индивидуального сознания. Рационализм этого мировоззрения подразумевал право на свободную мысль; его скептицизм дискредитировал догматичность и требовал терпимости к чужому мнению, его эмпиричность подрывала понятие интеллектуальной аристократии, поскольку, согласно этому мировоззрению, любой человек, обладающий нормальными, человеческими чувствами, был способен получить истинное знание, на каковом, по общему мнению, зиждился прогресс человечества. Такой взгляд на вещи, который и стал рассматриваться как истинно английский, одновременно и воплощал, и способствовал формированию концептуальной основы демократических тенденций эпохи, а наука стала олицетворением этого рационалистического, эмпирического, скептического мировоззрения.
Со времен Бэкона наука считалась признаком превосходства потомков над предками, которым она, якобы, была неизвестна. Также со времен Бэкона, ее (науку) рассматривали как признак величия нации, гарантию и основу силы и добродетели нации [127]. В битве между старым и новым англичане идентифицировали себя с новым. Старое (предки) было иностранным, не имевшим связи с Англией, а имевшим отношение к Италии, Франции и Испании. Эти три континентальные страны были главными культурными соперниками Англии. Национальная гордость побуждала англичан заявлять о своем равенстве или даже о своем превосходстве над соперниками. Однако в классической учености Англия не могла выдержать никакого сравнения с Францией и Италией. Поддерживать авторитет древних означало признать себя отсталыми в культурном отношении. Не желая этого делать, Англия отстаивала примитивный культурный релятивизм, аргументируя это тем, что то, что было хорошо для одной эпохи и общества, совершенно необязательно будет хорошо для другой. Подобная постановка вопроса освобождала англичан от сражения на интеллектуальной арене, избранной «разрушенными Афинами или упадочническим Римом», и спасала английское национальное достоинство [128]. Поддержка нового, современного укрепляла национальную гордость. Наука была современным начинанием, поэтому на этом поле англичане могли успешно соревноваться. Будучи вначале отличительным знаком культурной особенности Англии, она вскоре стала доказательством английского превосходства. В то же самое время важность литературного превосходства уменьшилась, так как считалось, что литературные достижения выражают английский национальный гений в меньшей степени.
Взлет тогдашней науки, ознаменованный основанием Лондонского королевского общества, относили за счет влияния религии, а именно связи духа науки и протестантской этики [129]. Но хотя находящаяся в младенчестве наука, несомненно, выигрывала от того факта, что она не противоречила доминирующему религиозному мировоззрению, и поэтому религия была к ней терпима, в целом религиозной поддержке наука почти ничем не обязана. Ее растущий авторитет фактически был еще одним отражением падения влияния религиозной веры в обществе, а английские национальные светские интересы доминировали уже неоспоримым образом. Именно важность науки для английской национальной идентичности и функция, которую выполняла наука для сотворения английского культурного облика, создали такое состояние общественного мнения, которое было благоприятным для ее развития. Общественное мнение поддерживало тех, кто имел способности заниматься наукой, и заставило многих англичан, которые имели очень смутное понятие о сути научного знания, застывать в благоговении перед научным творчеством. Национализм – вот что подняло науку на вершину престижа и обеспечило ее укрепление в обществе.
Занятие наукой было делом национального признания. Достижения английских ученых постоянно использовались как оружие в культурном соревновании с передовыми континентальными нациями – наследницами классической античности. Джон Уилкинс (John Wilkins) хвастливо называл Бэкона «нашим английским Аристотелем». Уильям Гильберт (William Gilbert), автор De Magnete был «нашим соотечественником, которым восхищаются иностранцы» [130]. Лидерство Англии в науке было очевидным – по крайней мере, для англичан. В 1600 году, в первой главе «De Magnete», касаясь истории своего предмета, сам Гильберт писал: «Другие ученые, которые в длительных, морских путешествиях наблюдали различия магнитных колебаний, были все англичанами… Многих других я намеренно пропускаю: а именно современных французов, немцев и испанцев, которые в своих сочинениях, в основном написанных на их родных языках, либо злоупотребляют чужими учениями и, как полировщики оружия, выставляют старые вещи, обряженные в новые имена, используя пышный наряд новых слов, как шлюхи – изукрашенные платья; либо издают работы, даже и не заслуживающие упоминания» [131].
Национальный престиж был также главной темой в борьбе за приоритет в области научных открытий. Джон Валлис (John Wallis), один из наиболее известных математиков той эпохи и автор труда о величии английской математики часто поднимал эту тему в своих письмах. Он желал, «чтобы те (ученые) нашей нации, были бы более скорыми, чем я их, в общем, нахожу (особенно наиболее значительные ученые) на то, чтобы вовремя публиковать свои открытия и не допускать, чтобы иностранцы крали славу у тех из нас, кто является автором этого открытия» [132]. Это было также темой первого официального письма Королевского общества Ньютону. В нем Генри Ольденбург (Henry Oldenburg), секретарь Общества, информировал Ньютона о проверке его изобретения совмещенных телескопов, называя его «самым выдающимся (ученым) в области теоретической и экспериментальной оптики», и выражал общее мнение, что «необходимо использовать некоторые средства, чтобы обезопасить изобретение, дабы его не присвоили себе иностранцы». В письме, написанном позднее в том же году, Ольденбург умолял Ньютона: «Сей труд нужно публиковать без промедления, ибо есть резоны опасаться, что поразительные и оригинальные мысли, в нем содержащиеся, …могут быть похищены, и честь их авторства может быть украдена иностранцами, из коих некоторые, как я уж прежде Вам писал, имеют склонность к похвальбе и распространению того, что никак не является порождением их страны» [133].
Величие нации была также важной причиной – возможно, единственной, которая могла бы сравниться с личными устремлениями ученых – для того, чтобы в принципе продолжать научную работу. В одном из своих более поздних писем Ольденбург писал Ньютону о том, какое признание получили ньютоновские труды за рубежом. Ольденбург считал, что подобная информация должна «сподвигнуть (Вас) достичь еще больших высот, как во имя себя, так и во имя чести нации» [134]. Эдмунд Галлей (Edmond Halley), будучи сам выдающимся ученым и королевским астрономом, использовал тот же самый аргумент, когда разговор шел о публикации Principia, желая иметь уверенность в том, что Ньютон будет продолжать свой труд: «Я надеюсь, что Вы не будете сокрушаться о тех тяжких усилиях, кои Вы предприняли для написания столь славного труда, каковой столь добавляет чести нации и Вашей собственной, …что было бы хорошо, если бы Вы продолжили ваши исследования» [135].
Практикующие ученые полностью разделяли мнение пропагандистов и апологетов науки, которые сами ею не занимались, что главной причиной ее узаконения был вклад науки в национальный престиж. Даже Ньютон в редком письме, не полностью посвященном техническим подробностям его научных исследований, отдал дань подобным взглядам [136]. Рекомендуя другого ученого, географа Джона Адамса (John Adams) своему кузену сэру Джону Ньютону, он представлял его работу (географический обзор Англии) как «работу, служащую чести нации» и считал, что благодаря этому Адамса «следует ободрить всемерно» [137].
Роберт Бойль (Robert Boyle) был также явно озабочен английским превосходством в науке. Он заставил Ольденбурга перевести на латынь все свои работы, написанные на английском, чтобы защитить их от неавторизированных переводов на другие европейские языки и от иностранного плагиата. Ольденбург, со своей стороны, за редким исключением, всегда передавал Бойлю информацию, получаемую от иностранных корреспондентов Королевского общества, о реакции заграницы на достижения английской науки. Некоторые письма почти целиком посвящены этой теме. «Следует отметить, – обычно заключал Ольденбург, – что Англия располагает большим количеством ученых и любознательных людей, в Англии их больше, чем во всей Европе в целом; те работы, которые они делают, – солидны и детализированы, ибо мир слишком долго пробавлялся общими теориями [138].
Подобные самовосхваляющие высказывания более чем соответствовали оценке английской науки иностранцами, которые признавали лидерство Англии в этом отношении и также видели в нем отражение величия нации. Немецкий корреспондент Королевского общества Майор (J. D. Major) писал в 1664 г.: «Мнится, что для замечательного английского народа характерно осуществлять великие свершения, благодаря глубокому и совершенно необыкновенному дарованию».
Другой корреспондент сравнивал английское превосходство в медицинских науках со славой Англии в мореплавании: «Как в прошлом исследование морей день за днем добавляло новые острова английскому королевству, …так теперь любовь к научной истине вела знаменитого Бэкона и Дигби (Digby), вместе с выдающимися Гарвеем (Harvey), Бойлем, Чарльтоном (Charleton), Хаймором (Highmore), Глиссоном (Glisson) и Уоллесом (Wallis), к тому, чтобы пролить новый свет на медицину. Он обещал, что немецкие ученые не забудут, в каком долгу они были перед Англией: «(Если) Германия не сможет добавить ничего заслуживающего внимания к вашему английскому океану, то мы можем предложить Вам неизменную память о том, какие блага мы получили от Вас; и каковы бы ни были наши собственные труды, появляясь в печати, они будут свидетельствовать о том, что мы черпали из английских источников» [139].
Иностранные корреспонденты отмечали, что англичане гордятся научными достижениями своих соотечественников, что наука в Англии имеет необыкновенно большой вес в обществе и пользуется широким общественным признанием. Насколько резко отличался престиж науки в Англии от того, как к ней в то время относились в других странах, можно понять из знаменитой Eulogium to Newton Фонтенеля (Fontenelle). Фонтенель явно верил в то, что научное величие означает величие нации. В свете этого мнения значимость исключительно высокого положения, которое занимала в Англии наука, на примере того, как нация оценивала Ньютона, очень увеличивается. Об отношении англичан к своим ученым Фонтенель писал следующее: «Как же исключительно повезло сэру Исааку Ньютону, что он смог насладиться наградой за свои заслуги при жизни, совершенно напротив Декарту не воздали никаких почестей, кроме, как после смерти. Англичане не испытывают меньшего уважения к великим Гениям, если они родились среди них, и они столь же далеки от того, чтобы недооценивать их, злобно их критикуя. Они не одобряют, когда на ученых нападают завистники. Они все поддерживают своих ученых; и та великая степень свободы, которая служит причиной их разногласий по самым важным вопросам, не препятствует им объединяться в этом. Все они прекрасно осознают, сколь высоко должно цениться в государстве величие разумения (познания), и кто бы ни обеспечивал сие Величие, тот становится им необыкновенно дорог… Нам надобно оглянуться назад на древних греков, если мы хотим найти примеры такого поразительного благоговения перед ученостью» [140].
Восхищение иностранцев, смешанное, как мы видим, с долей зависти, укрепило англичан в определении себя как научной нации. Представители королевского общества использовали этот факт для того, чтобы обеспечивать дальнейшую поддержку науки, и постоянно напоминали обществу, что наука сделала Англию великой. О службе, которую нации сослужила наука, также постоянно твердили апологеты науки, которым приходилось ограждать ее от все еще многочисленных (и, в данном случае, вдохновляемых религией) врагов. Среди этих апологетов особенно значителен Томас Спрат. Его «История Королевского общества» явилась в XVII в. «кульминацией в пропаганде новой науки», «наиболее искусной и исчерпывающей защитой Общества и основанной на опыте философской системой», а также «наиболее значимым документом во всей литературе, пропагандирующей новую науку». Кроме того, она «представляла официальную точку зрения на материю» [141]. Труд был заказан Королевским обществом, оценен несколькими видными его членами и признан ими исчерпывающим.
Чувства, к которым Спрат почти исключительно апеллировал, были «национальная гордость» и «преданность». В «Истории» он заявлял, что его вдохновляло «само величие проекта», а «рвение мое послужит чести нашей нации» [142]. В другом месте он добавлял, что старался «представить данный Королевского общества проект, как служащий к пользе Славы Англии»; примечательно, что этот будущий епископ Рочестерский не упомянул религию [143]. Спрат был неплохо осведомлен о более низком положении Англии в области «изящных материй» (таких, как литература и искусство), однако представил это голословным утверждением иностранцев и скорее выражением их высокомерия, нежели истиной. В Observations on Mons de Sorbiere’s Voyage into England, документе глубоко националистическом, он писал: «Французы и итальянцы соглашаются, что в последних сочинениях на их языках маловато достоинств, чтобы брать их за образцы. Итальянцы попытались заставить нас думать, будто «Изящные искусства» никогда не перебирались через Альпы, но, будучи побиты числом, они согласились разделить эту честь с французами и испанцами. Сия троица придерживается единого мнения, что только среди них следует искать разумное: таков, якобы, порядок вещей, что лучшие чувства всегда тянутся к Солнцу и редко осмеливаются забираться севернее 49-й параллели». Он постарался было вступиться за честь и английской словесности, хотя, очевидно, эта область оказалась чересчур скользкой. «Во времена первого восстановления учености англичане научились хорошо писать быстро, как и многие другие, если не считать итальянцев; и… если сегодня, опять-таки, взглянуть на итальянцев, англичане хорошо пишут дольше, чем они… Сейчас у нас такое обилие подлинных мастеров, сеющих разумное и истинное, сколько Древняя Греция не дала за все века, но чьи имена я не упомяну – пусть назовут их потомки». Он также постарался представить явные недостатки английской культуры как знак ее фактического превосходства: «Характер англичан – свободный, скромный, добрый: их трудно спровоцировать. Они не столь многоречивы, как другие, но зато они гораздо более заботятся о том, что они говорят. Некоторые их соседи считают, что их Гумору несколько недостает изящества и гибкости, зато сей недостаток с лихвой восполняется их твердостью и мужественностью: и, вероятно, одно и то же наблюдение справедливо как насчет мужчин, так и насчет металлов – самые благородные полируются с наибольшим трудом».
Но именно английское первенство в науке Спрат считал самым неопровержимым доказательством культурного дарования своей страны: «Искусства, кои… сейчас у нас преобладают – сие не только пользительные науки античности, но, очень во многом, особенно, все последние открытия нынешней эпохи – в области практического знания человека и природы. Что касаемо усовершенствования сего вида просвещенности, английская диспозиция – гораздо других предпочтительнее» [144]. В сравнении с таким реальным знанием «истинным искусством жизни» гуманистическая ученость и литература были всего лишь пустячком. И посему The History of the Royal Society («Историю Королевского общества») пронизывал дух уверенности в будущем величии и процветании Англии: наука прочно укоренилась в английском национальном характере, и ее успехи вдвойне служили залогом успехов нации. «Если б возможно было описать общий нрав любой ныне существующей нации, – убеждал Спрат, – то вот как должно было бы характеризовать соотечественников наших: они обычно искренни без аффектации, любят выражать свои мысли со здравой простотой… следует отметить их благородную цельность, их пренебрежение к пышности и церемониям; умение видеть вещи главные (в той или иной степени), их отвращение к обману (как к тому, чтобы обманывать, так и к тому, чтобы обманывали их), сие есть лучшие качества, которыми может быть одарен ум философический, ибо даже наше климатическое положение, воздух, влияние небес, сам состав крови английской, вкупе, как мнится, с трудами Королевского общества, представляют отечество наше как страну экспериментального знания». «Сам гений нации, – утверждал он, – неудержимо тянется к науке». Успех Королевскому Обществу был обеспечен, потому что оно воплощало в себе «господствующий в настоящем гений Английской нации». Отстаивая подобные взгляды, разносторонний священнослужитель Спрат вопрошал: «Ежели англиканская церковь противостоит научным исследованиям, как может она соответствовать ныне существующему гению нации сей?» [145].
Наука не только выражала английский «нрав» – она фактически преобразовывала умы, способствовала большей рациональности (разумности) и, таким образом, объединяла и усиливала нацию. Так думал Спрат, и это было одним из аргументов Джозефа Гленвилла (Joseph Glanvill) в его Plus Ultra, где он предрекал, что наука «в прогрессе своем сделает Дух человеческий более склонным к спокойствию и скромности, к милосердию и благоразумию в религиозных разногласиях и даже будет гасить споры. Ибо свободное, разумное знание ведет к искоренению людских заблуждений и таким образом лечит болезнь в корне; а истинная философия является особым средством против споров и разногласий» [146].
Благодаря своей тесной солидаризации с английской нацией, наука завоевала громадный авторитет и заняла центральное место в национальном сознании. Другие виды деятельности и сферы культуры должны были доказывать свое соответствие науке, чтобы получить национальное одобрение. Религия стала одним из таких видов деятельности. Перечисляя те преимущества, которые сделали Англию счастливейшей из всех стран, Спрат, после того как он упоминает о военной силе, политической мощи и науке, отмечает также «исповедание такой религии и дисциплину такой церкви, каковую избрал бы беспристрастный философ… (и) каковая выказывает явственные свидетельства тому, …насколько тесно ее интересы объединены с процветанием нашей страны» [147]. Примечательно то, что религия отрекомендовывается здесь не только своим родством с духом нации и согласованностью с национальными интересами, но также и тем, что ее могут принять «беспристрастные философы», то есть ученые. Наука стояла на страже национальных интересов, и когда религиозное рвение воспринималось как угроза науке, ее представители считали своим долгом нападать на религию, что они и делали с восхитительным в то время чувством безнаказанности. «История» (History) Спрата, Plus Ultra Гленвилла (Glanvill), Annus Mirabilis Драйдена, кроме того, что они являлись апологиями науки, были еще и частью атаки на религиозный энтузиазм Mirabilis Annus (1666) [148]. Эти авторы считали, что этот энтузиазм стал причиной бед, свалившихся на Англию в непосредственно предыдущие годы, а наука противопоставлялась ему в качестве средства излечения. Общее неверие в энтузиазм и религиозный пыл отразилось в сильном и явно выраженном антипуританском чувстве. В частности, чувство это выражалось в нападках на пуританский стиль проповедей – подобные нападки имели место во второй половине XVII в. [149]. Ученые мужи и склонное к науке духовенство были в числе самых ярых его критиков. Главное место в их критике занимал все тот же знакомый эгалитарный – и националистический довод, что опора на греков и латинян и использование причудливого языка, в чем они обвиняли духовенство, делало проповеди доступными только высшим слоям населения. Они убеждали духовенство улучшать свое знание обычного английского языка и использовать его.
Этот научный стиль проповедей скоро стал в Англии доминирующим, и быстрый успех атаки на религию снова продемонстрировал, какая перестановка по важности мирских и религиозных дел совершилась в английском обществе. Наука на время заняла то место в английском национальном сознании, которое до нее занимал протестантизм. Она выражала сущность английской национальной идентичности. Одним из эффектов этой внутренней связи между первой нацией, которой было предназначено стать одной из самых могущественных мировых сил, и маргинальной прежде деятельностью, стал невероятный авторитет науки в современном обществе. Из-за связи с английским национализмом наука стала культовым объектом задолго до того, как она смогла показать свой реальный потенциал, последующая реализация которого только частично связана с ее полурелигиозным статусом.
Та Англия, которая возникла из гражданского и религиозного процесса середины XVII в., была нацией. Формирование ее в течение предыдущих полутора столетий представляло собой грандиозное изменение в природе и в всеобъемлемости политической жизни, а также оно стало первым главным прорывом в демократию. Английское национальное сознание было прежде всего и более всего осознанием личного, индивидуального достоинства, достоинства человека как личности. Оно подразумевало и выдвигало вперед (хотя и не могло неизбежно влечь за собой немедленную их реализацию) принципы личной свободы и политического равенства. Эти понятия стали главными и в определении английской национальности (nationhood). Принципы эти не изменились, когда религиозный идиом был отброшен, – их суть просто обнажилась. Считалось, все равно, что люди имеют разум, ибо созданы по образу Божьему, соответственно, требование их равенства проистекает из акта создания. Но именно гордость человеческим разумом, а не благоговение перед его источником, вдохновляла таких людей, как Мильтон, после Гражданской войны. Право на свободу совести, свободу человека, автономию разумного существа эти люди защищали ради самих этих прав как высших ценностей. Идеи эти ни в коем случае не были собственно английскими, да и выдвинули их впервые не англичане. Но именно в Англии они смогли стать сущностью самой идентичности народа и поэтому так прочно укоренились в сознании как индивидуальном, так и коллективном, так прочно укоренились в культуре, что смогли трансформировать саму социальную среду, их вскормившую.
Случилось это благодаря комбинированной поддержке нескольких факторов. Идея «нация» была принята прежде всего из-за изменений в обществе, в процессе которых одна элита сменилась другой, и старое определение и правомерность существования аристократии стали устаревать – тогда возникла потребность в новом определении и правомерности. Большая мобильность, сохранявшаяся исключительно долгое время, и постоянное перегруппирование социальной структуры, которое проистекало из этой мобильности, делали национальную идентичность привлекательной для все большего и большего количества людей.
По своим собственным соображениям Тюдоры – все, за исключением Марии I, – относились к этой идее благосклонно и обеспечили ей весомую королевскую поддержку. Уже выраставшее национальное сознание было многократно усилено, когда оно слилось с протестантской Реформацией. Библия на английском языке и беспрецедентное распространение грамотности стали функционально эквивалентны эффекту возведения в новую аристократию для огромной массы простых англичан. Эта масса читателей также была возвышена и приобрела совершенно новое чувство собственного достоинства, которое национальная идентичность усиливала, и это чувство приводило их к тому, что они эту национальную идентичность приобретали. Контрреформистская политика Марии I была также антинациональной, и эта политика способствовала тому, что простой народ, так же, как и аристократия противопоставил ей личную заинтересованность и в протестантизме, и в национализме. Конец ее царствования, наступивший так скоро, сделал эту группу людей, которая настоятельно хотела никогда больше не допускать угнетения своих интересов, а их она идентифицировала с интересами Англии, правящим классом страны на много лет вперед. Эти же годы установили тесную связь между протестантским и национальным движением. Связь эта снабдила растущее национальное сознание Господним соизволением, представила национальное чувство как религиозное, в те времена, когда только религиозные чувства были самодозволены и моральны по собственному праву, а также обеспечила национальному чувству защиту от своего собственного сильнейшего соперника. Казалось, что все важнейшие факторы английской истории того времени специально совпали таким образом, чтобы благоприятствовать росту национализма, в то время как оппозиции ему фактически не существовало. Благодаря этому, у английского национализма было время для созревания; ему позволили – и помогли – проникнуть во все сферы политической и культурной жизни, распространиться во всех слоях общества, за исключением самых низших, и стать мощной силой, которой для своего существования уже не было нужды в подпорках. Он приобрел собственный импульс, существовал по собственному праву, был единственным способом, с помощью которого люди стали в то время видеть реальность и таким образом стал реальностью сам по себе. Ибо национализм стал основой человеческой идентичности, и уже невозможно было в тот момент перестать мыслить в национальных смыслах без того, чтобы перестать быть самим собой.
Комбинация факторов, которая обеспечила развитие и укоренение английского национализма и дала Англии возможность стать нацией, была, безусловно, уникальной. Вряд ли ее где-нибудь было возможно повторить.
Как же тогда национализму удалось распространиться?
Глава 2. Три идентичности Франции
…За теми же физиономиями я вижу других людей и в той же действительности – другое государство. Форма остается, но внутренняя сущность обновилась. Произошла революция в морали, дух изменился.
Гез де Бальзак
Как же изменилось лицо империи! Как же далеко продвинулись мы в своем развитии, сделав гигантский шаг к свободе. В нынешнее время иностранцы жалеют, что они не родились французами. Мы ста нем на голову выше этих англичанишек, которые так кичились своей конституцией и насмехались над нашим рабством.
Камиль Демулен
Вся верховная власть неотъемлемо принадлежит нации. Никакая группа людей или отдельная личность не могут осуществлять власть, если она прямым образом не исходит от нации.
Декларация прав человека и гражданина
Собственно уникальная французская идентичность, осознание того, что «я – француз», существовала веками до того, как она была переосмыслена как идентичность национальная. Эта идентичность стала возможной, благодаря последовательной смене королей, их независимости, ранней (хотя и относительной) централизации власти в их руках. Эти короли в той или иной форме именовались королями французскими. Кроме того, это самосознание очень рано стало озвучиваться в клерикальной среде. В церковных сочинениях французская идентичность первоначально имела религиозный смысл. Впоследствии считаться французом значило осознавать культурную и институциональную уникальность королевского домена. Позднее, при Ришелье, французское самосознание было привязано к понятию государства. Но во все времена оно концентрировалось на персоне короля и основывалось на преданности королю и зависимости от него. Эволюция французской идентичности от религиозной (христианской) до политической (роялистской), лишь с легким налетом религиозности, предполагала пошаговую смену двух самых важных фундаментальных ценностей. (Впоследствии место политической идентичности заняла национальная идентичность.) Христианскую церковь сменил помазан ник Божий – французский король, являвшийся старшим сыном этой церкви, а государство (the state), которое потом стало отождествляться с нацией, в свою очередь, сменило французского короля. Каждый раз новая идентичность образовывалась с помощью старой и обретала значимость по ассоциации с ней. Но при благоприятных обстоятельствах новая идентичность нейтрализовала предыдущую и даже, бывало, разрушала ее. Все три идентичности внутренне связаны друг с другом и постепенно перетекают одна в другую. Они представляют собой как бы набор матрешек, каждая из которых включает в себя предыдущую, при этом уничтожая ее. Здесь важно отметить то, что каждая после дующая «матрешка» придает гораздо больше значения тому, чтобы все предыдущее было включено, чем та, из которой она возникла, и к детским играм это уже отнюдь не имеет отношения.
Развитие донациональной французской идентичности. Франция – церковь и вера в «цветок лилии»
Лишь ближе к середине XVIII в. достигли соглашения о том, как правильно писать слово Franais. Изначально оно писалось Franois и произносилось как franoue а потом france на парижском диалекте. В XVII в. Расин отстаивал форму Franois, столетием позже Д’Аламбер (D’Alembert) считал, что написание «frances» абсолютно точно воспроизводит произношение этого слова, Вольтер же одобрял форму Franais, каковая потом и была принята. Слово Franois, превратившееся потом в Franais, стало значить «француз».
Согласно авторам XVI–XVII вв., произошло это слово от названия «франки». Так именовали себя некоторые германские племена, которые в V в. н. э. заняли территорию Римской Галлии, при мерно соответствующую нынешней Франции. Франкская политическая идентичность предшествовала формированию Франции как домена французских королей в течение нескольких веков. И нельзя сказать, что отношение между этими двумя политическими идентичностями было отношением прямой преемственности. Те, кто позднее выстраивал немецкую идентичность, так же, как и те, кто выстраивал француз скую, могут назвать своим предком Карла Великого. В IX в., после распада империи Каролингов, восточные франки, чьи потомки впоследствии стали немцами, считали, что территория западных франков не имеет исключительного права называться Francia. И только в XI в. название Francia было закреплено за Francia occidentalis, остальная же, в будущем немецкая часть империи Каролингов, перестала связывать себя с французскими чаяниями и французской идентичностью. С другой стороны, столетием позже название употреблялось только для обозначения центральной части домена – Иль-де-Франса, а для всего королевства в целом употреблялось название Francia Tota. Постоянная идентификация наследственного домена определенной династии (т. е. территории, которую эта династия контролирует, и организованной общности polity, которую она представляет) как Francia – Франции, появляется с 1254 г., когда титул Rex Francorum официально был заменен Rex Franciae. Таким образом, король франкский становится королем французским. При этом короли не очень-то представляли себе размер и точные очертания своей территории; так что этот титул не то чтобы недвусмысленно обозначал четко ограниченное территориальное единство, а скорее претендовал на создание образа такового единства и тем самым помогал формировать реальность. Идентичность народа была не более определенной, чем границы населяемой им территории. В те времена, когда королевский титул претерпевал изменения, франками обычно именовали жителей западной части распавшейся империи Каролингов. И это имя они носили в течение нескольких веков. Но эти новые франки в очень большой степени смешались с галлами и с тем же успехом могли именоваться и галлами. Галлы жили на этой территории еще до нашествия германских племен. В дальнейшем теория франкского происхождения французов подвергалась сомнению, и в качестве предков нынешних французов выдвигали галлов. Во времена Великой французской революции идея галльского происхождения французов ненадолго восторжествовала. Восторг был настолько велик, что некоторые особо достойные граждане требовали запретить само имя «Франция», потому что в нем отражено напоминание об иностранном вторжении и последующем иге. В XI в. арабы Святой земли называли франками (franci) всех европейцев. Впервые на национальных языках стала прославлять «милую» Францию литература времен крестовых походов (например, «Песнь о Роланде»). Но Песнь была написана на англонорманском языке, а не на языке Иль-де-Франса, который впоследствии стал французским, и не ясно, о какой же Франции в ней пелось – об Иль-де-Франсе, французском королевстве или о западном христианстве в целом [1].
Объективно говоря, франки французами не были. Но, определяя свои взаимоотношения с двумя великими силами того столетия – папством и Германской империей, династия Капетингов считала свои земли законно доставшимися им в наследство от франков. Капетинги объявляли себя легитимными потомками франкских королей и императоров, наследниками их традиционной функции защиты церкви и папства. Тот факт, что на Востоке Franci олицетворяли христианство, интерпретировался как доказательство исключительного благочестия французов. Само это благочестие считалось предметом специфически французской гордости. В литературе времен крестовых походов, в Gesta Dei per Francos Гибера Ножантского (Guibert de Nogent) и в «Истории Иерусалима» Робера де Муана (Robert de Moine) франки (gens francorum) воплощают собой христианство. Наихристианнейшие франки здесь выступают как «избранный Богом народ», выделяющийся из других народов своей истовой верой и преданностью церкви [2]. В XIII в. Жак де Витри (Jacques de Vitry) повторяет: «Есть много христианских наций, и первая среди них – французы. Они истинные католики» [3]. В конце XIII в. начали публиковаться Grandes chroniques de France. Написанные под патронажем французской короны, они давали официальное определение национальной идентичности, таким образом успешно ее формируя. В них отмечались христианское благочестие французов и их особое место в христианском мире, как отличительные черты королевства французского. По иронии судьбы французское благочестие старше французского христианства: «Mme du temps o ils taient ddis l’idolatrie, ils taient moult observants d’icelle», даже в язычестве французы отличались редким благочестием [4].
В XII и XIII вв. наследственное франкское превосходство в благочестии рассматривалось как неотъемлемая добродетель и французского королевства, и французского короля. Но именно король считался наиболее ярким носителем этой добродетели. По этой при чине французские короли настаивали на своем исключительном праве носить титул «наихристианнейший король» – le roi trs chretien. В те времена Рим раздавал этот титул достаточно произвольно, по мере своей надобности в тех или иных властителях, что являлось своего рода формой взятки. Тем не менее к концу средневековой эпохи французские короли успешно присвоили себе звание «наихристианнейших» и это звание стало частью французского королевского титула. Относительная сила и влияние Франции в политических делах того времени и постоянная угроза со стороны Германской империи, как Франции, так и папству, часто вынуждали Рим искать покровительства у французских королей. Это привело к тому, что Рим принял требования Капетингов и подтвердил их исключительное положение в христианском мире. Папа объявил, что Господь избрал королевство Францию среди всех прочих народов и практически признал божественное происхождение французских королей. В XV в. папский нунций мягко наставлял короля Карла VII: «Ты по наследственному праву глава Христова воинства. Именно на тебя взирают остальные властители с надеждой на спасение всех. И остальные властители это подтвердили. Ты – первый среди чад Господних. Всевышний – на твоей стороне. Его лик обращен к тебе. Его длань благословляет из бранный им народ» [5].
Быть французом в конце Средневековья означало быть особенно ревностным христианином. Хотя практически с самого начала настоятельное требование исключительного положения для французского короля и французского королевства внутри католической церкви вело, пусть и неосознанно, к отделению и даже разрыву с Римом. Французы, в лице своего короля, считали, что раз они – «наихристианнейшие», то Франция имеет право на независимость от папского и имперского вмешательства в их дела, как мирские, так и духовные. Французы – самые истиннейшие католики, что было доказано; а следовательно, они могут общаться с Господом напрямую, минуя его наместника на земле. Папство, в лице Иннокентия III заверило, что в делах мирских никто не имеет власти над королем французским, так же, как и над императором германским. Филипп II Август, однако же, был недоволен тем, что вышесказанное имеет отношение только к нему и германскому императору. Поэтому, когда Иннокентий III вмешался в его распрю с английским королем Иоанном Безземельным, он заявил, что «феодальные споры не папское суть дело». А в дела мирские французская корона Риму и не давала вмешиваться. В конце XIII в. на почве конфликта с папой из-за налоговой политики Филипп IV Красивый полностью запретил иностранное вмешательство во французские дела. Таким образом, он утвердил свой суверенитет и в делах духовных. Юристы того времени писали, что французский король является «императором своих земель» [6]. В следующем столетии они использовали различные аргументы в защиту суверенной свободы своего короля, апеллируя к очевидному значению слова France – свободная. Слово это не могло не отражать сущности таившейся за ним реальности, то есть оно служило доказательством тому, что Франция никогда не подчинялась чужой власти. Новая точка зрения на возрожденный и творчески переосмысленный салический закон гласила, что Франция со времен языческого младенчества жила по собственным за конам. Но самым главным и постоянным аргументом стала религия. В основе своей аргументация восходила к утверждению, что французы – особый народ, избранный для исполнения Божьих заповедей были «святее самого Папы» [7]. Избранность Франции и прямая связь между королевством и Господом воплощались прежде всего и более всего в короле. Из избранного сына единой церкви, король стал центром нового христианского культа, а Франция получила свою отдельную церковь.
Вскоре у этого культа и этой церкви выработался свой ритуал и своя собственная символика. Колетт Боне (Colette Beaune) прослеживает процесс перехода благодати и тем самым сакрализацию французских королей через fleur de lys, изначально являвшийся символом Девы Марии. (Французские монархи особенно ее почитали.) Этот символ стал символом французского королевского дома. Вследствие этого, образ Богоматери накладывался на образ французского короля, и между ними устанавливалась особая связь. На короле лежала печать божественности непорочной девы Марии. Культ Богоматери и культ ко роля были объединены в непорочной лилии, которая в то же время была и королевской, лилия представляла их обоих, и в ней они были тождественны. Считалось, что вся атрибутика, все пред меты, используемые при реймской (le sacre) коронации, в той или иной степени имеют божественное происхождение. Коронация в Реймсе была сакральной по определению. Она еще раз подтверждала прямую связь короля Франции с Иисусом Христом. Это всегда осознавалось при начале нового царствования.
В этом и состояла подоплека Столетней войны, каковая для ее участников имела совершенно иное значение, чем это может по казаться современному наблюдателю. Здесь был скорее конфликт двух религий, а не двух наций. Для сторонников Валуа двое претендентов на французский трон, члены одной династии, различались не по более или менее обоснованным правам на него, если иметь в виду законность их притязаний и династическую преемственность. Нет – они олицетворяли собой силы света и тьмы, истинную веру и ее сатанинское извращение. Именно вера в короля как в воплощение христианства, и только она, позволила иметь столь колоссальное значение «патриотической одержимости» Жанны д’Арк, в то время как многие не слишком преданные ей соратники не видели ничего дурного в том, чтобы жить под властью английской ветви королевской фамилии. Орлеанская дева выполняла особую миссию – она подтверждала коронацию в Реймсе, то есть сакральность короля [8].
Поскольку Бог избрал французский королевский дом предметом личной заботы, то закон о преемственности королевской власти тоже приобретал религиозную значимость. Благодаря тому, что власть была наследственной, толкование этого закона предполагало, по словам Колетт Боне, «политическое обожествление королевской крови». Это артикулировалось одновременно с расширением культа Христовой крови в латинском христианстве в целом. Было совершенно очевидно, что Господь выбрал не отдельную личность, народ или землю, над которой он властвовал, а определенный род, династию. Именно поэтому святость, богоизбранность французских королей передавалась через кровь. Отдельные личности, народ и земля были освящены по ассоциации. При этом кровь можно было передать лишь определенным образом. С XIV в., когда из-за притязаний Плантагенетов был переосмыслен салический закон, женщины уже, к примеру, не являлись членами династии в полном смысле этого слова. Можно было канонизировать отдельных королей (как, скажем, Людовика IX) благодаря их заслугам, но большинство французских монархов считались святыми именно по крови, а не по своим выдающимся достоинствам. Сколько же ушло усилий на то, чтобы выяснить, отчего же эта кровь была столь могущественной. И на французском престоле проблема крови существовала постоянно и бесконечно, хотя и под разными именами франкских королей и императоров из династии Валуа. Кровь должна была быть «чистой» в двух смыслах: ей следовало быть другой консистенции, чем у обычных смертных, и, скорее прозрачной и светящейся, чем темно-красной. Кроме того, она должна была быть безупречно легитимной, освященной таинством церковного брака. Среди французских королей не могло быть бастардов. По этой причине измена или даже подозрение в ней, столь же нередкие у французских королев и принцесс, сколь и у женщин любого другого королевского дома, считалось предательством и святотатством. Политическая и религиозная сферы были слиты воедино. В XIII в. человека, который возводил хулу на короля, обвиняли в богохульстве и в оскорблении святыни. С другой стороны, можно предположить, что множество законодательных актов, запрещающих богохульство и святотатство во времена от Филиппа Августа до Людовика IX, явилось лишь ранней стадией раз вития понятия lse-majest (оскорбление Величества) [9].
Королевская кровь считалась, что очень показательно для наших целей, кровью Франции, как в выражении «На стороне короны была вся кровь Франции, то есть грансиньоры» [10]. Принцы крови (наиболее высокий аристократический ранг) были «принцами Франции». Они являлись членами священного рода и по праву крови участвовали в управлении королевством. Тем не менее принцев крови от управления систематически и успешно отлучали. К XVI в. пышный титул уже мало что значил, принцы попали в ситуацию сильней шей статусной неопределенности и это вызывало у нх открытое не довольство. Широко известен радикализм членов королевской семьи – им отличались даже братья царствующего монарха, которые традиционно участвовали в мятежах. Тот факт, что они были принцами крови, их отнюдь не удерживал, а наоборот подстегивал, поскольку на королевской крови лежало табу и проливать ее было нельзя. Поэтому в то время как их соратников часто изощренно пытали и жесточайшим об разом казнили, принцы отделывались сравнительно легко [11]. Они представляли собой постоянную и яркую оппозиционную группу, противостоящую расширяющейся централизованной (абсолютной) власти короля, и естественно становились вождями более широкой оппозиции.
Поскольку французская королевская династия была сакрализована, то служба и верность королю непременно приобретали религиозный смысл. Смысл состоял в христианском благочестии. Французское общество объединял и создавал культ, а, следовательно, церковь. В силу того, что это была своего рода христианская церковь, король, выдвигавший и формулировавший свои требования по части верноподданичества, опирался на западно-христианскую традицию. Словесная демонстрация специфически французской преданности королю существовала во Франции еще с XIV в., и в практически неизмененном виде перешла во французский патриотизм. Те же выражения, только менее цветистые и более церковные, использовались при традиционной демонстрации христианского благочестия. Французской монархии придавался религиозный смысл, поэтому защита короля (defenso regni) имуществом или жизнью и служба королю приравнивались к служению Богу. Кроме того, и гораздо более определенно, чем в других странах, это была форма религиозной практики в соответствии с принципами христианского альтруизма – служение Господу через служение Его избранникам.
Средневековый amor patriae – патриотизм был в основе своей христианским чувством в обоих вариантах – и когда patria осмыслялась как «рай», и когда это относилось к месту рождения. В Средние века patria только в редчайших случаях обозначала государство, королевство в целом. На военную службу, в частности, смотрели как на продолжение крестовых походов. Умереть за свою страну – считалось делом святым и благочестивым. Особенно это подчеркивалось в эпоху Столетней войны. Земная patria, была освящена по религиозной ассоциации и впоследствии могла стать и стала королевством и источником сакральности сама по себе.
В отношении папства и Германской империи короли проводили постоянную политику. Эта политика в сочетании с тем, что корона поощряла расширение культа короля и одобряла участие в этом культе, создавала из Франции отдельное, уникальное единство. Она послужила толчком к зарождению специфически французской идентичности – осознания своей принадлежности к данному единству и принятия его характеристик – и специфически французской преданности, патриотизма – верности данному единству. Изначально религиозная по существу и олицетворяемая королем и королевским родом, Франция постепенно приобретала иные культурные и институциональные черты и становилась образом, самостоятельным образованием, чье существование, хотя и смешавшееся с существованием короля и королевского рода, тем не менее полностью с ним не идентифицировалось.
Наиболее важными отличительными характеристиками французов, наряду с их суперблагочестием, были французский язык, французское превосходство в учености и в литературе, французское право и строй французского общества. Выбор этих характеристик был неслучаен и не являлся результатом простого эмпирического наблюдения. Начать с того, что некоторые из них уж точно не были характеристиками ни территории, ни населения. Но поскольку часть этих характеристик, а именно закон и структура (общественный строй), не могла относиться исключительно к личности короля, то неизбежно их выразителями становились земля и народ. Все эти черты, однако, находились внутри широкого спектра признаков французской специфичности, но именно они были одобрены, отобраны из этого спектра и творчески переосмыслены, ибо они были сильными или потенциально сильными сторонами французской культуры и могли быть использованы во взаимоотношениях Франции с другими державами.
Язык
Уже в XIII в. гордость французским языком имела словесное выражение. По мнению авторов этого периода, французский был «самым красивым языком в мире», «сладчайшим», la plus dli table ouir et entendre – «наиболее приятным для голоса и слуха». «Сладкий французский язык, – самозабвенно заливались они, – суть самый красивый, изящный и благородный язык в мире. Его больше всех любят, и ему легче всего научиться. Ибо сам Господь сделал его столь сладким для прославления Имени Своего и хвалы. Он сравним только с тем языком, на котором ангелы говорят в раю». Бедность этого языка, которую признавали тогдашние переводчики, бывшие в числе его главных апологетов, привела к тому, что они стали вводить в него многочисленные латинизмы. Но это ничуть не умерило пыл патриотов от языкознания. Оды французскому языку продолжали появляться – иногда на латыни – как в случае Жеана де Монтрейля (Jean de Montreuil), который полагал, что превосходство французского над другими европейскими языками, в особенности над английским и немецким, заключается в его чистоте и оригинальности. Французский, по его мнению, не испытал чужеродного влияния, которое испоганило упоминаемые выше языки, поэтому он в совершенно определенном и достаточно забавном смысле отличался от немецкого и воспринимался как Ур-язык.
Энтузиастов не смущал и тот факт, что воспеваемый ими французский не был языком Франции. На нем говорили в Париже. Это был «парижский французский», по происхождению являвшийся франкским языком, на котором говорили во Francie и на землях между Соммой и Луарой. В X–XI вв. эти земли составляли домен графов Парижских – родоначальников Капетингов. На нем не говорили и длительное время не писали во всей остальной Франции. В XI и XII вв. письменность, согласно Сюзанне Ситрон (Suzanne Citron), была в основном на англо-норманском. А с XIII по XV вв. авторы писали, соответственно, на Пикардийском, Шампанском или Бургундском, в зависимости от провинции и от их родного диалекта.
В то же самое время, начиная с XII столетия, парижский французский становится международным языком высших классов, что и позволяет некоторым авторам сделать вывод, что он был всеобщим языком (commune totes gens). Уже в 1148 г. тот, кто не знал французского, считался варваром. Французский был языком Восточного государства крестоносцев, а в XIII в. на нем говорили при дворах Англии, Германии и Фландрии. Он также стал литературной нормой для многих писателей, живших за пределами Франции. Колетт Боне называет Брунетто Латини (Brunetto Latini), Мартино да Канале (Martino da Canale), Марко Поло (Marco Polo), Филиппа де Новаре (Philippe de Novare) – итальянцев, которые писали на французском.
Однако став языком высших классов, парижский французский вступил в соревнование с латынью – языком священных текстов. В течение длительного времени латынь также оставалась языком науки и права и нормой вежливого дискурса. В 1444 г. Жеан Д’Арманьяк (Jean d’ Armagnac) предпочел вести переговоры с англичанами на латыни, признаваясь, что он «недостаточно владеет французским языком, особенно письменной речью». Ренессанс внес свой вклад в повышение престижа и оценки латыни, так что к окончанию Средневековья вряд ли кто сомневался в том, что никакой другой язык ее не заменит.
Языковая политика короны была недостаточно последователь ной. В то время как Филипп Красивый на севере Франции сделал французский языком официальных документов, на юге чиновники все еще использовали латынь. И только через 200 лет, указом Виллье-Коттре (1539) при короле Франциске I, французский стал языком всех официальных мероприятий. И еще одно столетие потребовалось для того, чтобы Людовик XIII Бурбон в кодексе Мишо 1629 г. декретировал обязательное использование французского при регистрации крещений, браков и похорон.
Во времена Средневековья население Франции говорило по крайней мере на пяти языках (лангедойском, лангедокском, баскском, бретонском и фамандском). У некоторых из этих языков существо вали достаточно значимые диалекты. Парадоксально, но отсутствие языковой общности, а именно собственно французского языка, было скорее предметом гордости патриотов от языкознания. Данного факта они совершенно не стыдились, считая, что он ярко свидетельствует о внушительной величине королевства, которое столь выгодно отличалось от смехотворно малюсенькой Англии с ее всего лишь одним языком [12]. Тем не менее подобное положение ничуть не помешало тому, что парижский французский представляли и называли всеобщим французским языком. А с XIV в. в атмосфере растущего уважения к «родным языкам» он стал объектом пылкой любви ученых и литераторов – людей, которые создавали символы коллективной идентичности. В результате язык стал центральным символом французской идентичности и в конце концов объективной характеристикой французского этноса.
Translatio Studii
Убеждение во французском культурном превосходстве тоже, очевидно, зародилось в умах кучки ученых мечтателей. Зиждилось оно на статусе Парижского университета в средневековом ученом и литературном мире и на понятии «Translatio studii». Парижские школы, которые числились среди наиболее знаменитых теологических центров Запада, в начале XIII в. объединились в университет. Преподавание велось на латыни, а студентов и профессоров набирали изо всех угол ков западного христианского мира. Университет был очень популярен, многие выпускники его стали потом принадлежать к высшему духовенству, как родному, так и иностранному. И выпускники разносили славу своей Alma Mater по всему миру. Понятие Translatio studii, то есть перенос обучения из центров классической античности в Париж, отражало главенствующую позицию Университета в respublica Christiana. Париж становился прямым наследником Афин и Рима, подразумевалось, что он стал новыми Афинами и Римом. Но, будучи наследником Рима и Эллады, Париж все же принадлежал другой культуре. Сильной стороной Парижа была, скорее, теология, а не философия и математика – как в Афинах, или право – где блистал Рим. Упор на богословие как на главную мощь Парижского университета еще более усилил коллективное самовосприятие Франции в качестве оплота наивысшего христианского благочестия. Университет отражал суть королевства, в котором он был возведен. Но одновременно возникла и другая тенденция – в связи с растущим напряжением между Францией и папством ученые стали считать университет и, соответственно, самих себя средоточием мудрости, которая была скорее христианской во французском варианте, чем общехристианской. До конца XIII в. они были полностью преданы королю и университету, который называли fille du roi – «дочь короля». Понятие translatio studii приобрело новый важный смысл. Оно уже не означало, что процесс обучения перешел в христианское учреждение – Парижский университет, каковому повезло стать наследником почитаемой, но языческой античности, скорее, произошла смена культурного лидерства – от Греции и Рима эстафету приняла Франция. Но вместе с тем, определение французской культуры как культуры преимущественно теологической тоже изменилось. Итальянские гуманисты оспаривали мнение, что культура – это прежде всего религия и обучение теологии. На первое место они ставили поэзию и риторику. Парижские академики смотрели на ученый и литературный мир глазами итальянских гуманистов и жаждали доказать, что и в сферах мирских Франция тоже находится на высоте, а то еще и повыше иных-прочих. В XIV в. светская литература существовала лишь в зачатке. Соревнование скорее подстегивало, чем обескураживало французских интеллектуалов. Действительно, тогда мало было собственных гениев, способных сравниться с Данте и Петраркой. Но на этой едва занимающейся заре современности мечта о культурном превосходстве приобретала характер уже свершившегося дела.
Салический закон
Язык и лидерство в литературе, бывшие предметом донациональной гордости французов, остались предметом уже национальной французской гордости вплоть до наших дней, правда, в изменен ном виде. Две остальные отличительные французские черты – салический закон и государственная конституция свое значение в основном утратили. Салическая правда (салический закон) – один из многочисленных германских за конов, был принят в начале VI века. Он приобрел исключительную важность в Столетнюю войну. Его знали, но вспоминали о нем редко, пока к власти не пришел Карл V. Тогда, в поисках за конного обоснования незаконности притязаний английских Плантагенетов на французский трон, его вспомнили и представили в качестве доказательства их беззакония. Случай был довольно сомнительный. В оригинале закон прямо не лишал прав на наследование лиц женского пола, и было неясно, относился ли он вообще к членам королевского рода. Но монархии, которая имела намерение доказать свою традиционную независимость от вмешательства других сил, и все больше при защите своих позиций полагавшейся на юристов, кое-какие вещи в этом законе были очень привлекательны. Во-первых, его древнее происхождение во времена Фарамонда I Меровинга, родоначальника французских монархов. Принят он был при язычниках и без всякого влияния Рима. Это убедительно доказывало юридическую независимость и зрелость королевства с самого его основания. Юристы обожали этот закон, потому что им хотелось в нем видеть лестное для них указание на то, что во Франции рано существовал Parlement, поскольку считалось, что Фарамонд, составляя его, пользовался советами некой группы мудрецов. В XV в. переосмысленный салический закон стали считать самым важным законом королевства, залогом династической преемственности и легитимным обоснованием божественного происхождения французских королей. Это неизмеримо подняло его значение. Защищать салический закон значило «сражаться за свою родину, как римский солдат» – классическое выражение классического патриотизма [13].
Образ Франции
Кроме новой интерпретации салического закона, ученые-схоласты XV в. размышляли также над неповторимостью и превосходством французского общественного устройства (politia nostra) [14]. Члены этого общества: король, парламент, 12 пэров и три сословия трудились в согласии под властью закона во славу Господа и на общее благо. Земля французских королей, чьи обитатели были объединены общим поклонением королю, у некоторых из них стала вызывать восхищение сама по себе. Чем же можно было восхищаться? Замечательные качества земли были сначала сакрализованы по ассоциации с наихристианнейшими королями, но когда она уже про шла сакрализацию, эти качества стали самостоятельным объектом обожания и поклонения. Франция как некое единство, как страна, как общество, рано стала предметом нежного и глубокого чувства, хотя и очень немногими испытываемого. Свою любовь к Франции поэты XII в. выражали в чудесных песнях (chansons de geste). Один из них вопрошал, как мог Христос избрать своим пристанищем пустыню Святой земли, когда у него был выбор между нею и Францией:
- Merveille moi de Dieu le fil sainte Marie
- Qui chi hebergea en ceste desertie…
- Miex aim d’el borc d’Arras la grant castelerie
- Et d’Aire et de saint Pol la grant caroierie
- Et de mes biaus viviers la riche pesherie
- Que tote ceste terre…
Францию воображали и некой личностью – сначала это был только голос (Ouadrilogue invectif) Алэна Шартье (Alain Chartier)) – а потом она стала красивой женщиной, Dame France, белокурой принцессой в одеянии, изукрашенном fleur de lys. В начале XIV в. Францию изображали в образе сада, земного рая, le jardin de France. Этот образ был секуляризован в XV в., или можно сказать, что изменилась сущность его сакральности. Он стал символом необыкновенной красоты и изобилия французских земель. «Франция – украшение всей земли, – писал в 1483 г. канцлер Жеан Машлен (Jean Masselin). – Никакие другие страны не сравнятся с красотой нашей страны, плодородием ее почв, с ее животворным воздухом» [15].
Итак, для ученого, юриста, новоиспеченного аристократа быть французом в XV в. значило уже больше, чем просто быть подданным «наихристианнейшего» французского короля и выполнять религиозные требования, подразумеваемые данной идентичностью. Быть французом значило еще и говорить или писать по-французски или, по крайней мере, высоко ценить этот язык, следовать культурным античным традициям, уважать салический закон и гордиться устройством общества, на нем основанном. Привязанность к французской земле, чье совершенство должен был осознавать каждый еще до того, как передвигаться по ней стало удобно и доступно, была скорее воображаемой. Тем не менее ключевой фигурой, источником французской идентичности оставался король, высший жрец уникального религиозного культа. Человек становился французом через свое отношение к «наихристианнейшему» королю. Даже если человек идентифицировал себя с территорией, территория рассматривалась как нечто, принадлежащее короне, а корона имела специфически религиозное значение. Ничто французское не могло тогда существовать вне этого отношения. Таким образом, это не было национальной идентичностью. В XVI в. ситуация начала меняться.
Ересь и ее дитя. Традиция и новаторство во французском патриотизме XVI в.
К началу нового века традиция выкристаллизовалась окончательно. В первой его половине, казалось, все служило на пользу развивающемуся чувству французской идентичности. Ею гордились. Она артикулировалась все более ясно и отчетливо. Существующее чувство потребовало адекватного ему словаря. В Средние века латинское слово patria потеряло свое дополнительное значение главного объекта гражданской преданности и гордости, которое оно имело в классической системе ценностей. В этом благородном значении его использовали только в отношении благословенного царства Господня. Во всех остальных случаях оно в прямом смысле обозначало место рождения – pays natal. Слово patria употреблялось часто, и в связи с тем, что французский язык получил более широкое распространение, оно офранцузилось и стало писаться patrie [16]. В первой половине XVI в. – еще один пример из Ренессанса – patrie сохраняла все свои классические коннотации. Обозначая общность в целом, она снова служила референтом самых благородных чувств, и в этом смысле это слово использовалось уже в двадцатых годах XVI века. В сороковых годах оно стало постоянным элементом дискурса. Служить родине (patrie) считалось в высшей степени почетным и похвальным делом. Пьер де Ронсар (Ronsard) утверждал, что «человек должен отдать все – даже саму жизнь, если patrie потребуется его помощь и поддержка». Жоашен дю Белле, сочиняя свою Deffence et illustration de la langue franoyse (1549), считал, что «этот труд – (его) долг перед Родиной, и что подвигла его на эту работу естественная любовь к patrie» [17]. Из-за латинского происхождения и, очевидно, заимствованной природы новые ценности некоторым людям пришлись не по вкусу. Шарль Фонтен (Charles Fontaine) около 1550 г. ругал дю Белле: «Тот, у кого есть собственная страна (pays) никогда не будет иметь ничего общего с patrie. Само слово pays пришло к нам из Греции, и все поэты древней Франции использовали его в этом значении. Слово же patrie пришло к нам кривыми путями, появилось сравнительно не давно, как и все прочие итальянские мерзости. Древние отказывались пользоваться этим словом, опасаясь латинских происков, и довольствовались тем, что уж точно было своим собственным» [18]. Но адепты patrie (дю Белле в том числе) так же защищали независимость и престиж французской культуры, как и их противники. Главная задача их трудов состояла в том, чтобы убедить и самих себя, и весь остальной мир, что французская культура, по крайней мере, равна античной и тогдашней итальянской (которая была прямой наследницей античности). А итальянская культура в то время убедительно доказывала свое превосходство.
Патриотизм первой половины XVI в. был менее революционным по своему словарю, чем это могло бы показаться. Во-первых, преданность и служение patrie были очень тесно связаны (фактически идентичны) с верностью монарху. В текстах они часто оказываются рядом, даже в одном предложении, и служба властителю обычно упоминается первой. Во-вторых, защищая честь французской patrie, авторы подчеркивают традиционные достоинства «наихристианнейшего королевства». Таким образом, новая реальность в ренессансном дискурсе никак не проявляется. Восприятие реальности слегка изменилось – это, несомненно, чувствовалось, но это чувство не имело выражения и осознавалось достаточно смутно. Изменение состояло в том, что любовь к родине предполагала деперсонализацию традиционной верности, кроме того, верность переставала быть христианской.
Наихристианнейшие французские монархи, старшие сыны католической церкви, медленно, но верно освобождались от ее материнской заботы. Узы, которые их связывали с так сказать respublica Christiana, если ее можно представить как нечто другое, нежели чем свободную федерацию отдельных государств, постепенно слабели. В 1516 г. Болонский конкордат фактически, хотя и неофициально, сделал короля Франции главой галльской церкви. Целеустремленные Валуа не только получили независимость от внешнего вмешательства, но и во внутренних делах королевства они добились неограниченной власти, лишив своих подданных-феодалов того, что они (феодалы) считали своими конституционными правами. Военные и экономические начинания двух монархов из ангулемской ветви (Франциска I и Генриха II) потребовали огромной реорганизации административного аппарата. Количество профессиональных чиновников резко выросло. Управление во Франции и так было централизовано в течение достаточно длительного времени. Теперь же централизация увеличилась до предела, и способность могущественных аристократических родов влиять на формирование королевской политики свелась почти к нулю.
В процессе реорганизации понятие the state – государство (tat) начало приобретать свой современный смысл. Изначально оно про изошло от слова estate в значении сословия. Король представлял со бой первое сословие в структуре французского общества, согласно юридической конституционной мысли того периода, запечатленной, возможно, в Grande monarchie Клода де Сешеля (Claude de Seyssel) [19]. Каждая земля была субъектом права, и поскольку правом короля, королевской прерогативой, было право власти, понятие the state (государство), употребляемое по ассоциации с королем, также символизировало власть или систему власти. Слово было использовано в 1595 г. как полный синоним того, что Макс Вебер называет системой легитимного принуждения. Его употребил Пьер Шаррон (Charron), который, как и Вебер, видел в организации властных отношений главную составляющую любого общества. «The state (l’tat) как принуждение, особый порядок приказа и подчинения есть опора, суть и душа всякого человека. Это бессмертный дух, который вселяет в людей жизненную силу и одушевляет мертвые вещи» [20]. Королевский совет теперь стал называться conseil d’tat, а четыре secrtaires du roi при Генрихе II получили звания secretaries d’tat. Возможно, таким образом, подчеркивался абстрактный аспект королевской власти. Благодаря этому, а также по ассоциации с королем, the state получило значение the government (управление) и the sphere of politics (сферы политики) [21].
Профессиональные чиновники постепенно заменяли в управлении «старую» знать. Екатерина Медичи, которая правила государством, пока ее сыновья были несовершеннолетними, больше полагалась на чиновников, чем на вельмож. Она учредила должность суперинтенданта финансов и интендантов по провинциям. Это служило беспрецедентным источником раздражения для старой аристократии. Продажа должностей и аристократических титулов, начавшаяся при Франциске I, также подрывала статус знати. Аристократия укреплялась каким-то образом за счет притока novi homines (новых людей, выскочек), но старая знать видела в этом оскорбление для себя, что и служило главной при чиной недовольства. Аристократы считали, и не без оснований, что увеличение численности высшей знати в результате того, что король поощрял проникновение низкородных чиновников и богачей в их аристократическую среду, связано с концентрацией власти в руках у ко роля. И они противилисьэтому так же, как отвергали богачей и чиновников.
Между 1494 и 1559 гг. большая часть провинциальной знати участвовала в войнах с Италией. Служба в армии была не только благородным делом, для многих она еще была и экономической необходимостью. Заключение мира лишило их важного источника дохода, и они пополнили ряды недовольных. К 1560 г. недовольство стало всеобщим. На собрании Генеральных Штатов и в этом, и в последующем году и аристократия, и третье сословие озвучили свои чувства и объявили корону причиной своих несчастий. Оппозиция осмелела. Генрих II умер в 1559 г., оставив управление страной на малолетнего Франциска II, который через год тоже скончался. Трон достался другому ребенку – Карлу IX. В этих обстоятельствах смелость не была особо рискованным делом. Не выдержав умелой дипломатии королевы-матери Екатерины Медичи, а воз можно, благодаря ей, власть неожиданно стала предметом, открытым для посягательств.
Монархия находилась в кризисе. И кризис еще более обострился в связи с быстро изменяющейся религиозной ситуацией. Недовольство испытывали широкие круги французского общества и это за ставило их обратиться к протестантизму. К различным слоям городского населения – главному оплоту гугенотов после мирного договора Като-Камбрези (1559) – примкнула значительная часть аристократии. К 1562 г. во Франции насчитывалось 2000 кальвинистских церквей. Распространение кальвинизма давало другой группе не довольных законную мишень для нападок, кальвинистов можно было обвинить во всех своих несчастьях и выместить на них свою злость. Уже в шестидесятые годы XVI в. появляются местные католические лиги, а в 1576 г. они объединились в Священную Католическую Лигу. Во главе ее встали герцоги Гизы. Недовольство, спровоцированное централистской политикой короны и увеличивающимися экономическими трудностями значительных слоев населения, вылилось в религиозный конфликт. Во всяком случае, лидеры обеих партий сожалели о добром старом феодализме, но вместо того чтобы открыто нападать на монархию, которая все еще была неприкасаемой, они ввязались в жесточайшую гражданскую войну. Она продолжалась почти 40 лет (1562–1598), и обе стороны заявляли, что они защищают истинные интересы короля от дурных советников, шумно требуя, чтобы на троне сидел законный наследник. Вокруг этой ситуации действительно возникло много шума, поскольку здесь были все более за мешаны сложные и тонкие обстоятельства, связанные с природой французской идентичности. Двое из троих последних, немощных Валуа умерли один за другим, а третьего убили бездетным, но он успел назвать своим преемником вождя гугенотов и своего дальнего родственника Генриха Наваррского. Как было поступить? Назвать ли королем Франции француза, действительно истинного наследника трона по легитимной линии, согласно салическому закону, но не католика, или отдать этот трон иностранцу, верному священной религии наихристианнейшего королевства? Реформация, имевшая широкий отклик во Франции, хотя и способствовавшая усилению французского католицизма, нанесла непоправимый ущерб католическому самовосприятию страны. Французский католицизм с течением времени становился все более идиосинкратическим, и короли, носящие титул Rex Cristianissimus, делали все от них зависящее, чтобы отделиться от всеобщей церкви и ее Римского главы. Но эта настойчивая декатолизация никогда не проявлялась явно. Скорее уж Папу обвиняли в недостатке истинной веры. Французский католицизм был безупречным по определению. Говорилось, что французы никогда не знали, что такое ересь. Теперь же им это было даже слишком хорошо известно. Когда новое учение в 1519 г. впервые достигло Франции, наихристианнейший король Франциск Первый довольно лениво поиграл своими католическими мускулами. В 1521 г. он запретил публикацию лютеранских текстов, но битвы Рима он своими не считал. Однако позднее, когда ситуация, казалось, стала выходить из-под контроля и антикатолические прокламации стали предметом огорчения для граждан Парижа, он начал преследовать протестантов всерьез. Генрих II продолжил высокомерную политику своего отца. Два этих сильных короля не могли себе представить и, собственно, никогда и не испытали на деле бунт против своей власти, поэтому они считали, что им достаточно просто рассказать своим подданным, в чем состоит этих подданных, истинная идентичность. Вдова Генриха II Екатерина Медичи уже так не считала. Она сознавала слабость и свою, и своих несовершеннолетних сыновей. Королева-мать благоразумно ослабила гонения на гугенотов. Как бы ни было огорчительно для почитателей Дюма расставаться с неотразимым образом королевы-отравительницы, вдохновительницы резни Варфоломеевской ночи, следует отметить, что в ее царствование гугенотам делались систематические уступки. Корона вообще не симпатизировала католической реакции, и последний Валуа, бессильный, увы, по воле самой судьбы, столь во многих отношениях, распустил Лигу в напрасной попытке уничтожить ее влияние.
Внушительное меньшинство подданных Франции во всех социальных слоях было еретиками. Это, как сказал бы Оливер Кромвель, было «уже хорошо» Но, тем не менее они были французскими подданными. И, таким образом, во второй половине XVI в. прежде центральный – религиозный – элемент во французской идентичности стал систематически принижаться гугенотами, короной, галльскими католиками и politiques; только Лига, единственная, усиливала свой католицизм за счет французскости. Французскость противостоящих сторон подчеркивалась, и к ней взывали, невзирая на расхождения в вере. «Французы не должны относиться к другим французам так, как будто они не французы, а турки, – умоляла королева-мать, итальянка. – Между ними должна быть братская любовь и согласие». Генрих III, который после смерти брата срочно вернулся из Польши, где был королем, чтобы предотвратить вполне возможную узурпацию трона, объявил: «Я пришел к вам с распростертыми объятиями. Я принимаю под свое крыло всех своих подданных без исключения». В 1589 г. вождь гугенотов Генрих Наваррский взывал к нему: «Во имя всех я молю о мире Повелителя моего Короля, о мире для меня, для французов и для Франции». Уже, будучи королем Генрихом IV, приняв католичество из соображений политической благонадежности, согласившись, что «Париж стоит мессы», он сказал своему народу: «Я взываю к вам как к французам. Я не разделяю ничьих пристрастий. Я не слепой и все ясно вижу. Я хочу, чтобы все верующие в моем королевстве жили в мире, независимо от своей веры, пока они верно служат мне и французской короне. Все мы французы и граждане одной и той же страны» [22]. Таким образом, французская идентичность была определена заново. Но это был результат дефолта, поскольку из нее был вынут центральный элемент. И тем не менее она была определена не до конца, поскольку было непонятно, что же займет его место.
Франция – мать
Католические politiques считали, что положение, в которое попало Лига – абсурдно. Dialogue du maheustre et du manant, вышедший в 1593 г., представлял сложившуюся ситуацию верхом бессмысленности: «Если Богу будет угодно дать нам короля-француза – да будет так; если Лоррена – да будет так; если – испанца – да будет так. Лишь бы он был истинным католиком и посланцем Господа, тогда нам будет безразлично, к какой нации он принадлежит. Нас не волнует нация, нас волнует религия» [23]. Для politiques, так же, как и для многих других, вопрос о «нации» имел решающее значение, к религии же они относились все более индифферентно. Под нацией понималась общность по месту рождения. Франция определялась как источник этой общности, и в этом качестве она и была предметом обожания патриотов. Они персонифицировали ее в виде женщины и матери с истерзанным телом и душой, израненной религиозными распрями ее детей, детей, которых она породила в буквальном смысле этого слова. Авторы-современники постоянно изображали Францию как кормящую мать.
- France, mre des arts, des armes et des loix
- Tu m’as nourry long temps du laict de ta mamelle,[24]
- Франция, мать искусств, военного дела и законов
- Ты долго вскармливала меня мооком своей груди.
Забота патриотов о Франции прямо вытекала из их сыновнего к ней отношения. Жерар Франсуа (Grard Franois), врач Генриха IV (в этом контексте название его книги De la maladie du grands corps de la France («Болезнь великого тела Франции») выглядит до вольно забавно), писал в посвящении королю: «Сир, поскольку Господь сделал меня и по имени и по рождению истинным французом (vrai Franois) и, следовательно, преданнейшим защитником блага моей patrie, находящейся сейчас в столь тяжком положении, то я предлагаю ей свою всемерную заботу и поддержку, каковую каждый сын должен естественно оказывать своей матери» [25].
Этот вид патриотизма, парадоксально принявший форму сыновнего обожания, явился в какой-то степени результатом религиозных войн. Он имеет мало общего с национализмом – по определению, данному ему в настоящей книге. Франция – верная дочь католической церкви, становилась матерью своему народу, но отнюдь не the nation (нацией). Окончательная трансформация идентичности произойдет двумя столетиями позже, но в каком-то смысле XVI в. ее предвосхитил.
Доктрины народного сопротивления
Религиозный конфликт послужил почвой для развития конституционных, религиозных учений с явственно националистическим оттенком. Хотя создатели этих учений не дошли до выводов, позволяющих назвать эти доктрины полностью национальными, однако они продвинулись в том, чтобы определить Францию как суверенную коллективную общность. Авторы-гугеноты в основном разрабатывали апологию борьбы с правящим монархом. В эту борьбу гугеноты были насильственно ввергнуты. Кальвинизм предписывал своим последователям пассивное неподчинение неправедным властителям и даже раз решал сопротивляться низшим чиновникам (магистратам) [26]. Важно то, что аргументы, выдвигаемые авторами-гугенотами, носили скорее конституционный, чем теологический характер. Основания для законной оппозиции, подчеркивали они, коренятся в конституции французского королевства, а не собственно в неправедной власти. В двух наиболее важных работах этого рода, «Франкогаллии» Франсуа Отмана (Hotman) и в Vindiciae contra tyrannos, приписываемой Дюплес-си-Морне (Duplessis-Mornay), доказывалось, что общность наделена суверенной властью и неотчуждаемым правом бороться с неправедным властелином, этой власти не признающим или не выказывающим к ней уважения [27]. Отман использовал исторический подход. Он реконструировал древнюю конституцию королевства и пришел к следующим выводам: королевская власть во Франции была делегирована короне свободным сообществом франков и галлов, которые вместе выбирали короля. Преемственность регулировалась обычаями. (Отман не считал, что салический закон в то время так уж много значил). И таким образом, она всегда была предметом негласного соглашения и, в определенном смысле, власть была наследственно-выборной. Народ никогда не отказывался от своей верховной власти или от права контролировать властителя. Этот контроль в древние времена осуществлялся государственным советом (королем, чиновниками, аристократией и народом, которые представляли общность в целом). То есть, французское государство (polity) по природе своей изначально строилось как ограниченная монархия, и притязания короля на абсолютную власть, были ничем иным, как узурпацией. По этому борьба с властителем-автократом, вполне соответствовала за конам французского государственного устройства. Автократ навязывал свою волю народу без его (народного) согласия – для гугенотов это было очень важно. Король для них не являлся необходимым элементом общности. Отман настаивал в манере, сильно напоминающей Джона Пойнета, что «народ может существовать и без короля, в то время как короля без народа даже и представить себе невозможно» [28]. Но между автором «Франкогаллии» и его английским современником были фундаментальные различия. Отман приписывал общности функцию короля и Бога. Для него она была не сообществом живущих индивидуумов, а живым организмом, обладающим собственной волей и духом. Дух этот воплощался и выказывался в конструктивной решимости этого живого организма. Состояние этого существа отражало его при роду, и поэтому его надо было ревностно сохранять, если не по форме, то по содержанию, невзирая на воли личностей, его составляющих. Для самого организма эти личности были не более чем случайны.
Дюплесси-Морне также рассматривал строение данного общества. Он считал, что правление без добровольного согласия (особенно в делах религиозных) является предательством по отношению к религии. Он постулировал существование двойного договора – во-первых, между Господом, с одной стороны, и королем и народом, с другой стороны. В этом договоре подтверждалась божественная санкционированность королевской власти. Во-вторых, был договор между королем и народом, который должен быть осуществлен в виде праведного правления, то есть правления в соответствии с конституционными правами на рода, и это было условием королевской власти. Дюплесси-Морне подошел ближе к той мысли, что каждый подданный имеет право противостоять не праведной и несправедливой власти, но на этом и остановился. Он считал, что правом противостоять тирании и контролировать ее должны быть наделены магистраты, а не Генеральные Штаты, но право это все же принадлежало магистратам как официальным чиновникам, которые олицетворяют законы данной общности, то есть у отдельных личностей такого права скорее не было. Только общность, или корпоративные организации, из которых она состояла, могла восставать против высшей власти, на которую она (общность) коллективно согласилась. Право же отдельных личностей на протест означало для него анархию или даже худшее зло. Если признать за отдельными личностями такое право, то «воспоследуют неисчислимые беды, более ужасные даже, чем сама тирания. И под предлогом свержения тирании на месте одного тирана поднимется тысяча других» [29]. В общем одного лишь протестантизма не хватало, чтобы взрастить уважение к личности.
Божественное право королей
После смерти герцога Алансонского в 1584 г. – еще одного из трех несчастных братьев Валуа – гугенот Генрих Наваррский стал очевидным наследником французского престола. Положение гугенотов изменилось, и с тех пор они занимались тем, что доказывали легитимность Генриха как короля. Тогда же и по тем же причинам, изменилась ситуация и для сторонников Лиги. Они ощущали себя в опасности из-за того, что ими правит еретик. Поэтому Лига взяла на свое вооружение доктрину народного сопротивления неправедной (безбожной) власти в тот самый момент, когда гугеноты от нее отказались. Но ультрамонтанистские связи и предпочтения Лиги, так же как популистская и откровенно демагогическая тактика ее вождей, оттолкнули от себя скромных католиков, в большинстве своем принадлежащих к галльской католической церкви [30]. В итоге оказалось, что Лига опять в одиночестве борется за проигранное дело. В конце XVI в. Франции было ни до чего, хоть сколько-нибудь напоминающего популизм. Ни о каком сопротивлении страна даже и не помышляла. Тем не менее идея, которая пришла на смену этим подрывным доктринам, идея, доминировавшая во французской политической мысли в течение следующих полутора столетий и внешне прямо противоположная каким-либо популистским теориям, – эта идея парадок сальным образом тоже мостила путь французской идентичности. Она заключалась в божественном праве королей.
Толчком к возникновению теории Божественного права по служил опыт религиозных войн, и в результате она сложилась в стройную и морально непротиворечивую систему, некоторые элементы ко торой развивались самостоятельно, но тоже как-то соотносились или, по крайней мере, были усилены этим опытом. Популистская тактика Лиги и внушительная демонстрация народного аппетита относительно свободы определенного толка убедили многих дворян в необходимости иметь сильное правительство. Politiques, соглашаясь, в общем, с гугенотскими теоретиками сопротивления, питали все большее и большее нерасположение к «народу», который, «как бешеный и дикий зверь хотел сбросить с себя путы королевской власти и заменить их Бог знает какой воображаемй свободой, каковая, к их полному смятению и ужасу, обернулась тиранией более жестокой и варварской, чем та, которую испытывали на себе несчастные рабы у язычников» [31]. Не последним результатом опыта встречи с популистскими намерениями, опыта, полученного из первых рук, и возникшего в результате отвращения к нему, было вновь возросшее уважение к образованному интеллекту и дисциплине во всех ее проявлениях. Еще одним прямым политическим результатом стало желание иметь короля, «который на ведет порядок» [32].
Впервые, свою четкую формулировку теория Божественного права получила в L’autorit du roi, написанной Пьером Беллуа (Pierre du Belloy) в 1588 г. Он писал эту книгу, основываясь на галльской убежденности в единовластии короля, когда тот боролся с Папой; кроме того, эту мысль развивал Бодин (Bodin) в своей теории единовластия, которое дается прямой Божественной санкцией. Жажда сильного – авторитарного – правительства, представлялась, таким образом, делом и очень разумным, и высоко моральным, ибо она согласовывалась с политической теорией. Помимо этого, в ней выказывалось изумительное послушание божественному порядку вещей. Король, который получал власть непосредственно от Всевышнего, был подотчетен исключительно ему же, любое сопротивление становилось теоретически неправедным, ибо легитимный властитель был праведен по определению. У подданных не оставалось никаких прав – они могли только подчиняться. Между 1596–1598 гг. эти мысли в своей упрощенной форме можно было прочесть в листках, издаваемых памфлетистами. «Совершенно очевидно, и, вне всякого сомнения, – писал один из них, – что вся власть дается свыше и противостоять ей – значит противостоять Божьим заповедям и наказам. Я имею в виду истинную и настоящую власть, власть от Бога, данную законному королю, поддерживаемую государственными законами и установлениями. Я говорю здесь о полной и абсолютной власти, опирающейся на праведные законы, божественные столь же, сколь естественные и гражданские, служащие достойным обрамлением истинному королю. Эту власть, данную ко ролю от Бога, никто не имеет права ни измерять, ни контролировать». Отныне уже не составляло никаких затруднений вывести формулу – «чего хочет король – того хочет Бог. И король – это Бог на земле» [33].
Для Франции Божественное право королей никакой новостью не было. Французские короли, начиная с XIII в., регулярно и систематически настаивали на своей прямой связи с Господом, минуя Божью Церковь, поскольку не желали, чтобы Рим ограничивал их власть. И собственно, не была новостью сакрализация королевской власти и самой королевской персоны, ибо это было сущностью эффекта роялистской веры (религии). Эта вера, тоже в течение столетий, была цен тральным элементом французского католицизма. Благодаря этому французский королевский дом бессознательно, но к XVI в. очень успешно, освободился от цепких рук Рима, и в то же самое время крепко сжимал своих подданных в своем санкционированном свыше абсолютистском кулаке. Новизна божественного права заключалась не в трансцендентной природе праведности королевской власти, и не в том, что ее напрямую дал Господь Бог. Суть заключалась в том, что эта теория сразу же покончила со всякого рода апарансами и расставила все по своим местам. Бог, который дал королю санкцию на власть, был христианским Богом – кем же еще, спрашивается, ему быть? Но он уже не был Господом католической церкви. В этой связи Господня божественность стала абстрактной. Установление абстрактного божественного права было очень важным шагом по пути дальнейшей декатолизации французской королевской власти и парадоксальным образом по влияло на ее секуляризацию.
Больше того, все более и более обезличенный Бог французов имел очень явные и любопытные отношения с реальностью. Суверен был наделен властью от Бога, только если его рождение шло по легитимной линии, то есть провиденциальный выбор должен был непременно подтвержден салическим законом. Власть короля была от Бога, но наследовал он ее по, несомненно, не божественному конституционному закону королевства. Невилл Фиггис подчеркивал легалистический и светский характер французского варианта теории божественного права в сравнении с ее английским вариантом XVII в. [34]. В своей зависимости от салического закона секуляризован был сам Господь. Но в этой секуляризации не было элемента entzauberung. Природа сакральности изменилась, но она оставалась сакральной. Параллельно с секуляризацией божественного была обожествлена мирская власть, санкционируемая пусть очень важными, но человеческими, а не Господними законами. А вместе с ней были обожествлены и закон, и общность, на нем построенная. Доктрина божественного права короля привела к овеществлению французской организованной общности (polity).
Следующее столетие уравняло короля и эту организованную общность, которую во Франции изначально назвали бы государством the state, а веком позже преданность королю полностью перешла на эту все более приобретающую божественные черты, но все же обезличенную властную структуру. А ведь первоначально считалось, что ко роль и источник этой структуры, и телесное ее воплощение. Но этапы этой фантастической эволюции были заложены в идее божественного права ровно так же, как выводы из силлогизма заложены в его предпосылках. Некоторые предзнаменования того, куда пойдет развитие в XVII в., были видны уже в 90-е гг. XVI в., особенно в трудах Шарля Луазо (Charles Loyseau). В «Traite des seigneurues», опубликованном в 1608 г., Луазо определяет организованную общность как властную структуру, осуществляющую контроль над принадлежа щей ей территорией. Эта территория является неотъемлемой частью этой общности. Одна без другой они не могут составлять организованную общность, res publica, социальный организм. Но, в то время как территория, представляющая эту общность была мертвой материей, властная структура или суверенность вдыхала в нее животворное на чало [35]. Власть была сущностью организованной общности. По ассоциации с королем и его владением – estate (tat du roi), властная структура тоже получила похожее название the state (государство). При переосмыслении понятия «властная структура» в этих терминах можно было легко параллельно «овеществить» понятие the state (государство). Государство же приравнивалось к res publica или к обществу. Для сторонников доктрины божественного права король был сувереном в точном значении этого слова. Власть короля не имела границ, он подчинялся только Богу и основному закону, а это значило, что фактически он не подчинялся никому. Мыслители XVII в. просто-напросто делали из этого вывод, что король и есть личностная сущность общества, то есть, другими словами, что король и есть государство. Полная персонализация политической общности позволила развиться пылкой преданности абстрактному понятию. Абстракция сама по себе не может требовать такой пылкой преданности. Но перераспределение власти и реорганизация общественной структуры, которую оно подразумевало, породили напряжение и разочарование в королевской власти. Преданность переносится на другой объект – саму абстрактную общность.
Король и его государство
Завершил XVII в. трансформацию французской идентичности (среди тех, кто ею обладал) из религиозной в политическую. Эта идентичность предполагала, что религиозное единство не столь существенно, но при этом полностью базировалось на понятии божественного права. В ней также были заложены основы для дальнейшего развития, по мере того как на почве рассуждений о новом характере французскости, вырастали новые идеи о том, что же все-таки составляет организованную общность (polity). Этапы этой транс формации прослеживаются достаточно отчетливо. Замена преданности лично королю на трансцендентную преданность и замена преданности земной patrie на духовную произошли при Великом князе церкви – кардинале Ришелье. И при следующем царствовании никто – ни папа, ни Христос – не могли оспаривать верховную власть «короля-солнце». Конечно, такая ясность взгляда – преимущество тех, кто это рассматривает задним числом. Для современников все это было не так просто. Следует помнить, что религия (а во Франции – каолицизм) еще долгое время оставалась фактором первостепенной важности. Первая поло вина XVII в. пережила возрождение католицизма – и во Франции это чувствовалось как нигде. Людовик XIII превзошел в благочестии всех французских монархов за четыре столетия, если считать от Людовика IX Святого. И тем не менее подспудно неутолимое желание секуляризовать французскую идентичность продол жало существовать. Потребовалось длительное время, чтобы французы осознали, что они говорят прозой – и по существу, нерелигиозной. По скольку в дискурсе святыни никогда не подвергались поруганию – просто одна категория сакрального заменялась на другую – и, более того, поскольку идиомы дискурса заимствовались из католической традиции, это изменение идентичности практически не ощущалось.
Труды кардинала Ришелье по государственному обустройству Франции
Французскость стала отделяться от католицизма при Ришелье. Выражалось это хотя бы в том, как стали называться враждующие партии. Те, кто отстаивали собственно французские интересы и были за войну с Испанией – лидером мирового католицизма, называли себя bons Franais, их противники, которые считали, что во главу угла следует ставить религиозные соображения, называли себя catholiques zls или dvts [36]. Безусловно, bons Franais никогда не позиционировали свою антирелигиозность, наоборот, они заявляли, что они-то и есть за истинный католицизм, тот католицизм, который требовал безграничной преданности и подчинения королю, ибо он (король) и есть наместник Бога на земле. Они одобряли труд Ришелье по строительству государства (так его дружно назвали историки XX в.). Ришелье хотел закрепить и усилить абсолютную власть короля в пределах государства и прославить это государство во всем мире. Сам кардинал принимал сторону то одной, то другой враждующей партии, смотря по обстоятельствам. Но из поддержки пишущих bons Franais («славных французов»), с которыми ему приходилось объединяться чаще, он извлек немало выгоды. Объединяясь со «славными французами», великий министр преследовал свои цели: а именно, чтобы «славные французы»-писатели защищали его политику антикатолическую или антипротестантскую, внешнюю или внутреннюю. Ее окончательным результатом должно было быть признание земного государства как главного блага и источника всех ценностей. После Ришелье существование «интересов государства» и их главенствующей роли при всех иных соображениях, не оспаривалось никем.
Как правильно заметил много лет назад Чарльз Макилвейн (Charles Mcellwain), именно доктрина о божественном праве короля сделала возможным аргумент, относительно «интересов государства» [37]. «Славные французы»-писатели, защищавшие политику Ришелье от обвинений в антирелигиозности, доказывали, что она носила исключительно и безусловно религиозный характер, поскольку Ришелье был министром и защитником короля, который в своем государстве самим Господом поставлен над законом, а поскольку король связан с Господом прямым родством, то он поставлен и над единой церковью во всем остальном мире. Королевская власть была источником всех ценностей, а верность королю была высшим благочестием. Классическое свое выражение подобная позиция получила в Catholique d’estat. Этот труд был яркой апологией абсолютистской антигабсбургской политики Ришелье. «Король правит по воле и власти Господа, – утверждалось во вступительном слове, обращенном к Людовику XIII. – Короли суть наиболее блистательные орудия Божественного провидения, призванные управлять миром. Древние, не будучи льстецами, уподобляли их богам, живущим во плоти. Сам Господь учит нынешних людей тому же и желает, чтобы Вас называли богами. И раз он желает, чтобы Вас так называли, то он желает, чтобы Вы и были Богом, и, несомненно, отринет всякого, кто алчет связать Вам руки, принизить Ваши права, противостоять Вашим действиям, пред которыми должно благо говеть, и пытается быть судьей и цензором Вашего Величества в тех делах, где ваш судья – один лишь Господь». В основном тексте автор жалуется на то, что «пришли ужасные времена, до них католика никогда не предавали анафеме за то, что он любит государство, в котором он родился, и за то, что он желает своей родине блага и процветания». «Чудовищно, что для всего христианского мира сейчас считается оскорбительным называть человека католиком по его государству и по политике его государства. Если он таковым не является – то он предатель своей страны. Он – лицемер и враг Господень, ибо враги наших королей – враги Господа, а следовательно, и наши враги» [38].
Из этого отрывка становится очевидным, что грань между божественной санкцией и собственно божественностью была неотчетливой и ее легко можно было перейти. Мысль о том, что король не представитель Бога на земле, а собственно земное воплощение Господа возникала достаточно часто. Одной из наиболее невинных жертв без жалостного процесса централизации власти был маршал де Марильяк. В слове перед казнью он напутствовал своего племянника, служить королю после Господа. «Славный француз» Поль дю Шатле был этим страшно возмущен. «Что же имел в виду виновный маршал, когда советовал служить королю только после Господа? Что, нежели как не христианское отсутствие уважения к королевской власти могло скрываться за этим преумалением королевской особы? Служба Господу и служба королю суть одно и то же» – декларировал дю Шатле. «Что мы должны думать о католике, который говорит о своем короле, наиболее праведном и благочестивом католическом повелителе, из всех когда-либо державших скипетр, что ему надо служить “после Господа”? Что, как не то, что этот человек имеет самое дурное мнение о благочестии и доброй воле своего господина? Что, как не подозрительность, тайная ненависть к нему, желание ему мести и заговорщическая деятельность под предлогом каббалистического благочестия, подвигло этого чело века, столь многоречивого даже в смерти, что он так усиленно старался в своих последних словах провести различие между служением королю и служением Господу?» [39]. «Славные французы» хотели отделить себя от такой нечестивости. Все более они служили королю не после, и даже не наряду с Господом, а прямо-таки, как если бы он им и был. И так же как раньше знаком «французскости» было наивысшее христианство, так теперь быть французом значило душою и телом быть преданным принципам божественного права и роялистского абсолютизма. «Быть французом и ненавидеть короля, – постулировал автор Catholique d’estat, – ругать его, критиковать решения ко роля и королевского совета, хотеть уничтожить королевское государство – есть вещи несовместные». Тем, кто недостаточно быстро осознавал королевскую непогрешимость, Гез де Бальзак (Guez de Balzac) гневно ответствовал: «Так ли надо быть французом и верным слугой короля? Не есть ли это крайнее непонимание того, на что вы поднимаете руку, и злобность, доходящая до высшей степени исключительного безумия?» [40].
У сакральных существ была сакральная же атрибутика. Обожествление короля предполагало сакрализацию королевского государства (the state). Понятие государства, изначально означавшее королевскую власть, в XVII в. было мультивалентно [41]. Оно продол жало использоваться в смысле королевской власти, и также относилось к функциям королевского правления, к территории (the realm), и к на селению, над которым эта власть осуществлялась. Роялистская власть руководствовалась специальными нормами или, скажем, у нее имелись различные мотивы, как-то: территориальная экспансия, повышение статуса или увеличение могущества. Это были главные интересы государства.
Пистаель считал около 1622 г., что «величие, безграничное самовластие и слава короля» есть самый важный закон государства. «Королю, – писал он, – надлежит заботиться о соблюдении этого за кона более, чем о собственной жизни. Нельзя называть короля неправедным, если он расширяет границы своего государства. Ему надлежит поступать так, исходя из интересов и законов королевского величия, ибо едва он касается скипетра, он дает торжественную клятву, единственно потому, что он принял этот скипетр, посвятить все свои силы со хранению и приумножению своей власти. Тот, кто сомневается в этой истине, евежествен в политике» [42]. Таковы были принципы. На практическом уровне Ришелье советовал воплощать их в дело следующим образом: «Мы можем считать, что Наварра и Франш-Конте принадлежат нам, поскольку они граничат с Францией и мы можем их легко завоевать, как только у нас до этого дойдут руки».
Из этого следует, что государство (the state) обладало специфической, отличной от христианства моралью. Она, опять-таки, являлась прямым выводом из доктрины о божественном праве королей. Поскольку королевская власть или королевское государство было в то же самое время божьим государством, государство неизбежно становилось альфой и омегой и источником моральных ценностей. Божья воля была непостижима, но куда бы ни простирался интерес государства – это была Божья воля. И одновременно государство явно существовало в обычной реальности. «Мы знаем, что спасение человека про исходит в ином мире, – писал кардинал Ришелье, – но государства не существуют в мире ином. Их спасение либо имеет место быть в настоящем, либо его нет вообще» [43]. Этот мир уже не являлся преддверием иного высшего мира. Земное государство стало инкарнацией государства божественного.
Все, что приходило в соприкосновение с богоизбранным королем, по ассоциации приобретало сакральность. Гез де Бальзак в предисловии к «Le Prince» писал, что «приближенных к королю мы должны считать чище и лучше нас, ибо они сияют блеском, полученным от их Величеств. Уважение, которое мы оказываем королевским приближенным, должно распространяться даже на их ливрейных лакеев и камердинеров, и тем паче на их дела и на их подчиненных» [44]. Подтасованные тексты Бальзака (а самые страстные обожатели Елизаветы Английской по сравнению с ним выглядели жалкими дилетантами) ему самому казались священными. Их нельзя было критиковать. Им нельзя было противоречить. «Те, кому не нравится мой труд, – заявлял он, – суть большие враги собственно предмета книги, нежели чем критики ее текста, и питают большую вражду к повелителю, чем к тому, кто является его голосом. Тот, кто считает написанное мною излишне преувеличенным, не понимает долга верноподданного и не имеет должного мнения о своем повелителе».
Ложные обоснования не способствовали популярности этой книжки. Но те же самые аргументы выдвигались в отношении политики Ришелье. Министру нельзя было противоречить, ибо критиковать его ypso facto значило критиковать самого короля. Этот аргумент был весом еще и потому, что сам король это мнение разделял. Тем, кто во времена Ришелье критиковал его как разрушителя королевства, дурного советчика, который скрывает от короля истинное положение дел и тем самым обманывает его, король отвечал, что политика Ришелье – это собственная политика короля. «Король прекрасно осведомлен о том, что делает его министр, и утверждать обратное – значит считать богоизбранного суверена дураком». «Сколь же непереносимо… когда трусливые и злокозненные людишки настолько обнаглели, что осмеливаются писать, что я – пленник, сам того не зная, чем наносят мне самое нестерпимое оскорбление» [45].
Сторонники Ришелье среди интеллектуалов использовали все возможности, таящиеся в мощной королевской поддержке, и выражали это в письменной форме. «Тот, кто критикует государственных министров Его Величества, не упоминая имени короля, на деле критикует и оскорбляет нашего повелителя», – предупреждал один vieul courtisan dsintress. Ученый Жан Сирмон (Jean Sirmon) сделал окончательный вывод: «Министры для государя то же самое, что лучи для солнца. Воображение не в силах их разделить». Все моментально сообразили, что это делает Ришелье королем [46]. Процесс был сходен с обожествлением короля в результате господней санкции. Рядом с королевской особой возникала новая реальность, реальность, которая тоже приобретала сакральный характер, и которой надлежало повиноваться и обожествлять ее так же, как, собственно, самого суверена. Эта новая реальность, именуемая государство, переплеталась с сущностью королевской персоны, но представлена была людьми из плоти и крови, и крови не королевской.
Распространение сакрализации от королевской персоны на ее дела и ее министров отражалось в широком толковании и относительной деперсонализации понятия lse-majest (оскорбление величества), трактуемом как самое тяжкое преступление. В законах XVI и начала XVII в. самыми тяжкими считались преступления против королевской особы, королевской семьи и королевской власти (nostre personne, nos enfans et nostre posterit et la republique de nostre royaume). В De souverainet du roi юриста Кардена Ле Бре (Cardin Le Bret), наиболее представительном труде по криминологии тех времен, определение тягчайшего преступления было дано в подобной же манере. Ле Бре разделил преступления, относящиеся к «оскорблению величества», на три категории: диффамацию короля, критику его жизни и заговор против его государства, подкрепляя свое раз деление на категории традиционной аргументацией: «Поскольку ко роли избраны Богом, клевета на них есть богохульство и святотатство. Поскольку наши суверенные государи суть наместники Господа на земле, его живое воплощение или, скорее, Боги на земле как называет их Священное Писание, нам надобно относиться к ним как к божественным и священным существам. Итак, можно сказать, что тот, кто оскорбляет короля, оскорбляет самого Господа. Но жизнь короля не такова, как жизнь любого смертного, ибо король есть дух, которым живо государство. Потеря его влечет за собою гибель всего государства». Подобная интерпретация «оскорбления величества», которая все еще была сосредоточена на королевской особе, тем не менее уже предполагала существование и другой стороны (в каком-то смысле «расширения» королевской особы), стороны, неотделимой от персоны короля, но для которой он служил лишь средством.
Кодекс Мишо (Michaud) (1629) добавил к «оскорблению величества» еще публикацию диффамационных листков относительно государства, отъезд из страны без королевского разрешения, контакты с иностранными послами, создание лиг и созыв ассамблей, строительство укреплений и производство вооружения, либо владение большим количеством оружия или более тяжелым оружием, чем это потребно для самозащиты.
Статья 179 этого кодекса гласила: «Мы запрещаем… всем нашим подданным, без какого-либо исключения, писать, печатать, либо оказывать помощь в напечатании, продавать, публиковать, распространять любые книги, листки или другие тексты, напечатанные типографским способом или написанные от руки направленные против чести и репутации особ, включая нашу собственную особу и наших советников, магистратов и чиновников, а также тех, кто занимается управлением нашего государства и внешней политикой. Мы объявляем всех, кто не соблюдает вышеупомянутого закона, особенно в отношении лиг и ассоциаций внутри или вне нашего государства, виновными в оскорблении Величества и изменниками Родины» [47].
Такова была буква закона, на практике «оскорбление величества» трактовалось еще более широко. Франсуа де Монморанси, граф де Бутвиль, потомственный аристократ, подрался на дуэли (1627), открыто пренебрегая королевским эдиктом, запрещающим их. Его обвинили в тягчайшем преступлении, приговорили к смерти и казнили. Несколькими годами позже, на основе «ad hoc» определение «тягчайшее преступление» («тягчайшая измена») было рас ширено с тем, чтобы под него можно было подвести всех, кто как-либо служил или хранил верность брату короля Людовика XIII Гастону Орлеанскому и королеве-матери, поскольку и королева-мать, и Гастон Орлеанский требовали смещения Ришелье и устраивали заговоры против его правительства. Под это определение подходили также вообще все, кто противостоял политике Ришелье и все им сочувствующие. Обвиняемых в оскорблении величества судили – для этого создавались специальные комиссии – как правило, их находили виновными и приговаривали к смерти.
Государство, все еще в смысле королевской власти (неизбежно абстрактной), таким образом, приобретало существование, отдельное от короля. Это было нечто, чему предполагалось, король должен был служить, как и любой другой человек. Король был для него наиважнейшим компонентом, но эти два понятия уже не были идентичы. Государство было глубинно, по существу монархическим, оппозиция королевскому государству всегда влекла за собой оппозицию королю, а преданность и верность королю предполагали преданность и верность его государству. То есть, государство еще не было независимым объектом преданности (верности), но это уже был, так или иначе, новый ее объект.
Эту развивающуюся сакральную область (новую абстрактную целостность) можно определить пожалуй, лишь от противного. Она была полной антитезой «национальному» так, как это понималось в Англии. В службе государству в этом контексте, служба на общее благо отнюдь не стояла на первом месте. Хотя «интересы общества» (народа) могли быть упомянуты в рамках «интересов государства», но главные «интересы государства» обычно состояли в «величии, абсолютном единовластии и прославлении» короля. Предполагалось, что король служит именно этим идеалам, а не общему благу, или, скорее, общее благо синонимично «величию, абсолютному самовластию и славе» короля. Благо народа, которым он правил, было, по меньшей мере, делом второстепенным, если вообще имело какое-либо значение. Такая постановка вопроса была полной противоположностью идее Отмана, высказанной столетием раньше.
Полное и нескрываемое равнодушие Ришелье к страданиям своего народа, последовавших в результате его работы «на благо государства», было просто поразительным. «Нежелание народа воевать, – писал Ришелье, – не может заслуживать внимания в качестве причины, по которой следует… заключать мир, поскольку люди часто жалуются на неизбежное зло, причиняемое войнами так же охотно, как и на то, которого можно избежать. Народ невежествен и не понимает нужд своего государства. Его легко возбудить, и люди хнычут там, где нужно терпеть, чтобы не навлечь на себя большее зло». Война на поверку была действительно необходимым и полезным злом, по определению Ришелье, пользы общества. «Народные беды – преходящи, – писал один из сторонников Ришелье «славный француз» Ахилл де Санси (Achille de Sancy). – Год мирной жизни восстанавливает все. А польза, приносимая этими войнами королю, будет существовать вечно. Король защищает свою репутацию в христианском мире и наводит своим оружием страх на тех, кто в будущем мог бы причинить ему вред» [48]. Следует отметить, что беды, о которых они столь философски рассуждали, были самой неприкрытой нищетой, а не временным отсутствием предметов роскоши или неудобствами такого же рода. Есть было не чего – постоянно, настолько, что это доводило людей до самоубийства. В некоторых провинциях крестьяне ели траву [49]. Но возвеличение, расширяющееся абсолютное самовластие и грандиозная слава французского государства были неопровержимым фактом. А ведь важна именно слава, а не рацион черни.
Поскольку король и государство были неотделимы друг от друга и невозможно было находиться в оппозиции государственному благу, не находясь в оппозиции королю, те, кому были не по нутру ришельевские методы служения обоим, пытались переосмыслить понятие «благо государства». В связи с этим, они предлагали различные определения самого государства. Мятежный брат Людовика XIII Гастон Орлеанский и его сторонники среди интеллектуалов привлекали внимание к тому, что Ришелье не уважал традиционные отношения и привилегии (которые они называли вольностями или свободами). Особенно это касалось знати и нищеты народа, а знать относила ее исключительно на счет Ришелье. По-видимому, они рас сматривали государство как общность, организованную этими традиционными отношениями, привилегиями и народом. К этим же попыткам переопределить понятие «государство» как организованной общности принадлежат робкие и редкие размышления о природе абсолютной монархии. Никто не сомневался в богоизбранности короля и легитимности абсолютизма, но те, кто еще окончательно не стали «славными французами» хотели бы, чтобы король скорее смягчал свою абсолютную власть, чем усиливал и ужесточал ее, как того требовал Ришелье, для которого это и было главным «интересом государства». В целом оппозиция абсолютизму в этот ранний период его формирования еще не была артикулирована ни в какой форме и существовала лишь как некое смутное чувство. В XVII в. взгляды Ришелье на государство и абсолютную монархию восторжествовали, но именно государство, изобретенное Ришелье, как объект преданности, столь же сакральный, сколь и король, и существующий наравне с королем, впоследствии дало возможность покончить с абсолютной монархией.
Абсолютные монархи и их эгоистическое государство требовали абсолютной же преданности. Бог политический был гораздо ревнивее христианского, который мирно уживался с богами более низ кого ранга (такими, например, как короли, социальные причины и установления). Государство абсолютных монархов желало, по контрасту, царить в сердцах своих подданных единолично. Во всяком случае, так должно было быть, по мнению министров и самого величайшего абсолютного властелина – государства французского. Оно отказывалось делить своих подданных даже с религией, будь она истинной или реформистской. И уж конечно, оно было нетерпимо ко всякого рода излишествам, в виде меньших обязательств и идентичностей, организовывавших структуру традиционно-французского общества. Христианский бог в своем распоряжении имел вечность, но государство существовало лишь здесь и сейчас и оно хотело иметь свою лепту сразу. Абсолютизм жаждал тоталитарности, абсолютная власть была возможна тогда, когда все ростки независимости, а следовательно, потенциальной оппозиции, были вырваны с корнем. Наличие каких-то обязательств – преданности и верности чему-нибудь другому, кроме как абсолютной власти, порождало независимость от нее.
Быть хорошим, то есть преданным, патриотичным французом, значило быть хорошим подданным. Хороший подданный – это послушный подданный, оставляющий политику профессионалам. «По слушание – вот что отличает истинного подданного», – писал Ришелье. Гез де Бальзак, бывший, возможно, одним из самых пылких его почитателей, предвидел, что в ближайшем будущем настанут идиллические времена, когда «новшества будут разрешены лишь в цвете и фасоне платья. А свобода, религия и общественное благо будут находиться в руках власть предержащих, и из легитимного управления и абсолютного послушания воспоследует полное счастье, которого и добиваются политические вожди, и которое есть цель граждан» [50].
Тех, кто традиционно имел политическую власть и участвовал в управлении государством, последовательно от этого отстраняли. И в конце концов, они полностью лишились и власти, и участия в управлении, и стали такими же подданными, как и все остальные, равными друг другу в своем подчинении королю. Это вызывало колоссальное недовольство и сопротивление и послужило причиной бунтов против «тирана» Ришелье. Гастон Орлеанский и высокородная аристократия жаловались именно на это, и именно в этом состоял смысл их мольбы о возврате к монархии в смягченном виде. «Умерьте его амбиции, его злобу и ярость, о, Великий король!» – так умолял Людовика XIII Матье де Морг (Mathieu de Morgues). Как будто королевский абсолютизм был всего лишь прихотью королевского фаворита Ришелье. «Призовите к себе тех, кто должен быть рядом с Вами по природному праву» [51]. Но абсолютизм и состоял в том, что власть должна была быть централизована в одном источнике, и никакого природного права иметь в нем долю, ни у кого не было.
Как раз в это время и обрело форму государство в смысле роялистского централизованного управления. Оно стало реальностью, которую можно было «пощупать». Постепенная централизация власти во Франции восходила к средним векам, и уже в первой половине XVI в. ее можно было увидеть невооруженным глазом. Бур боны, унаследовав структуру управления, созданную Франциском I и Генрихом II, продолжили их труды. К концу царствования Генриха IV, монарх, к тому времени все более называемый абсолютным, правил с помощью узкого круга «центральной администрации» [52]. Она состояла из нескольких советов или секций, поделивших между собой судебные, законодательные и исполнительные функции собственно королевского совета (Conseil du Roi или Grand Conseil). Возглавляли эти советы канцлер-главный судья, государственные секретари по иностранным, военным и внутренним делам, суперинтендант – генеральный контролер и интенданты финансов. Нередко один и тот же человек отвечал за несколько важных дел. В цен тральную администрацию было также включено большое количество людей, занимавших более мелкие должности. К ним относились государственные советники и matres des requtes. Первые участвовали в политических дискуссиях, а вторые снабжали советы необходимой информацией. Члены центральной администрации не имели никаких прав на свои должности и были обязаны ими исключительно милости ко роля. Это выражалось и в их самовосприятии – они считали себя «креатурами» короля, который был их «покровителем» [53]. Их благосостояние (в смысле должности и богатства) полностью зависело от расположения суверена, потому что только он их и выдвинул, и он же мог их и уничтожить.
Однако не все члены королевского совета зависели от короля подобным образом. Высокородная знать – принцы крови, пэры и кардиналы тоже имели право участвовать в управлении государством, это было их прирожденным правом. Они его не всегда использовали или, по крайней мере, использовали не систематически, поскольку управление государством требует прилежания, а прилежание было не самым выдающимся качеством аристократии. Но при Ришелье они были лишены самой возможности пользоваться этим правом. У высшей знати были независимые источники и статуса, и богатства и, до последнего времени, власти. Идентичность аристократии была сформирована феодальными взаимоотношениями и ее преданность королю, который для высшей знати был всего лишь «первым среди равных» (то есть самым знатным человеком в государстве) была добровольной. Высшая знать не симпатизировала практическому абсолютизму, хотя его теоретические принципы, развиваемые наиболее красноречивыми членами общества и воспринимаемые остальными в значении чисто ритуальном, она принимала. Но, как указывают многие авторы, знать решительно отказывалась понимать концепт «государства». Для многих грандов, впрочем, как и для подавляющего большинства остальных людей, государства, в каком-либо смысле отдельного от короля и в качестве объекта преданности, в первой половине XVII в. просто не существовало. У аристократов не было никакого интереса в том, чтобы король приумножал свое «величие, абсолютное самовластие и славу» и, покуда они участвовали вместе с ним в управлении страной, оно (управление) на самом деле полностью королю не принадлежало. Подобным образом, государство (в смысле централизованного управления) развиваться не могло. В отличие от грандов французского королевства, Ришелье, амбиции которого были вполне на уровне самых знатных аристократов, но не имевший, как они, независимых источников дохода, способных удовлетворить эти амбиции, идентифицировал себя с королевской властью. Для него служба королю была единственным способом пробиться наверх, и он настаивал на том, чтобы дело обстояло так же и для всех остальных [54]. Аристократию, как таковую, отодвинули от управления государством затем, чтобы переделать властную элиту в элиту служилую. Для служилой элиты не важны были ни родословная, ни состояние. Служба могла быть источником богатства, но никак не производным от него. Кроме того, служилая элита нужна была для того, чтобы создать слой людей, чьи интересы были бы неотделимы от интересов королевской власти. (Влиятельные аристократы могли принадлежать к этой элите, если они отрекались от собственной независимости и идентифицировали себя с королем – а этого они бы не сделали никогда.)
При поддержке короля, ни в чем не отступая от принципов божественного права, Ришелье приступил к реализации своих взглядов. При этом обстоятельства сложились в его пользу. Недовольные гранды последовательно себя дискредитировали, занимаясь интригами против королевской власти. Это было их основным занятием после убийства Генриха IV. Особенно они интриговали против Ришелье. В дискредитации себя они вполне преуспели и были исключены из королевского совета. Тогда Ришелье заменил их своими «креатурами», по ставив на важные посты своих родственников и друзей, и родственников и друзей своих друзей (то есть людей одного круга). Эти «креатуры» были обязаны ему своим возвышением, и он мог рассчитывать на их преданность, которая была столь же непоколебимой, сколь и его собственная преданность Людовику XIII. Администраторы, связанные, таким образом, единой цепью зависимости, действовали как единый организм и обладали единой волей. Их главным и единственным делом было сохранение и приумножение королевской власти, с одной стороны, а с другой стороны, они держали всех тех, для кого это не было главным делом, вдали от трона. Знать сокрушалась, что ее не только удалили от «главных дел», но и даже лишили традиционного права прислуживать королю. Советники Ришелье стояли между монархом и всем остальным миром, ревниво отслеживая каждый знак внимания своего суверена [55].
Доверие, с которым Людовик XIII относился к своему министру, и его беспримерная поддержка стратегии и тактики Ришелье привели к тому, что часть королевской власти de facto перешла к первому министру и к очевидному смешению их ролей. Этого смешения не существовало ни в голове у короля, ни в голове у Ришелье. Но чужим очам было видно, что происходит обобществление понятия абсолютного самовластия и дальнейшее абстрагирование его собственно от монаршей особы. У некоторых даже стала смутно возникать идея, что власть может существовать и вне короля (хотя и при нем). Кому-то могло показаться, что рядом сосуществуют две силы (пусть одна была отражением другой) – король и его правительство или государство (the state). Это правительство было коллективным органом, состоящим из министров и чиновников, а первый министр был его вдохновляющим началом.
Итак, королевская власть превращалась из монаршего атрибута или занятия в государство в смысле the state, коллективного носителя абсолютного самовластия, и одновременно с этим, государство также становилось каждодневной реальностью. Централизации политической власти в столице соответствовала административная централизация всего королевства. Для выполнения решений королевских советов до Ришелье существовала армия чиновников (officiers), организованных в корпорации, такие как parlements. Officiers, в отличие от членов советов (не великих грандов), пользовались значительной независимостью. С XVI в., благодаря практике продажи должностей, они стали владельцами своих постов, а закон 1604 г. paulette сделал эти должности своего рода наследственными (если выплачивался годовой взнос, то должность можно было передавать по наследству). В начале XVII в. во Франции было около 40 000 officiers [56]. По рождению они не были аристократами. Но уже к этому времени, многим должностным лицам, особенно в королевских судах, при определенных обстоятельствах давали благородное звание, и вскоре эта многочисленная группа перешла в определенную категорию знати, называемую noblesse du robe.
Исполнение королевской политики лежало на этих профессиональных наследственных бюрократах; им была передоверена каждодневная фактическая работа по управлению государством. Но «бюрократическая власть» так же, как и «власть аристократическая», строго говоря, не была королевской властью. Внешне officiers представляли королевскую власть, на деле же они являлись собственниками определенной части властной функции. За эту часть они платили, считали ее своей собственностью, держались за нее и извлекали из нее доход. Их благосостояние, в отличие от благосостояния членов королевской администрации, зависело больше всего и прежде всего от благосостояния их корпорации. Так что лояльность officiers была, по крайней мере, двойственной. Продажа должностей противоречила принципу невидимой власти, каковая была базисом у надстройки в виде королевского абсолютизма, и officiers были не слишком заинтересованы в его развитии.
И если «государство» соотносить с королевским управлением (властью), то officiers не представляли собой «государство». Таким об разом, государство во Франции не могло быть построено без создания альтернативного бюрократического корпуса. Собственно, этот процесс и пошел. Ришелье ине стоял у его начала, и не привел его к завершению. Но он столь успешно ему способствовал, что его деяния на посту первого министра, называли, либо обзывали, революцией в управлении. Он вовсе не намеревался вводить какие-либо сверхпреобразования. Считалось, что преобразования – это временные меры, мирно со существующие с формальным традиционализмом. Новое вино подавалось в старых бутылках. Однако вкус у него был другой, и officiers, без труда распробовав его, решили, что им оно не по нутру.
Две заботы омрачали царствование Людовика XIII – внутренние беспорядки и конфликт с Габсбургами. Эти тяготы и подвигли Ришелье на поиски путей увеличения эффективности и подотчетности бюрократических правительственных структур. Пути эти были в большинстве случаев известны и все они считались законными. Но министерскую деятельность отличало все более широкое и наглядное использование мер экстраординарных. В результате же эти меры стали считаться нормой. Наиважнейшим и наиболее тщательно разработанным из этих мероприятий, каковое Ришелье осуществил, вовсе не думая, что это так важно, было учреждение службы провинциальных интендантов. Интенданты повсеместно представляли центральную власть. На деле провинциальные интенданты были особыми спецпосланниками, служившими королю и подотчетными лишь королевскому совету. Их выбирали из советников государства и matres des requtes и посылали в провинции с разовыми поручениями, как-то: проверить работу определенного суда, подавить бунт, проследить и проверить налоговые сборы. Использование интендантского корпуса резко возросло во время эскалации военных действий против Испании, поскольку требовалось как можно более эффективно и надежно собирать налоги. С тех пор, согласно Ролану Мунье (Roland Mousnier), значимость института интендантов сильно изменилась. Интенданты успешно подчинили себе, либо даже сменили всех финансовых чиновников и обычных судей. Их власть в пределах данных им поручений была абсолютной. Им должны были оказывать всяческую помощь. Им должны были подчиняться. И их решения могли быть оспорены лишь в королевском совете [57]. Officiers сохраняли свои должности, но утратили свои права, а вместе с правами – и доход, и источники влияния.
В общем и целом привилегированным подданным французского короля, малым или великим, не нравилось то государство, которое усилиями кардинала Ришелье вырастало перед их глазами. Оно лишало их привилегий. Только королевская власть и страх наказания заставляли их на время принять эти новшества. И они соглашались на них, беспрестанно ворча и втайне надеясь на возврат добрых старых времен. Когда Ришелье умер (1642), народ возрадовался [58]. Годом позже за своим министром последовал и Людовик XIII. Его преемником стал малолетний, едва ли пяти лет от роду, Людовик XIV – гранды и чиновники тут же подняли восстание.
Фронда
Когда король еще не достиг совершеннолетия и королевство управляется регентом, а не наместником Бога на земле, власть, по определению, временна. В этот период совершенно неуязвимая в других случаях броня легитимности, покрывающая королевский абсолютизм, дает трещины, становится менее твердой и перестает защищать его от нападения. Центральная власть и ее исполнители уже не ассоциировались с королевской особой, и против этой власти уже можно было справедливо восставать, как против власти узурпаторской и изменяющей принципам праведного правления. При этом обвинения совершенно не затрагивали самого юного монарха. (Наоборот, подчеркивалось его полное неведение о том, что творится его именем). Возражений против самого монархического принципа тоже не было. Мощная оппозиция абсолютизму в периоды несовершеннолетия королей выражалась в основном в том, что знать требовала подтверждения своей не зависимости. Это происходило всякий раз при несовершеннолетнем короле – будь то Людовик XIII, XIV и снова, в последний раз в начале царствования Людовика XV. В результате была достигнута цель, которую знать вовсе перед собой не ста вила: все три короля, правившие в промежуток времени, составляющий 164 года, с самого раннего детства научились распознавать своих врагов и никогда про них не забывали, что впоследствии давало врагам дополнительный повод для восстаний против преемников этих монархов. Идеологически эти мятежи носили характер радикально-консервативный. Знатные бунтовщики требовали возврата своих привилегий и окончания пагубных нововведений. Фронда – как наиболее серьезное выражение аристократической реакции во времена детства Людовика XIV – отличалась от двух остальных восстаний лишь раз махом и мощью. Правительство на время утратило контроль над событиями, вся его деятельность резко приостановилась, и страна погрузилась в хаос и нищету. «В семнадцатом веке это был последний, большой бунт против королевского абсолютизма», – пишет W. F. Church [59].
Если верить, скажем так, романтизированным описаниям Дюма-отца, молодому человеку, особенно принадлежавшему к парижской аристократии, жить в те времена было очень весело и интересно, прямо-таки захватывающе здорово. Однако же, кроме небольшого дивертисмента для легковозбудимой знати, Фронда мало что дала. Личностные мотивы фрондеров были совершенно теми же, что и у их потомков 1789 г. Только они, потомки, в отличие от фрондеров, которые называли этот режим «новым», называли его «старым». Но фрондеры, так же как и революционеры, хотели с ним покончить, хотя Фронде недоставало идеологической подкладки, которая бы придавала этим мотивам моральный блеск и подогревала бы великие события. У них не было идеала, который можно было бы противопоставить абсолютизму. И поэтому этот бунт остался в памяти, как «крестовый по ход против любого порядка», «период разброда и шатаний», не имевший никакого «созидательного значения» [60]. Как будто группа актеров, которые на самом деле могли сыграть великое представление, решила поставить Французскую революцию, не дав себе труда заглянуть в текст пьесы.
И все же, когда актеры говорили – это случалось редко, по тому что в основном они веселили публику, в их речах действительно звучали по-настоящему революционные чувства, как будто они читали страницы из Франкогаллии или переводили то, что высказывали бунтовщики, живущие через пролив. А в тот момент Англия ставила на понятии «национальное» официальную печать. Клод Жоли (Claude Joly) в своем труде Maximes pour l’institution du roi, который считался наиболее значительным теоретическим обоснованием Фронды, постулировал следующее: «Некоторые люди, недостаточно осведомленные о правах суверена, считают, что народ существует для короля, в то время как истина состоит, напротив, в том, что короли существуют для народа. Ибо всегда были народы без королей, но никогда не было королей без народов» [61]. «Власть короля, – настаивал он, – не абсолютна и не безгранична. Король ограничен законом, а в законе есть две стороны – люди, подчиняющиеся королю при определенном условии, и король, соблюдающий это условие, то есть сохраняющий и укрепляющий этот закон». Губительное убеждение, что король является полным властелином жизни и благосостояния своих подданных, было «внушено» ему «плохими, неправедными министрами», особенно «чужаком-иностранцем» Мазарини». Министры «творили это зло, чтобы наслаждаться богатством, получать титулы герцогов и пэров и вообще делать различные другие вещи, которые по рождению были им не положены». Эти министры узурпировали королевскую власть, вовлекали короля в ненужные ему войны, «желая создать хаос и сумятицу, чтобы найти оправдание выжиманию налогов из народа и не допускать высокородную знать к любому руководству», то есть туда, где министры чувствовали себя полными хозяевами и всячески аристократию унижали. Министерская деятельность также послужила причиной многих «быстрых смертей», потому что министрам нужны были должности этих людей, и им надо было избавляться от «неугодных». Таким образом, Жоли определил главные цели предательских действий министров. Они (министры) также пропагандировали «проклятую» максиму «интересов государства», как будто у королевской власти могли быть какие-либо иные резоны для существования, кроме защиты благосостояния воих подданных, и какая-либо иная мораль, кроме Евангелия Господня!? Для Жоли государство не было идентично королевской власти, и он не использовал этот термин в отношении институтов управления. Для него «государство» значило человеческую общность, которой король управлял и ради которой он был «сделан» королем. И Жоли сокрушался из-за многих бед, постигших его государство, из-за сотрясающих его волнений, которые проистекали по причине злодеяний министров [62].
Людовик XIV
В царствование Людовика XIV, le Diedonn, «короля-солнце» и Великого монарха, центральная власть была решительно объединена с королевской персоной и дальнейшие атаки на абсолютизм стали бессмысленными. Король, который не без оснований мог говорить: «Государство – это я», использовал этот термин вполне (хотя и не совсем) недвусмысленно и именно в этом значении. Людовик XIV был правителем с колоссальным чувством долга, трудоголиком, преданным своему занятию, можно сказать, истинным королем-профессионалом и, судя по получаемому им от этого удовольствию, артистом в своем деле [63]. Он писал в мемуарах, что интересы государства всегда должны превалировать над личным удовольствием короля [64]. «Общественный и личный долг» неразделимы, если это касается королей, считал Людовик XIV. С того момента, как он повзрослел и решил стать монархом, Людовик XIV служил государству, но слугой государства он не был. В смысле этатизма Ришелье, государство было не над Великим монархом, оно для него было тем же, чем Святой Дух был для Бога Отца. Для короля «благо государства» подразумевало благополучие королевских подданных лишь на последнем месте, поскольку таковое благополучие не являлось необходимым для достижения высоких идеалов – величия, славы и абсолютного самовластия, которые были внешними выражениями королевского достоинства. Слава была наиглавнейшим благом государства и венцом королевских трудов. В то же самое время она была вернейшим средством для достижения этого венца. «Одной лишь репутацией можно достичь большего, чем с по мощью самой сильной армии», – с удивительной социологической прозорливостью заметил король. – Все завоеватели достигли более существенных результатов, полагаясь на свое имя, а не на свой меч». Государство нуждается в величии королевской власти. «В интересах своего величия и даже (курсив автора) в интересах своих подданных, – писал Людовик, – он (король) должен требовать от них полного подчинения. Самое незаметное разделение власти влечет за собой колоссальнейшие несчастья». Королю казалось, что главная причина этих несчастий – это «амбиции высокородной знати», которые, не будучи подав лены, неизбежно ведут к бунтам, гражданским войнам и обычной не справедливости. «Всякий аристократ, – писал августейший автор – тиранит своих крестьян. Таким образом, при разделении власти, вместо одного короля, которого должно иметь народу, им одновременно правит тысяча тиранов. А разница здесь в том, что законный повелитель всегда добр и умерен по отношению к своим подданным, поскольку его приказы имеют под собой определенное основание, в то время как незаконные суверены всегда несправедливы и деспотичны, ибо они движимы необузданными страстями».
Современники великого короля, такие как церковник Боссюэ (Bossuet) или юрист Жан Дома (Domat), выражали это же мнение словесно, а другие, самым значительным из которых был Жан Батист Кольбер, помогали воплощать его в жизнь. Дома был, в некотором роде, неортодоксальным защитником абсолютизма. Он выдвинул две поразительно со временные идеи: первая, что все люди рождаются равными, а вторая – что для их же собственного блага, им предназначено неравное общественное положение, ибо удовлетворение необходимых общественных потребностей требует разделения труда. То есть важнейшее обоснование абсолютизма было функциональным. Тем не менее оно еще подкреплялось и Божественным волеизъявлением. Социальная иерархия и политическая власть были божественными институтами, в то время как равенство людей было всего лишь созданием природы. Таким образом, традиционные соображения, насчет божественного права на королев скую власть и подразумеваемую легитимность такой власти, у Дома тоже присутствовали. Логика его аргументации свидетельствовала о его одаренном юридическом уме: «Люди, которых природа создала равными, но отличающиеся друг от друга, в соответствии с тем разнообразием профессий и условий своего существования, которые дал им Господь, имеют необходимость в правительстве. И эта необходимость показывает нам, что правительство возникает по воле Господа. И по скольку Господь есть единственный наш естественный Повелитель, то именно благодаря Ему, все те, кто правят нами, сохраняют свою силу и власть, и в деятельности своей они являются представителями самого Господа… А раз правительство необходимо для общего блага, и сам Всевышний его поставил, следовательно, те, кто являются его подданными, должны быть ему послушны и покорны» [65].
Епископ Боссюэ, обращаясь к Людовику XIV и, очевидно, ко всем монархам прошлого и будущего в его лице, как к «богам из плоти и крови», поучает их, что «не только права королевских особ установлены Божьим законом, но и выбор властителей совершается по воле Божественного провидения. Чтобы установить власть, представляющую его собственную, Бог отмечает чело и облик суверенов печатью божественности». (Хотя некоторые из обязанностей помазанника носили поразительно обыденный характер.) «Возне сите славу вашего имени и славу Франции, – просил короля Боссюэ, – до таких высот, чтобы вам нечего было больше желать, кроме вечного блаженства».
В этом контексте преданность королю была благочестием. Но для Боссюэ благочестивое поведение включало в себя больше, чем преданность королю. В своем труде Histoire de variations des glises protestantes он настаивал на том, что «протестантство не есть христианская вера, поскольку протестанты не верны своим королям и своим странам». Страна (the country) приобретала сакральность по ассоциации с королем. Вознося хвалу патриотизму, Боссюэ повторяет идеалистов старых времен. «Человеческое сообщество требует, чтобы мы любили ту землю своего обитания, – писал он в своей главной работе Politique tire de l’Ecriture Sainte, – это то, что римляне называли caritas patrii sole, любовью к Родине (l’amour de la patrie)». Это чувство, естественное для всех народов. Родине должно было пожертвовать в ми нуту ее нужды все свое благосостояние и даже самое жизнь. Понятие patrie определялось так: «алтари, священные вещи, слава, благосостояние, мир и безопасность жизни; объединение всего человеческого и божественного». Долг перед королем состоял в том же самом, по скольку король и родина были едины. Ему следовало служить так же, как и родине… «Государство воплощено в повелителе, в нем – сила государства, в нем – воля целого народа. Хороший человек отдаст свою жизнь за жизнь своего суверена» [66].
Grand sicle (великий век) считал патриотизм благородным чувством. Великие поэты этого века следовали традициям своих предшественников и воспевали жертвы во имя патриотизма. Пьер Корнель писал:
- Mon cher pais est mon premier amour…
- Mourir pour le pais est un si digne sort
- Qu’on brigueroit en foule une si belle mort…
- Моя дорогая страна – моя главная любовь…
- Умереть за родину столь почетно…
- Что Все могут только мечтать о такой красивой смерти…
Без patrie жить не стоило. Когда Родина (the country) была в опасности, жизнь была ничтожной платой за то, чтобы Родина про должала существовать. Во всяком случае, так считал Жан Расин:
- Quoi! lorsque vous voyez prir votre patrie
- Pour quelque chose, Esther, vous compte votre vie [67].
- Пошто! Когда вы видите, что родина ваша гибнет,
- Зачем, Эсфирь, вам собственная жизнь?
В этой поэзии служение Родине и служение королю часто тоже не разделялись – король и Родина упоминались, так сказать, на одном дыхании. Французские подданные охотно идентифцировали себя с королем, чья слава была воистину славой Франции, особенно во времена побед. И они гордо чувствовали себя французами. Но не все это чувство разделяли – даже в среде образованных французов, которые были к этому чувству наиболее склонны. Блез Паскаль считал, что патриотизм, как его понимали в ту эпоху, есть чувство глупое и разграничивал интересы подданных и интересы короля. Жан де Лабрюйер полагал, что patrie и абсолютная монархия являются взаимоисключающими понятиями. «Patrie не существует при деспотизме – она подменяется другими вещами: королевскими интересами, королевской славой и службой королю» [68]. Впрочем, вслух это не говорилось, во всяком случае, на протяжении большей части царствования Людовика XIV, хотя к концу этой эпохи подобное мнение стало более распространенным. Во второй половине XVII в. патриотизм был чувством, тешащим самолюбие, – тогда можно было соглашаться, что этот век действительно grand sicle для Франции, век славы и величия, а Людовик XIV – Великий монарх, что Родина – общая мать для короля и его подданных и что государство Франция и король – едины.
Покуда организованная общность (polity) определяется той властью, под которой она находится, на самом деле трудно отделить ее образ от образа короля, являющегося своим собственным первым министром. Тем не менее личное правление Людовика XIV сопровождалось усиленным ростом государственного административного аппарата. Административная централизация наглядно выражалась в распространении незаинтересованной бюрократии (незаинтересованной в том смысле, что у нее не было иных интересов, кроме как государственных, т. е. чтобы управление страной шло как по маслу). «Именно с развитием бюрократии, – писал Жорж Паже (Georges Pags), – государственные секретари в центре и интенданты на местах (и следует добавить король через них) устанавливали свою власть в королевстве. Интендантов, 30 matres des requtes, послали в провинции, и от них «полностью зависело разорение или процветание этих провинций» [69]. Ненавистные интенданты в эту эпоху надолго стали всесильными агентами центрального правительства. В отличие от своих предшественников при Ришелье и Мазарини, у которых были соперники – officiers, все еще сохранявшие важную административную власть, интенданты Людовика XIV отобрали у officiers все их функции, а также взяли на себя все судебное администрирование. Фактически они контролировали сбор налогов, вместе с губернаторами провинций (каковые обычно были грандами королевства) осуществляли надзор над землями этих провинций, а вместе с епископами – над землями церковными, и отняли у parlements административный контроль над армией, управление местными общинами, апелляции местным су дам, исполнение приговоров, назначенных королевским или церковным судом, оценку и помощь при строительстве монастырей, начальных школ, средних школ и университетов и проведение реформ в этих заведениях. Они отобрали у parlements права на регистрацию религиозных отступников и новообращенных, в общем они стали осуществлять генеральное руководство в юридической, коммерческой, сельскохозяйственной и промышленной администрации [70]. Короче, они и управляли Францией, тем самым лишив влияния и любых источников власти возможных лидеров оппозиции. В целом результат их правления был благоприятным. Даже Паже, не слишком симпатизировавший централизации власти, вынужден был согласиться, что при интендантах государством стали лучше управлять и простым людям житься стало легче. Но его оценка этической значимости их правления была недвусмысленной. Именно интендантская администрация познакомила нацию с королевским деспотизмом [71].
Кто-то теряет, кто-то находит. Так и случилось с французским абсолютизмом. Нашедшие – в данном случае те, кто считал эти времена эпохой невиданного ни до, ни после гражданского благосостояния, по терявшие – те, кто считал их эпохой деспотизма. Абсолютизм победил при Людовике XIV, но (если заимствовать метафору из бурной истории другого «изма» – борца), он породил «собственных могильщиков». Некоторые из них были жертвами этого насильственно-победного насаждения абсолютизма. Большинство, однако, разделяло огромную уверенность в себе защитников абсолютизма, а, кроме того, они придерживались ошибочного мнения, что для того чтобы власть была неоспорима, ее вовсе не требуется насаждать насильственно.
Религиозная политика Людовика XIV привела к росту недовольства у гугенотов. Гугенотство было главным источником независимости во Франции, и понятно, почему король пожелал его подавить. Задавшись этой целью, можно было бы подумать лишь о более мягких средствах ее достижения, но способы, которыми эта цель была достигнута, оказались весьма жестокими. Отчуждение гугенотов сыграло очень важную роль в развитии французской национальной идеи. Подавляемое и угнетаемое меньшинство, они стали, как и в прежние времена, времена религиозных войн, одними из первых, кто обвинял систему в целом, и кто сражался за всех ее жертв. Они считали свою дискриминацию всего лишь особым выражением общей линии, затрагивающей жизнь и других слоев населения. Они называли эти слои – знать, parlements, крестьянство и даже католическое духовенство – и подчеркивали общую связь между ними и собой. Таким образом, они назначили себя глашатаями и представителями общности – переосмысленного «state» (государства) и народа (people). Государству самой короной придавался глубочайший, духовный, фактически религиозный смысл. Оно было признано сакральной сферой еще со времен Ришелье. Гугеноты отобрали это естественное продолжение божественного права у архитекторов абсолютизма и обратили его против них. Они противопоставили общество (общность) – жертву угнетения – монарху, который был истинным источником этого угнетения и ipso facto главным угнетателем.
Ссыльный гугенот, по всей вероятности Пьер Журье (Pierre Jurieu), написал знаменитый трактат The Sighs of Enslaved France, Who thirsts for Liberty, свидетельствующий о величайшей трансформации в представлении об общественном порядке. (Имеется в виду организованная общность.) «Государство Франция, – пишет автор, – в результате тиранического правления, беспрецедентного по своим требованиям к подданным и по своему безразличию к общему благу, стало неотличимо от плебса. Французская общность стала идентична народу». «Прежде всего, следует понимать, – писал он, – что при нынешнем правительстве любой человек принадлежит к черни. Мы больше не при знаем различий по достоинству, рождению, заслугам. Королевская власть поднялась так высоко, что все различия исчезают и все заслуги утеряны. С высоты, на которую вознесся монарх, все люди не что иное, как пыль под его ногами. Нищета и страдания стали уделом не только низших, но и самых достойнейших и благородных людей государства». Само по себе такое развитие событий достаточно удручало. Но в силу того, что так случилось, изменилась природа дискурса, и противникам политики Людовика XIV открылись серьезные возможности ей противостоять. «Чернь» облагородилась, поскольку в нее влились люди, лишившиеся своих привилегий благодаря тому, что ко ролю эти привилегии были глубоко безразличны. Народ (чернь) получил дозу голубой крови и просто чернью больше уже считаться не мог. Он пошел дорогой сакрализации. В этом конкретном случае фактическое отождествление государства и народа позволило Журье утверждать, что нищета народа (то есть крестьян), есть нищета государства. Использование термина «государство» потенциально было сильнейшим риторическим приемом. Политика «короля-солнце» и особенно его военные начинания легли на плечи крестьянства тяжелым бременем. Крестьяне и при меньших-то притеснениях, едва-едва сводили концы с концами. Нищета крестьянства была просто ошеломляющей. Но, по скольку страдало от нее лишь крестьянство, те, кому посчастливилось не принадлежать к этому сословию, редко были ошеломлены крестьянской нищетой. Однако в связи с тем, что крестьянскую нищету представляли в качестве общей, тем самым она становилась общей заботой всех слоев населения. Другие социальные группы начинали осознавать, каким опасностям они подвергаются при правительстве, для которого все равны.
урье в основном описывал сбор налогов, от которого крестьянство страдало в наибольшей степени, и делал это убедительнейшим образом. Он объяснял своим «несчастным дорогим соотечественникам, насколько тяжелым было бремя налогов и насколько оно не является необходимым. По его оценке сумма налогов, собираемых во Франции, намного превосходит суммы, собираемые в любых других странах. А деньги эти идут на удовлетворение эгоистических интересов короля и на обогащение низкородных сборщиков налогов. Такая грабительская политика незаконна. «Короли, – доказывает Журье (снова повторяя то, что писали в XVI в.), поставлены на родом, чтобы охранять его (народа) жизнь, свободу и достояние. Но правительство Франции дошло до такой беспредельной тирании, что король сегодня считает – абсолютно все принадлежит только ему одному. Он устанавливает налоги самовольно, не советуясь ни с народом, ни со знатью, ни с Генеральными Штатами, ни с parlements, в точности так же, как это делают магометанские повелители Турции и Персии и Великие моголы, считая себя единственными хозяевами вся кой собственности. Я молю вас подумать и осознать, под какой властью вы находитесь», – пишет автор. Вот потрясающий отрывок. В нем автор решительно отделяет короля от государства. «Случается так, – пишет автор, – что повелители и суверены принимают меры, которые кажутся излишними и причиняют большое неудобство отдельным личностям, но нужды государства требуют эти меры осуществить. Во Франции дело обстоит не так… Место государства здесь занял король. Служба – королю, защита интересов – короля, сохранение провинций – короля и преумножение богатств – короля. Получается, что королю – все, а государству – ничего. Король стал идолом, которому приносятся в жертву все повелители, малые и великие, семьи, провинции, города, деньги – в общем, совершенно все. Так что не для государства производятся все эти ужасные поборы – ибо государства больше нет» [72].
Две группы населения можно было ассоциировать с королем, и их тоже считали тиранами и кровопийцами. В первую входили финансисты и откупщики. В общественном сознании эта группа была криминализована рано и это было тревожным знаком для новых групп населения, чей статус зависел от богатства. Ко второй принадлежали низкородные министры – их возвышение оскорбляло кровных аристократов, ибо эти новые «великие, поднявшиеся “из грязи, да в князи”, – за являл автор, – служат лишь для того, чтобы унижать и уничтожать древние роды». Государство стали определять как «народ», и благо государства стали подчеркнуто считать народным благом. При этом совершенно очевидно, что честный защитник этих благородно-революционных идей полагал невозможным моральное оправдание возвышения из «грязи в князи». Он страдал по добрым старым временам, когда каждый знал свое место. «Общее (народное) благо» относилось к со хранению властных интересов. Главное преступление короля состояло в том, что ему не было дела ни до интересов населения, ни до интересов аристократии. Абсолютизм был для своего времени революционным, и старый строй защищался против него, как мог. Но в своем желании повернуть колесо истории назад, он готовил революцию в сознании. При ней возврата к прошлому не могло быть уже никогда.
Неуместная страсть короля к преследованию янсенистов, бестактность, с которой он пытался внедрить централизацию власти в самые дальние уголки ортодоксального сознания своих подданных, были потенциально более разрушительны для абсолютизма, чем отчуждение протестантского меньшинства. Мотивы Людовика XIV в этом случае объяснить труднее. Если верить графу Сен-Симону, то король заботился вовсе не о чистоте веры. Сен-Симон рас сказывает следующий анекдот: «Когда герцог Орлеанский собрался поехать в Испанию, он назвал офицеров, которые должны были входить в его свиту. Среди них был Фонпертюи. Услышав это имя, король напустил на себя суровый вид. – “Что ж, ты, племянник, – сказал он, – Фонпертюи – сын янсенистки, той дуры, которая всюду бегала за мсье Арну. Я не хочу, чтобы он ехал с тобой”. – “Клянусь честью, сир, – ответил граф. – Я не знаю, что делала его мать, но, что касается сына, он отнюдь не янсенист. Я за это отвечаю, поскольку в Бога он вообще не верит”. – “Возможно ли это, племянник”, – заметил король. “Я в этом абсолютно уверен, сир. Клянусь”. – “Ну, раз так – ладно, – сказал ко роль, – бери его с собой”» [73].
Выказывая такую терпимость к атеизму, король, однако, желал, чтобы его верующие подданные верили в полнейшее подчинение. Все церковные служащие должны были подписать Formulary [74]. Из-за этого многие обратились к янсенизму, и это учение скорее усилилось, чем ослабело, что способствовало расколу в галльской церкви. Для режима это было тем более плохо, поскольку янсенизм ассоциировался с настоятельным требованием дать священникам низшего ранга право на участие в церковном управлении. Эти священники вступали в борьбу с коалицией иезуитов и епископов, которые не признавали за ними такового права и обращались со священниками как с подчиненными, вообще не имеющими никаких прав. В этом коалицию поддерживал король. То, что в это дело были вовлечены иезуиты, стало особенно компрометирующим для правительства фактом, поскольку иезуиты были известны своей симпатией к ультрамонтанистам. Теперь можно было обвинить короля в том, что его религия – антифранцузская. Догматическому спору было придано острейшее политическое значение, и он превратился в борьбу за централизацию власти в религии.
Преследование янсенистов привело к отчуждению от цен трального правительства очень широкой и влиятельной части населения. В результате недовольство стало распространяться и вглубь, и вширь. В работах янсенистов или духовенства и магистратов, симпатизирующих янсенизму, «истинно христианская монархия» была привязана к идее «общего блага», в то время как абсолютная монархия, на против, была антихристианской. Фенелон – отлученный от церкви, но влиятельный архиепископ Камбре, – чья ересь несколько отличалась от янсенистской, также считал, что «истинные нужды государства» тождественны «истинному благу народа» и рассматривал «государство» и «народ» как синонимы. Зловещее расхождение между королем и государством и замещение короля государством в качестве главного объекта преданности, имевшие фатальные последствия для монархии, становились делом вполне обычным.
Абсолютизм покушался на сословное общество, угрожая и раздражая тех, чье благополучие было связано с этим обществом, тех, у кого была в нем личная заинтересованность. В то же самое время, изобретя государство – новое божество, символизирующее новую политическую сакральную вселенную, абсолютизм сам снабдил своих потенциальных противников альтернативным объектом преданности и центром социального притяжения. Вокруг такого благородного идеала можно было объединиться. Теперь с королем можно было бороться не ради голого личного интереса, а во имя благородного идеала, что давало возможность испытывать чувство глубокого морального удовлетворения.
Людовик XIV следовал законам, к которым его приучали в детстве [75]. Он считал, что долг его состоит в том, чтобы быть абсолютным повелителем и искренне верил, что благо государства – в королевском величии и славе. Конечно, поклонение его собственной, неотделимой от его персоны, абсолютной власти было в интересах монарха. Хотя многие монархи нашли бы чрезмерными требования, налагаемые на властителя таковым поклонением. Но это поклонение было также и в интересах многих людей, которые, не будучи королями, однако обладали достаточными амбициями, не имея преимуществ в виде высокородного рождения или денег, чтобы эти амбиции поддержать. Абсолютизм был великим уравнителем. Он отличал людей, в том числе и по заслугам, и позволял подобным личностям подняться из грязи.
Но это изменило правила игры фактически без изменения ее ставок или самой игры. Социальная структура была относительно не затронута радикальными изменениями в политической сфере. У этой игры была нулевая сумма. Если кто-либо завоевывал власть и влияние и с помощью них главную награду – статус, то это было доказательством того, что кто-нибудь другой его (этот статус) терял. Порождая новых победителей, вместе с ними абсолютизм одновременно порождал неудачников. Более того, и в этом и состоял его колоссальнейший просчет, он их ставил в такое положение, когда они ощущали свой неуспех очень остро, и давал им вдоволь над этим поразмышлять. Самые грозные противники абсолютной монархии вышли совсем не из тех немногих людей, которые выражали чаяния этатизма, нет, они вышли из массы недовольного дворянства – по рождению ли, мечу ли, мантии ли, все более набираемому из среды officiers, чьи обиды и недовольство они и артикулировали. Вырывая власть из рук знати, король и министры Франции XVII в. устанавливали абсолютизм de facto. Но, поскольку они оставили аристократию существовать и со хранили ее привилегированное социальное положение, то не могло остаться и тени сомнения, что его (абсолютизм) не примут добровольно. Благородное сословие все болезненнее осознавало тревожную неустойчивость своего положения. Дворянские привилегии, не связанные более ни с какой полезной функцией и в силу этого отрезанные от источников власти и влияния, казалось, растворились в воздухе. Дворяне ощущали подавленность и угнетенность. Именно это бедственное положение самого гордого сословия французского королевства побудило многих его членов перенести свою преданность особе короля на государство. Когда царствование Великого монарха стало клониться к своему закату, сложившаяся ситуация подготовила Францию к тому, чтобы воспринять идею нации.
Социальные базы национализации французской идентичности и характер зарождающегося национального самосознания. Обороты социального колеса: тяжелое положение французской аристократии
Шоссинан-Ногаре (Guy Chaussinand-Nogaret) говорит, что «к 1789 г. знать стала маргинальным меньшинством французского общества, ходила под постоянной угрозой приговора» и что «в 1789 г. аристократы были королевскими евреями» – сказано, по жалуй, слишком сильно [76]. Хотя по закону она была вторым сословием в королевстве, знать до самого 4 августа 1789 г., отменившим все сословные различия (кстати, отмена этих различий произошла, во многом, по ее же, знати, инициативе), оставалась первым сословием, если говорить о социальном престиже. Она была бесспорной элитой страны, ее самым привилегированным слоем. Принадлежать к знати – было мечтой всех амбициозных членов общества. Образ жизни аристократии являлся образцом для подражания у большинства обычных людей [77]. И все же, нет сомнения в том, что в течение ста предреволюционных лет знати в целом, и особенно ее высшему слою – аристократии, жилось нелегко. Они жили под постоянной угрозой – они теряли статус.
В 1707 г., по оценке Вобана (Vauban), во Франции было 52 000 благородных семей, примерно 260 000 человек. Armoreal gnral Дозье (D’Hozier’s) насчитывал 58 000 генеалогически значимых, благо родных имен. Туда были включены, по общему мнению, примерно трое из каждых десяти знатных людей, и, следовательно, их число приближалось к 190 000 человек [78]. Пятьюдесятью годами позже аббат Куэ (Coyer) считал, что количество знатных людей практически вдвое больше, и они составляют примерно 1–2 % населения (400 000 человек). Все население насчитывало 20 000 000 человек [79]. Согласно Шоссинану-Ногаре, в течение XVIII в. в благородное сословие вошли 6500 семей, и, по крайней мере, столько же семей получили дворянство в XVII в. [80]. Психологические последствия такого увеличения количества знатных людей, как для старой аристократии, так и для тех, кто пребывал, так сказать, во вторых ее рядах, должны были быть ошеломительными, с какой бы стороны на это ни смотреть. Такое расширение не могло не дестабилизировать (и в очень большой степени) высший слой этого сословия – аристократию, куда и влилась большая часть новой знати.
Хотя в принципе люди благородного сословия все были равны и равно лишены политической власти, внутри сословия существовали большие различия, как по статусу, так и по благосостоянию. И эти две иерархии не покрывали друг друга, а, скорее, перекрещивались, создавая ненормальное психологически дезориентирующее положение. Знатные люди, без сомнения, принадлежали к самым богатым подданным короны, но большинство знати было в числе бедного, часто нищего населения. Законодательство о подушном налогообложении (от 1695 г.) позволяет оценить экономическое положение благородного сословия. Это законодательство разделяло население на двадцать две группы, не зависимо от их сословного статуса. Люди, принадлежащие к первой группе, должны были уплачивать налог в размере 2000 ливров в год. Это была знать старая или новейшего происхождения. К ней принадлежали принцы крови, министры и генеральные откупщики. Но и в девятнадцатой группе знать тоже встречалась. К этой группе принадлежали те, у кого не было дома или жалованного земельного надела. В этой группе налог составлял 6 ливров в год. Знать в ней приравнивалась «к ремесленникам во второстепенных городах, владеющих лавками и нанимающих сезонных рабочих» [81]. Нищие освобождались от уплаты налогов. Тем не менее мы знаем, что и среди них встречалась голубая кровь. Основываясь на данных подушного налогообложения, Шоссинан-Ногаре разделил знать на пять более широких категорий. К первой он отнес тех, кто платил 500 или более ливров в год (первая и вторая группы из двадцати двух) и имел, по крайней мере, 50 000 ливров годового дохода. Эта группа насчитывала не больше 250 семей (1100–1200 человек или менее 1 %). Жили они в основном в Париже и принадлежали как к совсем старой («бессмертной»), так и к новейшей знати. Ко второй категории (13 %) в основном принадлежала провинциальная знать. К их числу относились те, чей годовой доход колебался между 10 000 и 50 000 ливрами; 25 % знати имели годовой доход от 4000 до 10 000 ливров и все равно могли позволить себе жить припеваючи. Ниже этого уровня необходимо было уже экономить, 41 % знати экономно жили на 1000 и до 4000 ливров в год. Но у оставшихся 17 % годовой доход был еще ниже, и у некоторых он был 500, а у некоторых и 50 ливров. Бедный gentilhomme de Bauce/Qui reste au lit pendant qu’on raccomode ses chausses (дворянин де Бос, который вынужден оставаться в постели, пока ему штопают штаны) – не плод воображения. Не включаемые в налогооблагаемое население, живущие в ночлежках и в домах призрения, заключаемые в тюрьму за ничтожные долги или вынужденные просить милостыню, эти дворяне вели жизнь, сравнимую с жизнью беднейших крестьян. Что общего могло быть у них с принцем де Робеком, у которого один счет за поставляемую ему еду достигал 58 000 ливров и который тратил на книги, приглашения на концерты и другие культурные развлечения более 2000 ливров ежегодно, или с мадам де Матиньон, платившей 24 000 ливров в год своему парикмахеру [82]?
Но в некоторых отношениях благородным беднякам жилось лучше, чем многим их более обеспеченным собратьям. Бедная ли, богатая, старая или новая, французская знать ненавидела условия, в которых ей приходилось жить. Трудно сказать, какая из групп, страдала больше. В то время как трудности положения бедных hobereaux были экономическими, аристократия, купавшаяся в роскоши, была подвержена «жесточайшим, душевным срывам», мукам тревоги за свой статус [83]. Возможно, нам трудно прочувствовать ту важность, которую сословное общество придавало понятию «честь». Очевидно одно, что в этом социуме статус был дороже жизни. В противном случае, не возможно, например, объяснить аристократическую страсть к дуэлям. Только потому что это явно выделяло их из обычного большинства, аристократы так яростно настаивали на своем праве быть убитыми или искалеченными по самому ничтожному поводу. Именно поэтому они так настойчиво отвергали все попытки короны прекратить взаимное смертоубийство, считая их признаком деспотизма. Именно поэтому, как только власть ослабила свою хватку, они кинулись опять друг на друга с саблями наголо, возобновив эти бессмысленные сражения, ибо ничто больше не ценили они так высоко, как свою свободу пребывать в постоянной близости к насильственной смерти и убийству [84].
Не вся знать была одинаково знатна. Начать с того, что второе сословие было поделено на два: gentilshommes и все остальные знатные люди Только gentilshommes были знатными по-настоящему. В число их предков никогда не входили люди неблагородного звания. На деле эквивалентом вечности, по общепринятому мнению, служили четыре поколения благородных предков. Новоиспеченный дворянин становился членом благородного сословия, но не gentilshommes. Эта эксклюзивная категория также имела свое деление по престижу. «На самой вершине человеческого величия и вершине иерархии среди всех живущих на земле», стояли gentilshommes de nom et d’armes – истинно древнейшая аристократия [85]. Потомки дворян, которые в четвертом поколении стали gentilshommes, никогда бы не смогли получить ранг gentilshommes de nom et d’armes. Ниже них, но все еще выше обычных gentilshommes, находились gentilshommes de quatre lignes, господа, чьи предки, как по женской, так и по мужской линии были gentilshommes, по крайней мере в течение трех поколений. Три поколения gentilhommerie по мужской линии требовалось для того, чтобы принадлежать к noblesse de race. К XVIII в. самая родовитая аристократия, чья родословная терялась в глубинах XIV в., составляла только 5 % знати в целом [86]. Что касается менее именитой noblesse de race, то ее возможно было, по крайней мере, так же часто встретить, как среди бедных hobereaux, так и среди блеска двора.