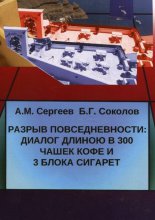Пентархия Генералиссимуса Хрулёв Владимир

© Владимир Николаевич Хрулёв, 2016
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Часть первая
1
Где-то невдалеке шелестела городским утренним шумом столица. Сквозь окна доносились голоса в крик командиров сводных батальонов и полков, выстроившихся на Красной площади, готовые к параду Победы. Генералиссимус стоял у окна и рассматривал внутренний дворик первого корпуса Кремля. Дворик был пуст и немного запущен в военные годы, дни и месяцы – не засаживалась цветами клумба, не убирался в зимнее время снег, а из под снега вытаяла брошенная мебель и другой непонятный хлам. Дождь лил не переставая, шумели водосточные трубы, потоки воды, вырывающиеся из них, выбивали углубления под собой и оставались долго не замеченными службой бытового хозяйства и озеленения капитана Кузнецова, когда то чемпиона Советского Союза по фехтованию.
Генералиссимус поморщился от неприглядного вида, не ужасного, но всё же не порадующего глаз ни Черчиллю, ни Рузвельту, если бы они очутились перед окном его кремлёвской квартиры или в этом узком коридоре, напоминающем купейный вагон поезда, где три комнаты с окнами на арсенал, соединены анфиладой через двери между собой, а коридор скорее был предназначен для случайных посетителей, охраны и редкой прислуги.
Куранты пробили вкрадчиво полчаса десятого и стихли, оставив шум дождя праздничному городу и опустевшим улицам вокруг Красной площади, где люди спресовались под ненастьем на бетонных трибунах и ждали появления Его, как явления. Ждали и знали точно, что он появится.
Из первой комнаты, ближней ко входу, которая было похожа на приёмную, гардеробную и личную служебную Николая Сидоровича Власика, всё вместе, вышел сам генерал и спросил с любовью:
– Носочки шерстяные одели, Иосиф Виссарионович?
– Шерстяные, шерстяные. – Ответил Генералиссимус подчинительным тоном, словно строгому отцу. – Конечно.
– И телогреечку не забыли?
– Так с тобой же и одевали.
– Хорошо, хорошо. И плащ этот уж больно хорош, Иосиф Виссарионович. «Большевичка» шила и не хуже английского этот плащ получился, совсем не хуже, а даже лучше. Лежит, ну точно впору, что в груди, что по росту, что по плечу. И цвет такой нашёлся – никому такого цвета не найти, а мы нашли! Бирюзовый цвет, как мне объяснили на «Большевичке» или что то похожее на цвет моря ранним утром.
Генералиссимусу льстило отношение Николая Сидоровича к нему, нежное, почти отцовское – доброе, ласковое отношение. И было ему тепло в этой телогрейке из овечьей шерсти и шерстяных шотландских носках.
– Может рюмку коньяку в честь праздника, Иосиф Виссарионович? Погода скверная, не дай бог простудитесь.
– Нет, не буду. Я тепло одет
– Ну. дело Ваше. Но я думаю, не помешает в непогоду то.
– Нет, нет.
Перед Сенатской башней, в самой башне и за стеной его ждала толпой его элита: генералы и министры, ковавшие Победу, его приближённые с которыми он советовался как повернуть дело на полях сражений или в кабинетах Лондона, Вашингтона, Стокгольма, Цюриха или Торонто. Все умеренно пили водку и закусывали бутербродами из черного хлеба с салом и малосольным огурцом.
Его встретили восторженно. Окружили на почтительном расстоянии.
– За Победу! – кричали все дружно. И чокались солдатскими кружками, принесёнными с собой на тризну по погибшим. – За Вас, Верховный Главнокомандующий! За Ваше здоровье!
А Власик стоял уже незаметным за спиной. Генералиссимус глянул на него и Николай Сидрович понял – не мешать общаться с победителями. Тогда сам генерал Власик налил в приготовленную для Генералиссимуса солдатскую кружку малую толику водки, лишь плеснул на дно кружки столько, что чуть дно покрыла, приготовил солдатский бутерброд и торжественно преподнёс:
– Откушайте, Генералиссимус Советского Союза, за Победу над жестоким врагом! – И бутерброд протянул на белом платочке.
И снова раздались приветственные выкрики и их услышали на трибунах – трибуны на площади притихли и насторожились.
Генералиссимус взял кружку за донышко, выдохнул по-русски и опрокинул каплю водки в себя. Поставил кружку на место и откусил с аппетитом кусок хлеба, не забыв его понюхать.
– За русского солдата, за русский народ! – сказал с опозданием.
Импровизированный стол занесли в башню, Генералиссимус жевал хлеб с салом, малосольный огурец придавал аппетит простой человеческой еды. Это было непередаваемо и необъяснимо как это вкусно.
Стрелка приближалась к десяти. Оставалось пара минут, не больше и Парад начнётся.
2
На следующий день, проснувшись поздно, Иосиф Виссарионович лежал и вспоминал этот вкус русской закуски – ржаной хлеб с салом и малосольным огурцом. Захотелось повторения вчерашнего да и запить боржоми – вот чудесный завтрак на сегодня. А уж харчо – это к обеду. Но невозможно забыть вкус ржаного хлеба с салом и малосольным огурцом, эта русская закуска запомнится навсегда.
Генералиссимус лежал на кушетке под белой овчиной, выделанной из кавказской бурки под одеяло и наслаждался теплом. Снова хотелось хлеба, сала и малосольных огурцов и он протянул руку, что бы дотянуться до кнопки звонка. Казалось, Власик ждал вызова за дверью.
– Доброе утро, Иосиф Виссарионович.
– Доброе утро, Николай Сидорович. Принеси ка зелёного чаю, что бы желудок заработал, а потом я встану, что бы умыться. Что у тебя появилось за вчерашний день? Наши герои как праздновали? Особых случаев не наблюдалось? В Комендатуру много попало?
– Из высших офицеров никого, все достойны были, а кто из тех, кто пониже, из сержантского состава, да из рядовых были задержаны комендатурой генерала Артемьева числом более двухсот – более дерзких. Просто пьяных отпустили под утро с богом. Потому что проспались да и дома ждут жёны да родня. Да и правильно, чего их держать, горе с радостью перемешалось у них в голове, вот и не знают как себя вести. Правильно поступил генерал Артемьев, с пониманием.
– Огнестрелов не было?
– Нет, Огнестрелов не было, Мне доложили бы. У меня на этот счёт есть сведения от моих людей. Доложили бы. Не беспокойтесь, Иосиф Виссарионоавич. Сейчас чай Вам принесу большую кружку, без сахара.
– Да вот ещё что. Вчера закуска была хороша. Сможешь такую же мне сделать сейчас?
– Не вопрос, Иосиф Виссарионович. Только я предложу разнообразить меню в этом направлении.
– Как это?
– На сегодня я закажу для Вас два бутерброда. Один вчерашний, с салом и малосольным огурцом, другой, новый для Вас, с бланшированными кусочками селёдки и то же с малосольным огурцом.
Это на сегодня через полчаса вместе с горячим чёрным чаем с сахаром
А на завтра после приёма участников Парада в Георгиевском зале, Вы отведаете суточных щей и рыбацкой ухи. Как Вы на это смотрите, Иосиф Виссарионович?
Генералиссимус не смог сдержать улыбки:
– Неси чай с бутербродами, А о щах и ухе поговорим завтра.
– Слушаюсь, товарищ Сталин.
– Сегодня в Кунцево надо ехать. Давно не был. Сообщать никому не надо.
– Слушаюсь, товарищ Сталин.
Сей час Рублёво-Успенское шоссе известно как место обитания самых богатых россиян. Это царская дорога, это дорога Ивана Васильевича Грозного, это дорога самых богатых россиян, ею пользовались все цари России и все правители, не наделённые царским саном – Юсуповы, Шуваловы, Голицины и прочие. Боярыня Морозова владела здесь сельцом Жуковкой. Художник Суриков изобразил её как противницу реформ патриарха Никона.
Поначалу в Зубалове жил и Иосиф Виссарионович с женой Надеждой Аллилуевой, а рядом жил и Феликс Дзержинский. Но потом Иосиф Виссарионович переехал на Кунцевскую дачу. Она пришлась ему по душе и он так о остался на ней до конца своих дней.
Они покинули Кремль ближе к ночи, после того как Вождь посетил торжественный прием в честь участников Парада Победы, вместе с Власиком, Поскрёбышевым и сыном Василием.
Василий был пьян. И они вошли в кабинет вдвоём, предупредительный Власик допустил отца с сыном к примирению, хотя слабо надеялся, что Василий поймёт строгость отца и бросит пить, хотя бы на людях и ежедневно.
Время близилось к полуночи, За окном шумел ветер, гоняя потоки дождя по даче. Но тепло заполонило кабинет от камина и уют проник в душу Вождя, захотелось сына погладить по головке, спросить какие успехи в школе, готов ли к поступлению в военное училище и стать командиром Красной Армии. А сын, уже сам генерал, шатаясь вломился в кабинет следом, уселся в кожаном глубоком кресле, жуя сталинскую папиросу «Герцеговина Флор», прищурил на отца глаза не по сыновни и ожесточённо спросил:
– Лаврентия приближаешь, отец? Своего врага, запомни это, отец. Избегая глаз Василия, его взгляда в упор, Вождь смотрел на его погон на плече, какой то помятый и потускневший в золотом отливе и не видел его лица. А в лице сына. что то мелькало, дрожало, подёргивалось мышцами, словно умоляло отца о чём то. Но отец овладел уже минутным своим смущением и говорил сыну что то в назидание твёрдым и беспощадным голосом. Василий почти не слышал слов. Но каждый звук ранил его душу и причинял невыносимую боль. Хотелось закричать, но боялся, что отец не поймёт его тревог, примет за мальчишество, забыв или не придавая такого значения его поведению на фронте или на парадах – там, где сын жил самостоятельной жизнью, без пригляда Берии и его тупоголовых людей в соединении с доброжелательным отношением Власика.
Трезвый Василий оставлял свои мысли не увидеть подлых намерений окружения отца. Но пьяный становился отважнее. Но! тогда пропадать буду я вслед за отцом, он – первым, я следом, думалось ему. Но вдруг бессилие наваливалось вместе с мыслями о неминуемой гибели, тоска о незаслуженных словах отца, которые врезаются в сердце как нож и отец уходил с этими произнесёнными им словами вдаль от него, в ту невозвратную даль, куда уходят люди мёртвыми от живых. И сам отец сделался будто мёртвым. И он закричал, от вида этого лица и сам сделался мертвенно похожим на отца. Кричал благим матом и бежал к дверям за которыми были всё те же. кто хотел им обоим смерти – сначала отцу. Потом сыну.
И вдруг наступило молчание и оцепенение всему. Только почему то слышалось одно лишь мерное медное и скрипучее тиканье маятника на стенных часах, надвигающееся на кунцевскую дачу со стороны Москвы, от Спасской башни – скрипели и перезванивались куранты Спасской башни скрипели шестерёнки противно и зло и вдруг ударял колокол мелодичным обманным звоном.
Василий остановился у самых дверей. И медленно оглянулся. Отец стоял и глядел вслед. Его взгляд был ласков.
– Если не боишься ничего, и не желаешь выпросить отцовское прощение, то каким образом собираешься мои заветы хранить? Ведь ты сын мой, Василий. Брось пить и пьянствовать, удостой себя моим сыном, без этого не могу тебя любить – ведь ты не здоров, Вася.
Василий молчал.
– Что молчишь! – крикнул отец, ударил кулаком по зелёному сукну стола так, что опрокинулся подстаканник с чаем. – Берегись, Василий! Знаю, что добиваешься своего – хочешь под моим крылом укрыться со своими безобразиями от моих друзей и соратников. Ведь и они не желают тебе плохого.
– Желают, отец, очень желают, только этого и желают! Только этого ты не видишь! – Василий зло усмехнулся в сторону. – Только поздно увидишь. И мне никуда будет деться, только вслед за тобой – в могилу.
Василий зарыдал как ребёнок. И отец видел его откровенные правдивые слёзы. Стало не по себе. И Василий видел жалость отца к нему и он зло порадовался своему мщению за свою покорность и бесконечное упрямство. Теперь ему казалось, что он сильнее отца и сильнее всех его услужливых и трусливых чиновников. Тогда он ещё раз криво усмехнулся ему в лицо, ожидая от отца несправедливости.
– Вон! – тихо прошипел вождь, скрывая бессильное бешенство.
Василий, по-прежнему не скрывая своей кривой усмешки, похожий на зверёныша, отпугнутого чужой самкой от добычи, тихо и бессильно застонал, не смея перечить ни одному его слово, ни одному велению. И он вышел, посчитав себя изгнанным.
3
То, что мерещилось Вождю все военные годы, совершалось в мире постоянно: власть властвовала, прикрываясь демократией, свободами, революциями, наступившей эрой или просто другими временами, но властвовала всегда с наслаждением. Иосиф Виссарионович властвовал в спокойных тонах, уверенно и не наслаждаясь своим положением властителя, спокойно и не пытался что либо объяснять, если сам этого не понимал. Например, он никогда не говорил о теории социализма или коммунизма, считал, что об этой теории достаточно сказали её основоположники, а он ничего нового сказать не может. Теорию классов он доверил им. А сам себе оставил вопрос о власти безотносительно к экономическим теориям учёных. Вопрос о власти, вот что его занимало, находящегося в центре самой власти, пригретой ею и даже сдавленной так, что дыхание спирает. И не на чём и не на ком взгляд остановить – кругом одни властвующие люди, кругом одни властвующие органы. И он был сей час удручён этим – своей властью, неограниченной по существу, нужно бы поделиться с кем то из них, своих окруженцев, своих соглашателей во всём, с каждым его словом хоть с трибуны, хоть в газетной статье, хоть за дружеским столом с друзьями – соратниками. Никто ему не подходил, все были какие то не исторические, какие то простецкие, похожие на мужиков с заводских окраин или крестьянских детей, овладевших нехитрой грамотой в рабфаке, или интеллигентов, прогнивших своими мыслями в спокойствии послереволюционного времени и гражданской войны. Нужна была власть по-новому, та же власть с его именем во главе, но какая то другая.
Вождь прислушался к музыке из-за дверей. Не иначе Василий уселся возле патефона и слушает своего любимого певца.
- В парке Чаир распускаются розы,
- В парке Чаир расцветает миндаль.
- Снятся твои золотистые косы,
- Снится весёлая звонкая даль.
– Ах, Васька! – по – русски зло сказал себе Вождь. – Отца ни во что не ставит. Подлец да и только! Что с ним делать? Ума не приложу. А песня доносилась из-за дверей:
- Милый, с тобой мы увидимся скоро, —
- Я размечтался над любимым письмом.
- Пляшут метели в полярных просторах,
- Северный ветер поёт за окном.
Василий любил эту песню. Её пел Аркадий Погодин с граммофонных пластинок на всех танцевальных площадках Москвы. Услышав её Василий делался больным. Он в это время любил свою первую жену – Галину Бурдонскую и своего сына Александра, рождённого Галиной перед самой войной. Сейчас Василий был в разводе и не в ладах с отцом. Было ему грустно от этого и обидно, особенно обидно было принимать насмешливость отца в его никчемности, когда он попрекал его в немужских отношениях с женой, не смог её поставить на место, когда она красивая и здоровая баба при своём известном муже заглядывается на сторону. Отец давно говорил ему, разведись, если ты, Василий, не способен быть для неё мужиком, если ей ты не подходящ для сожительства, а у тебя, Василий, одна пьянка на уме да твои друзья алкоголики. Не одной бабе ты не сгодишься. Разведись лучше и не трави женщину. Для редких утех ты найдёшь и не одну. Наконец Василий развёлся с Галиной Бурдонской, забрав у неё двоих детей, Александра и Надежду.
А ведь отец не пришёл на свадьбу к сыну. Письмом ограничился: «Ты, сын, спрашиваешь у меня разрешения? Когда? Тогда, когда женился и моё разрешение тебе не понадобилось. Так если женился – так чёрт с тобой.. А что я могу тебе сказать? Если женился. Так мне жаль её, что она вышла за такого дурака».
Василий положил щекой голову поближе к патефону и наслаждался своими чувствами со слезой. Песня эта всегда его доводила да слёз и сердцебиения и ему было хорошо в этой грусти.
- В парке Чаир голубеют фиалки,
- Снега белее черешен цветы.
- Снится мне пламень весёлый и жаркий,
- Снится мне солнце, и море, и ты.
- Помню разлуку так неясно и зыбко,
- В ночь голубую вдаль ушли корабли.
- Разве забуду твою я улыбку,
- Разве забуду я песни твои?
- В парке Чаир распускаются розы,
- В парке Чаир сотни тысяч кустов.
- Снятся твои золотистые косы,
- Снится мне свет твой, весна и любовь.
Вошёл Власик.
– Не надо плакать Вася. Не по-сталински. Зачем ты за ним увязался, почему в Москве не остался, в своём доме. Здесь и ночевать то негде, да и как тебя возврашать обратно, если все празднуют и водку пьют, да баб любят. А ты, вишь, один, Ну скажи ка, дело ли так?
– И я спрашиваю вас, Николай Сидорович, дело ли так поступать со мной, буд то плохо я воевал? Буд то хоть раз отвернул от «Мессершмидта»? Сбивать, меня сбивали, не спорю, так они тоже воевать умеют. Эх, Николай Сидорович, спросил бы он моих боевых товарищей, каков был я в воздушном бою, так ведь не спросит.
Слушает своего Лаврентия, все мысли от него, все дела от него – от Лаврентия. И много ли командиров авиационных полков кто воевали не вылезая из самолёта. А я так и воевал, редко когда позволял себе встряхнуться да попить на земле спирта технического, авиационного, если водки было недостать. Запрет был лично от отца приглядывать за мной, что бы ни капли мне в рот не попадало. Это на войне то? Где нервы на взводе. Эх, Николай Сидорович. А знаешь ли, генерал, – Василий глянул в глаза Николая Смдоровича, – что взятки в армии уже так надоели, но оказываются простым делом, словно обиходным, как в туалет сбегать возле лётного поля, или грибов набрать в пилотку для закуски своих ста боевых граммов. А сказать ему об этом – не поверит сыну, поверит Лаврентию. И я, сын, буду отстранён и от должности и от отцовского внимания.
– Ты послушай меня, Василий. Ведь что отец от тебя требует? Только одного – не пить водку беспробудно. Только этого, он ведь любит тебя беззаветно. У меня на глазах и любит, поверь мне. Он отец и мимо отцовскую любовь к своему сыну выбросить на ветер не может. Так же было и с Яковом. Беда была и сколько ему пережить пришлось за своего сына. И вот ты досаждаешь, Но, слава богу, хоть жив. Слава богу, хоть слово может сказать в назидание. Так цени это слово, Василий, прислушайся.
Николай Сидорович не проронил ни слова по-генеральски, словно не был так близок к Вождю, что бы оберегать его святое послевоенное существование. Его слова были просты и недоступны в одно и тоже время и как то доверительно доходили до Василия и он входил в доверие этих слов и холод в груди таял и сам он мягчел и забывалась брошенность среди Москвы и отец был рядом.
– Нет, – решил вдруг Василий, – Николай Сидорович не даст отца никому. Он единственный кто не плут и не мошенник, кто словно помешанный проникся любовью к отцу и кто в самом деле мученик за его спокойствие.
Власик подошёл к Василию близко, заглянул в красные измученные глаза, сказал, буд то себе, но значительно: Повелено божьей милостью ему быть самовластным. И никто ему не страшен, успокойся, Василий.
4
Старик Молотов Вячеслав Михайлович прав, как ижевский охотничий карабин, не знающий осечки. И я, как и он, никогда не ездил ни в какие Италии или куда то ещё, что бы позагорать и отдохнуть на солнышке. Зачем? У нас в Крыму или в Сочи лучшие в мире солнце и море. А главное, здесь все мои друзья. В моей телефонной книжке что то около ста пятидесяти номеров. Вот уже сорок лет, как я не набирал номера, не значащегося в ней. Наш круг – здесь, возле мест, где отдыхает Вождь. А Молотов Вячеслав Михайлович, верный друг Вождя на многие годы, а я Никонов Вячеслав, внук Вячеслава Михайловича, продолжатель политической карьеры рода Молотовых. Но это всё в будущем, а пока Вячеслав Михайлович получил кличку от Вождя – «чугунная жопа». А я, его внучок, изредка вспоминаю деда и преуспел в своих воспоминаниях – в новом времени. Знатоки политэкономии – всё знают о «зимней столице мирового капитала», внук весь в былом, он пытается вызвать духов. канувших в Лету. Рядом с ними, с канувшими, часов не наблюдают, но не от избытка счастья, но от страха перед часом расплаты. Неизбежной расплаты, как сама смерть, но без погребения избранных людей. Оставляя их на земле привидениями, тенями, пугая жизнь в простых домах и богатых замках, под плакучими ивами по берегам рек и озёр.
Голова Василия разболелась – не унять. Нужно было опохмелиться.
От больной головы он и проснулся. Патефон был закрыт и отодвинут подальше заботливым Власиком. Выпить бы кориандровой стопку или две, опохмелиться. Но сил не было встать, оглядеться, найти взглядом Николая Сидоровича – он бы понял и позволил бы не позволительное, если рядом где то отец за стенкой. И отец бы не узнал.
И тут он увидел Власика, скорее угадал, что кто то стоит за его спиной.
– Ну хорошо, – сказал Василий стоящему за спиной. – Много я пьяный лишних слов говорю, а потом себя презираю. И снова, как передумаю, то опять к первым своим словам возвращаюсь. И получается – от первоначального не отрекаюсь. Значит я твёрд! А он не понимает меня! Не понимает, и не верит мне.
– Понимает и верит тебе, Василий. – Ласково сказал Николай Сидорович и погладил Василия по голове. – А не понимал бы и не верил, так разве отпустил бы тебя воевать? Он и позволил тебе быть на фронте поэтому, гордясь своим сыном, что сын его в общем ряду защитников Отечества. Вот так то. Василий. А тебе не лучше ли домой в Москву возвратиться, не дело это – быть неизвестно где.
– Что значит неизвестно где, Николай Сидорович? Разве я не у отца своего?
– У отца, конечно, у отца. Где же тебе быть, сын мой? – послышался за спиной Власика голос Иосифа Виссарионовича.
Василий вскочил, словно хотел броситься к отцу на шею, но вдруг сдержанно замер в ожидании добрых слов. Только удалось прошептать слово, выдавить из себя хриплое: Отец, отец.
Вождь услышал неслышные слова сына, сказал: Николай Сидорович, я побуду с ним некоторое время – десять минут. Потом отправишь его в Москву без разговоров. Заходи, Василий, в столовую.
– Слушаюсь, Иосиф Виссарионович. – Власик отступил на шаг, давая
Василию возможность подчиниться отцу.
– Иди, ступай, Василий. Отец ждёт.
Василий угрюмо и с трудом встал и сказал про себя:
– Ещё бы и опохмелиться кориандровой, как бы голова не раскололась, столько времени не может успокоится.
Власик посмотрел на него заботливо: Не твоей бы голове трещать со вчерашнего! Иди уж да помалкивай.
Войдя в столовую, Василий медленно заломил руки так, что все суставы захрустели, потянулся, словно перед сладким сном и зевнул так широко, что челюсть застыла в судорогах. И сделалось как всегда в подобных случаях встречь с отцом – необъяснимо страшно, стыдно, скорбно и хотелось броситься в ноги отцу со словами раскаяния и обещания больших действий равных подвигу. И через час Василий уже спал на кушетке Вождя чуть похрапывая и счастливые слёзы застыли у него на щеках. А ещё через час он вымытый, выбритый, опохмелившийся, туго затянутый в узкий мундир генерал – лейтенанта авиации мчал на вызванной ЗИС-110 из кремлёвского гаража домой отсыпаться на одни сутки,, предоставленных ему Верховным Главнокомандующим в связи с парадом Победы над фашистской Германией.
5
По Кремлю не разгуляешься – мал Кремль для познавательных прогулок по истории. Но приходилось и Вождю здесь совершать прогулки, но что бы в конце мая да принародно, со своими соратниками, да в ночное время, да в дождь и даже в холод, буд то лета и не на подходе.
Дождь не прекращался второй ли, третий ли день. И с ним пустота и что то грозящее неизвестно с какой стороны и неизвестно от кого. Вождь быстро и незамеченным покинул Георгиевский зал, спустидся по парадной лестнице и, повернув налево, намеревался пересечь Ивановскую площадь и у себя в кабинете в первом корпусе Кремля поразмышлять над своими идеями в организации высшей власти, создать новый потаённый орган власти на основе политбюо и изнутри политбюро с тайными задачами, целями, возможностями – новое политбюро или пентархию из пяти наиболее прилежных к нему людей.
Ивановская площадь сплошь была заставлена машинами дипломатов. – Иосиф Виссарионович. Может минуем площадь?
Вождь не успел согласиться, раздался голос из репродуктора на площади: Машину франзузского посла! Подать к парадному подъезду!
– Не надо её миновать, Так прямо и пойдём, перейдём здесь и вдоль 14 корпуса оставим эту стоянку слева, пусть разъезжаются не торопясь. Не надо их торопить. Может не допили или недоели? Плохая примета для нас, Николай Сидорович. Людей нельзя оставлять в голоде или в холоде. Собери ка узкий круг, там и договорим, и допьём, и доедим. Ну, давай прощаться на сегодня. Иди отдыхай.
Опять послышались голоса в полуночном Кремле. Это водители дипломатов ждали своих хозяев после приёма Верховного главнокомандующего в Георгиевском зале Большого Кремлёвского Дворца. Сейчас Генералиссимус собирал узкий круг для продолжения празднования Парада Победы на подмосковной даче в Кунцево.
Василий мило беседовал с солдатом на его посту, когда увидел сквозь завесу дождя идущего в одиночестве отца и не удержался от крика: Отец!
– Сын! – послышалось в ответ. Так называл он Василия только в редкие минуты отцовской слабости.. Василий был удивлён, что в последнее время отец перестал с ним говорить вовсе, но вот сейчас, как видимо сердце его дрогнуло. Он увидел отца под летним холодным дождём как буд то обиженным на него за его пьянство и непослушание и снова был готов броситься ему в ноги и просить прощения за всё, даже за то, чего не совершал, как вчера.
Василий подошёл к отцу, снял фуражку, обнял отца и поцеловал в щёку не спросясь.
– Спасибо, Василий! – сказал растроганный Вождь и от этого давно не слыханного «Василий» сердце Василия дрогнуло и он произнёс: Спасибо, отец!
Но, всё-таки, лицо его мокрое от дождя загорелось счастьем и он что то пролепетал еле слышное и бессвязное для отца – пусть отец порадуется вместе с ним, дескать всегда я готов сложить голову за тебя, отец, за все твои начинания да просто за то. что ты мой отец.
И тогда отец взял его голову за щёки, приблизил, но целовать не собирался и даже отстранился от казарменного запаха водки с потом и сразу сын стал не мил – ведь снова пил, мерзавец, не сдержал обещаний отцу.
– Да поди ты куда подальше! – оттолкнул от себя только что любимую голову и любимое лицо и не сказал, что сейчас едет в Кунцево и хочет взять его, сына, с собой, приблизить к власти, но не сказал, ибо такой сын был ему не нужен постоянным присутствием где то рядом, пропахший не лимонами, мандаринами, а какой то мерзостью.
Первым прибыл Министр иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов. Под усами скривил добрую улыбку и собрал морщинки
в уголках глаз. Вождь понимал это выражение лица и в ответ тоже сдержанно улыбнулся и трубкой зажатой в руке указал на кресло рядом с собой:
– Присаживайся рядом.
– С-с-спасибо Иосиф В-в-виссарионович.
– Сейчас подойдут другие товарищи и мы сядем за стол в узком кругу, обсудим, как думаю, важный вопрос в управлении государством.
Возникла, как всегда в подобных случаях, когда бонза оказывался наедине с Вождём, тишина, исходяшая от Иосифа Виссарионовича. Человек ждал чего то, чего сам себе объяснить не мог. Что в этой тишине прячется, может гром грянет и не успеешь перекреститься? И страх невольно заморозит голову и сердце. Но ничего этого не происходило с Вячеславом Михайловичем, казалось бы. Руки его не
холодели без причины, сердце билось ровно и «кондрашка» не туманила голову. Вячеслав Михайлович молчал потому что был молчалив поневоле – он очень сильно заикался. А Вождь зная этот его недуг и был снисходителен и не переставал быть к нему уважительным и сейчас, сегодня и больше никогда спросит тихим голосом, затянувшись своей трубкой:
– Ты когда к Рузвельту ездил?
– Гм – м. З-з-зима к-к-онч-чилась. В-в-в-н-нач-чале л-лета с-с-сорок в-в-второго. К-к-кажется, что в м-м-мае.
– Забудь об этом, Михайлович – о нашем разговоре. Я просто спросил тебя о наших государственных делах в годы войны. Написал бы мемуары, а народ бы прочитал о всей правде. Кстати, ты и к Черчиллю
наведывался о второ фронте договариваться в это же время?
– Д-да, Иосиф В-в-ви-сса-рионович, так.
Вячеслав Михайлович Молотов, 55 летний министр иностранных дел, сидел перед Вождём свободно, без потливости от напряжения, вовсе не ожидая и не боясь от него вопросов и ничто не подползало, не покрадывалось к нему в этой ярко освещённой комнате, не хватало его за горло и не душило косматой лапой. Но в то же время Вячеслав Михайлович, чувствовал, что не имеет силы первому вступить в разговор с Вождём, а если бы Вождь обратился первым, как сейчас, то ничего бы не изменилось в его поведении – в обморок не упал бы со страху и не взвился бы в любовно-патриотическом возбуждении. Да и не привык он этого делать – заметно заикался и не хотел свой недостаток лишний раз напоминать Вождю.
Вождь неожиданно рассмеялся по-доброму, не рассмеялся, а хохотнул по-приятельски, а Вячеслав Михайлович приготовился внимать.
Но вдруг всё изменилось и всё стало по-прежнему. Вождь тихонько ласкал трубку, грел в ладони и осторожно прибавлял жару в горении табака, негустой приятно пахучий сизый дым улавливался Вячеславом Михайловичем как запах, как суть самого Вождя и он умильно смотрел на него и думал: Иначе решить не могу. Не могу вернуться в мир оскорбляющий бездействием, что бы жить, как все живут, без служения ему, и партии, и отечеству, что может погубить не только Советский Союз, но и всё его дело. Нет, я не покину его, не предам. Хоть я сейчас как на острие ножа, который разрезает меня пополам под собственной тяжестью. Знаю, что раз ошибёшься, второй раз не поправишь. И он, второй раз, тебе не потребуется. Нет, очевидно, что я уверен в этом человеке, он мне, определённо, нравится. И я люблю его, как гениального моего товарища, который уже возвратился после бесовских дней и ночей красным солнышком со своей ратью, только что показавшей себя на Красной площади возле Мавзолея и далее он восстановит всю истину в Европе, потом в мире. И все народы придут к нему поклониться и вот все они уже при дверях.
Вячеслав Михайлович не заметил своей благостной улыбки на лице – так был увлечён тихим общением с Вождём.
Наконец за дверями в столовую, где то при входе в дачный дом послышались осторожные шаги не одного человека и тихие голоса.
Дверь в столовую бесшумно отворилась и в столовую бочком как то не вошёл, а проник генерал Власик. Осторожно закрыв за собой дверь, он и шага не сделал вперёд, а вытянувшись в струнку, начал было декламировать: Ожидают приглашения войти …. Но Иосиф Виссарионович остановил доклад Власика, всего лишь подняв руку и коротко сказал: Пусть входят, не стесняются. Мы заждались.
И вереницей, один за другим, стали влезать в столовую и, сразу останавливаясь перед глазами Вождя, образуя толпу из постаревших и ожиревших бонз. Иосиф Виссарионович рассматривал каждого из них как портрет и после каждого рассмотрения кандидатуры (куда нибудь, наверное, сгодится), делал еле заметное движение рукой с зажатой в ладони трубкой – здравствуй, проходи. Здравствуй, проходи. Здравствуй, проходи.
– Я сижу вот здесь. – Сказал Иосиф Виссарионович, подойдя к торцу стола, который был давно сервирован. – На противоположном торце никого нет. Нас здесь не так много, что бы занять и то место. А вот здесь, слева от меня сядет Лаврентий Павлович. Справа – Георгий Максимилианович. Остальные по своему выбору. Присаживайтесь, товарищи.
Все расселись по своим местам и обратили взгляды на Вождя, который, казалось, не собирался садится, а продолжал стоять возле стула, задвинутого под стол.
– Ну что же, товарищи. Я не устаю поздравлять всех вас с одержанной Великой Победой человечества над фашистской чумой.
Сказал эти слова Вождь и шагнул мягким шагом в сторону вокруг стола, за спину усевшимся. И остановившись за спиной Лазаря Моисеевича добавил к сказанному: Поскольку к человечеству я отношу и весь наш советский строй и всё наше советское общество с его Армией и Флотом, то я в первую очередь поздравляю их, Армию и Флот, и весь наш народ, во главе с великим русским народом, а значит и вас, товарищи, представляющие руководство нашим Государством – Союз Советских Социалистических Республик. Прошу наполнить ваши бокалы и под этот тост выпьем за нашу Победу. Ура, товарищи!
Ура получилось нестройным. Вождь и не ждал за столом воинственного атакующего крика, но получилось какое то то жалкое и не убедительное ура. И Вождь крепко поставил свой фужер на стол с недопитой хванчкарой и ему захотелось что то говорить и говорить этим непонятливым людям. Но почему то непонятными для них словами. И он продолжал с обидой на них, непонимающих: Говорят: в конце концов, правда, восторжествует. Но это неправда! Вот ведь фокус. Этого, в конце концов, не дождаться, кроме того, что это неправда. Говорить правду – скорее всего это привычка, приобретённая где то в детстве? А сей час правде тебя никто не научит, правду в тебе никто не воспитает. А много ли правды в нас? В каждом из нас, руководителях государства? Можно сказать, что почти её нет. Но зато много, с избытком, лжи. А разве вы думаете по другому? Вот вы, Михаил Иванович, что думаете о наших лжецах?
Михаил Иванович, похожий на сельского старосту из какого —нибудь ивановского села Ильинское в неглаженной рубащке из хлопчатобумажной чесучи под плохо сшитым мешковатым пиджаком из той же ткани, выделялся своим благообразным видом, а небольшая бородка, свисающая клином придавала ему вид затрапезный и требовала удивления присутствующей публики. Но никто удивления не проявлял, знали и не понимали Вождя, зачем этот скоморох ему понадобился?
– Я бы спросил у Михаила Ивановича, может я зря помиловал его жену Лорберг Екатерину Ивановну, осуждённую на 15-летний срок пребывания в исправительно – трудовой колонии и отбывшую наказание лишь менее половины назначенного? – Сказал Вождь у «всесоюзного старосты», стоя у него за спиной. – Не помиловал, так и не знала бы Екатерина Ивановна о любви Михаила Ивановича к кардебалету Большого театра.
И тут все оживились. А Лаврентий Павлович осмелившись, потянулся за бутылкой «Столичной».
– Ну, староста, поделись девочками!
А Михаил Иванович вспомнил свои ночные мысли и почувствовал в душе спокойную решимость не поддаваться колкостям Лаврентия и этим презрительным ухмылкам за столом. Но его выручил Вождь.
– Может оставим в покое нашего любвеобильного старосту. Вы же все забыли о накрытом столе перед вами, вы же сами не откажитесь от какой нибудь молоденькой пастушки. Не так ли? – спросил Иосиф Виссарионович. Не называя и не выделяя никого.
И все разом примолкли.
6
Посетителей ни кремлёвской квартиры, ни кунцевской дачи Вождя вообще не предполагалось. Однако кунцевская дача была свидетелем многочисленных застолий с участием ближайшего окружения Вождя в различных персональных интерпретациях. В квартире же. расположенной на первом этаже первого корпуса Кремля никогда никто не бывал и в ней не было ничего интересного, кроме того, что Вождь бывал в ней очень нередко даже после того, как во время немецких бомбардировок бомба угодила во двор Арсенала прямо в гараж, где погибли все солдаты кремлёвского полка шестой роты за исключением одного, который был у Иосифа Виссарионовича на виду после этого трагического случая, приближённым к нему, и служил у него в личной охране. Здесь, в квартире, время, казалось, остановилось и всё навеки было неподвижно – так, как оставил Кремль Владимир Ильич, в неотличимом времени от екатерининского и таким же неотличимым, когда время стало сталинским. Было сонно в этой квартире и Вождь здесь очень любил спать, как медведь в спячку и не любил приходящих до ненависти. Это была его берлога. Весь уют его жизни.
А Кунцево? В Кунцево не бывали его дети. Ни Яков, ни Василий, ни Светлана. За очень редким исключением и то, уже в послевоенные годы, когда Василий, взрослел рядом с приёмным сыном Вождя Артёмом, они вместе были у отца на новогодних праздниках в школьные каникулы. Очень часто в военные годы здесь были военоначальники фронтов, Но вот со времени проведения парада Победы их в Кунцево не было. Были сплошь те, кто не побеждал, а кто пересиживал войну, откровенно надеясь на талант и удачу Вождя и сейчас они обозначились в послевоенном времени. А Вождь их пересчитывал, перебирал в уме и оценивал на свой ум и не допускал мысли о военных, победителях в Отечественной войне. Не боялся, но был предусмотрителен.
И вот, такая пачка из запасников Вождя сидела у него за столом и молчала. Один Лаврентий Павлович казался быть своим за этим столом в этом доме. Иосиф Виссарионович не останавливал его ни словом, ни строгим взглядом. И он был свободен за столом, налил себе вторую добрую рюмку водки и как то по хозяйски плеснул в себя, узкой ладощкой вытер тонкие губы, сунул в рот дольку лимона и положив локти на столешницу уставил взгляд перед собой.
– Прошу внимания, товарищи! Сейчас Лаврентий Павлович доложит нам о намерениях американцев по созданию нового сверхмощного оружия. – Как то второпях сказал Иосиф Виссарионович и все пропустили смысл сказанного, лишь Лаврентий Павлович отстранился от столешницы.
– Прошу внимания!
Все обратили внимание на Лаврентия Павловича, который сидел по левую руку от Вождя, а сам Вождь, отвернувшись от него в полоборота, попыхивал трубкой в сторону Георгия Максимилиановича.
Но тут Вождь спокойно сказал:
– Продолжайте, Лаврентий Павлович. Все будут слушать вас со вниманием.
И действительно. Все заёрзали на стульях, усаживаясь поудобнее, слушать что скажет Вождь словами Лаврентия Павловича.
– Товарищи! – Торжественно начал Лаврентий Павлович, – Нам стало известно, что 6 августа, то есть вчера, США произвели бомбардировку японского города Хиросима. Американцы сбросили на Хиросиму атомную бомбу, город полностью разрушен, по подсчётам самих американцев погибло до 80 тысяч жителей города. Этот акт устрашения не только японцев, ведущих войну с Соединёнными Штатами, но не в меньшей степени он предназначен и для Советского Союза – дескать вы имеете дело с самой технологически развитой военной промышленностью, способной создавать самые устрашающие весь мир виды оружия. Каков будет результат этой бомбардировки, пока неизвестно – капитулируют ли японцы и тем закончится вторая мировая война, – будет известно в ближайшее время, когда японцы оценят размер бедствия. Вы что то хотите сказать, Иосиф Виссарионович? – прервал себя Лаврентий Павлович.
– Лаврентий, не пугай народ. А вы, товарищи, должны знать, что бомба сброшена на Хиросиму в отместку японцам за бомбардировку Пирл-Харбор. Это же война, око за око, смерть за смерть, жизнь за жизнь. Надо это понимать. И американцы не посмеют бомбардировать города нашей страны. Они же не самоубийцы. Мы то же работаем над созданием атомной бомбы, по секрету вам скажу. И некоторые из здесь сидящих знают об этом. И подтвердят наши усилия. Я скажу одно: работа над атомной бомбой вскоре будет завершена. А сейчас прошу вас обратиться к столу и вспомнить о наших победах и поражениях в Великой Отечественной войне.
Раздались аплодисменты. Не бурные, но всё же, полагающиеся, если сказал хоть слово Вождь.
Пьяных донельзя не было. Никто особо не пил. Только Лаврентий Павлович ходил вокруг стола, поблескивая стёклами пенсне и постоянно роняя их с носа себе на грудь. Приставал то к Михаилу Ивановичу, то к Георгию Максимилиановичу. Михаил Иванович жалостливо смотрел на Вождя, просил о помощи разделаться с известным всем супостатом, но Вождь только посмеивался в усы – ничего, ничего, это не страшно пошутить с товарищем. Георгий справлялся сам, игнорировал нападки, а в ответ слышал буд то бы угрозы в тихих бурчаниях в сторону:
– Доберусь и до тебя, друг. Дай только срок. Запоёшь как миленький, наш Маленков, наш маленький Маленков.
Георгий Максимилианович оставался напротив Лаврентия Павловича через стол неподвижной глыбой, непрерывно пьющим и жующим. Глядел на неприятного собеседника отстранённо и непонимающе.
Вождь мог слышать издевательские слова Берии, которые он произносил с расчётом на его уши, дескать знай, Иосиф Вмссарионович, кто у тебя под крылом:
– Что это, мак-си-ме-лья-но-вич, лицо у тебя такое?
– Какое? – односложно спросил Маленков. Не удивляясь вопросу и не намереваясь продолжать общение за столом у всех на виду.
– Может не можется? Может болеешь? Может пьёшь?
– Может и пью.
Георгий Максимельянович проглотил обиду. И всего лишь. А Берия бесцеремонно опершись на его плечи тяжело поднялся и, обращаясь к неразошедшемуся ещё столу, сказал таинственно:
– Товарищи, послушайте что происходит, а вы, а вместе с вами и газеты, журналы, райкомы, горкомы и прочие трудовые коллективы не замечают в СССР перемен. По-видмому, это можно заметить, действительно в Советском Союзе начинаются заметные перемены, какие то новые перемены, какие то новости. – Слова Лаврентия Павловича были бессвязны, оттого непонятны. Смурные лица занятые своим неотложным делом над столом на момент оторвались от тарелок и словно впервые увидели Лаврентия Павловича. А он продолжал, не скрывая своего пьяного состояния – не привык. – Поверьте, я видел много этих людей, которых мы называем политическими и которые исходят от вас в большинстве своём. И все они едут на восток в вагонах окрашенных охрой – и все на восток, на восток …. И что бы кого то возвращали в этих вагонах обратно из Сибири, Колымы или из Якутии – я не видел…. Гм-м, советую вам вести себя смирно. Война закончилась, а это не значит…. Гм-м…. И Лаврентий Павлович рухнул под ноги Георгию Максимельяновичу, потащив за собой скатерть с недоеденной снедью.
Всё было мило и пристойно со стороны Лаврентия Павловича, о чём засвидетельствовал сам Вождь: Такое раз в жизни со всяким может случиться. Такое пережить и не напиться? Война пережитая от самого начала и до победного конца. Такое и случилось. К тому же эта атомная бомба над которой работает вплотную товарищ Берия – нервы на пределе, могут лопнуть. Вот и лопнули. Не до конца лопнули, но, всё-таки, надорвались.
7
Как только из – под стола извлекли Лаврентия Павловича, Вождь поблагодарил присутствующих за присутствие и удалился в свой кабинет, оставив гостей в недоумении поведением человека близкого к Вождю, можно сказать, его сторожевого пса над всеми сторожевыми псами.
Шумел дождь за широким итальянским окном, порывы ветра бросали в стекло потоки воды и в запотевших стёклах чёрными пятнами шевелились деревья. От такой погоды становилось зябко. Захотелось подставить себя теплу. Хотел позвать Власика, что бы организовал такое тепло, но Власик выпроваживал последних гостей, Было слышно как гости шумно уходили, спешили под дождём к своим машинам за большими зелёными воротами – машины гостей на дачу не допускались.
В этом воображаемом дачном тепле холодного лета 1945 года витали победоносные решения, гениальные умозаключения и парадоксальные действия всех правительств мира, победивших фашизм.
Советский Союз в этом деле не был последним и Иосиф Сталин, превративший своё имя в Высшее положение в государстве, тому доказательство. Не в должность, не в чин – в положение в обществе превратил своё имя. Иосиф Сталин! Иосиф Виссарионович Сталин!
– Кто этот невысокий усач?
– Это Сталин!
– И кто он – этот Сталин?
– Я сказал уже, это Сталин.
– Я спрашиваю тебя не фамилию этого усача, а кто он в государстве?
– Он – Сталин! Сколько можно повторять – Иосиф Виссарионович Сталин! Или просто – Сталин! А вы спросите: не бог ли?
– Ага, понял как это надо понимать: Иосиф Виссарионович Сталин!!!
Иосиф Виссарионович что то знал о властвовани враз двух, трёх. четырёх и даже пяти властителей и это наводило его на мысли организовать что то подобное и в Советском Союзе, но только тогда, когда властвовать единоначально будет нельзя по каким-дибо причинам.
Отдать всю власть компаньонам – это решить все проблемы в государстве сохраниением режима. Среди нескольких властителей всё равно будет выделяться, возвышаясь, один и только один. И он, этот возвышенный, всё равно будет править в одиночестве, никому власть не отдаст и будет настаивать в своей правоте во всём, в чём его обвинят. И в конце концов его отстранят от власти, а то и, не дай бог, тихо убьют без суда и следствия.
Иосифа Виссарионовича не интересовала пентархия международного союза из пяти государств, заключённого в 1818 году на Ахенском конгрессе между Россией, Пруссией, Австрией, Францией и Англией и распавшимся в 1822 году.
Пентархия это и система главенств в Единой Вселенской Церкви пяти патриархов – Рима, Константинополя, Александрии, Антиохии и Иерусамлима при главенствующем положении Рима, сложившаяся после четвёртого Вселенского суда в 451 году н. э. Пентархия прекратила своё существование в связи с появлением антикефальных национальных церквей.
И, наконец, правительство из пяти человек по другому назвать нельзя – только пентархия. И такое правительство из пяти лишь человек, правительством никак не назовёшь – сатрапы да и только. Но уже лежало в голове удобно, ворочалось и кололо иголками. Слово то было колючее, как колючки – «пентархия», словно моток колючей проволоки размотался под ураганным ветром и хлестал всех без разбора – налево и направо, не уклониться, не избежать этой плети.
Вождю хотелось что то сказать себе, что то новое, кому ещё не говорил подобного, но голос его пресёкся и застыл. С собой не был откровенен, только перебирал в мыслях кого приблизить к себе не преемником, но в придуманную им пентархию. За окном шуршал по деревьям дождь, было тревожно от недопонимания положения после войны, от предчувствия потери в союзниках друзей и почему, казалось бу, друзья так жестоко обошлись с Японией, сбросив атомную бомбу на их город Хиросиму, не посоветовавшись с ним, как с союзником и другом. Его самолюбие было уязвлено и он вспомнил как в Потсдаме Трумен отозвав его в сторону сообщил ему что то важное и он, выслушав его, не вспоминал об этом важном до самой бомбардировки Хиросимы. Но в этот день вспомнил, как Президент США с непроницаемым лицом сообщил ему государственную тайну США об успешных испытаниях атомной бомбы. Но Вождь не воспринял это сообщение, ему не показалось это чем то особенно важным, а может даже это было провокационным со стороны Трумена, тем более, из дальнего конца зала на них не отрываясь смотрел Черчилль, очень заинтересованно, как бы ревностно, с застывшим выражением лица, которое вот-вот должно расплысться в улыбке от увиденного.
Вождь зажёг свою любимую зелёную лампу и ему сделалось беззащитно в этом умиротворяющеи свете и он уронил руки на стол, прижал к ладоням лицо и потом, отбросив их от лица, стиснул голову до боли и готов был заплакать и не заплакал, сдержался, напрягся от нестерпимой сердечной боли и съёжился, оберегая свою боль от чужого видения. От этого безумного бреда, казавшимся здесь, в Москве, жалобным призраком из того света, здесь, в тихом тёплом кабинете, в котором будто остановилось время. вдруг повеяло холодом смерти и забылись всё воспоминания о прежней жизни – от самого раннего детства, вся жизнь забылась, помнилось только то, что ещё не состоялось. Сердце его грустно заныло.
Всё общество Советского Союза в это время было охвачено порывом послевоенной надежды, вплоть до разработки и принятия новой Конституции, освобождения из тюрем политзаключённых и заключённых за уголовные преступления по первой судимости. У всех было на устах имя Маленкова Георгия Максимельяновича. И Вождь решил начать рассматривать формирование пентархии с сегодняшнего дня и именно с него, с Георгия Максимельяновича. А рядом с ним был Лаврентий Павлович, одиозный властитель СССР и ГУЛага, о чём Вождь не хотел задумываться. Сам Берия имел огромное влияние на Иосифа Виссарионовича и сам Вождь это признавал. Нельзя было не признать его успехов в борьбе со шпионами и диверсантами, в политической борьбе с троцкистами, зиновьевцами и прочими врагами режима. А разведка, а контрразведка? Его успехи были неоспоримы. И дело об атомной бомбе продвигалось семимильными шагами. И Вождь был уверен, атомная бомба у страны будет.
И Вождь заключил в себе, что оба они, и Лаврентий Павлович, и Георгий Масимельянович привлекутся им в пентархию – он не может в настоящее время обойтись без него, как без пугала в садах и огородах и надо терпеть и не быть дураком. А Георгий пусть таким и остаётся, умным и тихим, послушным и примерным для всех. А то, что они не могут быть между собой примирёнными, то пусть так оно и будет – тем и остануться всегда на виду. И это будет хорошо – один пугать до смерти, другой до смерти пугаться.
В это послевоенное время Арсения Петровича внезапно охватило почти религиозное чувство сродни коммунистическим страстям. Он придумал себе пламенную теорию «нового коммунизма».
Арсений Петрович уже тогда, когда ему было всего то 15 лет, казался человеком необыкновенно интересным, прочитавшим в этом возрасте известный когда то труд «Революционное движение в России» и, в связи с этим, признававшимся предшественником нового поколения коммунистов, которых ожидал мир после окончания войны. Но никто не задавался в связи с этим вопросами: Теория «нового коммунизма», созревшая у него в голове нигде не была изложена, ни на бумаге, ни в обсуждениях, ни в изучении в институтах и университетах – она была похожа на шарлатанство Арсения Петровича среди невыспавшейся молодёжи из студентов перед лекциями в учебном заведении какого – нибудь заштатного городка. И он потихоньку оценил вкус водки и знал объём гранёного стакана, гранёного с венчиком или просто тонкого..
Пил из любого, в какой бы не наливали – здоровье позволяло. Пропустит стакан и уже глаза горят, голос твёрже твёрдого, кулаки сжимаются и сам весь как железный. Слушателям ничего не понятно, но слушают не понятное, не отрываясь.
Ещё держал в уме свою теорию «нового коммунизма», ещё готов был злорадствовать над прежними адептами в своих тайных и открытых сборищах под тонкий стакан водки и пирожок с ливером за 5 копеек, но в это самое время его отвратило внезапно религиозное настроение и это настроение привело его к бомжам – местным жителям землянок, тепловых трасс и брошенных разрушающихся домов. А это был уже его крах. И он осознавал это. Он больше не приходил в свою трёхкомнатную квартиру, где осталась его старшая сестра, а отец и мать были репрессированы ещё в 1937 году, будучи преподавателями энергетического института. И баба Люба, взрастившая его, оставалась нянькой за ним с сестрой, и навязанные им соседи оказались милыми людьми из рабочих. Все они по доброму относились к Арсению Петровичу, зная судьбу его родителей. Но это не остановило его и он ушёл бедствовать на волю, в отдалении от родственников и знакомых.
На воле его мечты даже расцвели пышным цветом. «Я славянин! – говорил он каждому, предваряя тем самым тему, о чём может говорить вообще. – И я радуюсь, что в жилах моих течёт славянская кровь. Это предназначение России – славянство. Этому племени принадлежит великая будущность. Россия соединит Европу с Азией, примирит Запад с Востоком. Россия – это такая страна как новая посуда из ГУМа, ещё не принявшая в себя запаха и вкуса незнакомой пищи, как лист белой бумаги, на которой можно написать всё, что угодно, как невспаханная земля – целина, которая ожидает пахоты и томится без обработки».
И у Арсения Петровича разыгралось воображение и с пьяной улыбкой на лице он продолжал: «Я верю, я призван судьбой быть русским Солоном, законодателем нового мира и порядка. Для этого мне нужно овладеть умом одного человека – Иосифа Виссарионовича Сталина и устремить его ко благу людей. А это больше, чем выиграть десяток сражений в Отечественной войне».
И Арсений Петрович почему то проникся любовью и уважением к Вождю вместо просто неуважения, а может ненависти за лишение его родительской любви и вообще за потерянное детство и юность, о чём он начал осознавать и потихоньку перекладывать ответственность за утрату родителей с Генриха Ягоды или Николая Ежова на Иосифа Виссарионовича Сталина. И он прекрасно знал, что умом Вождя ему не завладеть и по своей малоопытности и необученности ему было не понять фобий Вождя. А если, он ещё и не был знаком с ним и случаев знакомства не предвиделось, то влияние на Вождя, как его теория развития общества в «новый коммунизм», загнивала на корню. Ему оставалось только признать своё поражение. И он тихо признал себя не побеждённым, поскольку не боролся с врагами, а просто не победителем. Но вообще то, фигура Арсения Петровича, молодого алкоголика из людей без определённого места жительства, оставалось характерной и для его вновь обретённых людей. Среди них был, кстати, и племянник известного поэта Луговского. Вместе с ним, подверженные, как никак, теории коммунизма, они сочинили письмо, излагавшее учение коммунистов с их точки зрения, в частности, разделу подлежали не только материальные блага, но и свобода, которой пользуются одни с излишком, другие с недостатком и некоторые пребывают даже в рабстве. Это письмо, написанное сжато и энергично они направили в газету «Гудок», откуда ответа не последовало.
Но сама расхристанная жизнь Арсения Петровича, началась в собственной квартире, превращённой в коммуналку властью. после того как были арестованы и канули в Лету их родители, Арсения Петровича и его сестры Ирины, а на освободившуюся площадь были вселена рабочие текстильного комбината. В самом начале той жизни, если началом считать, появление новых жильцов, всю коммунальную жизнь возглавлял сам Арсений Петрович, слывший у сестры и няни просто Ариком. Но овладевая самостоятельно теорией «нового коммунизма», он и присвоил себе эту величественность себе – Арсений Петрович.
Весь тон коммунальной жизни задавал он, коммунист с «новым коммунистическим сознанием». В каком то смысле он был аскет, то есть мало ел, но всё более приобщался к выпивке, как к еде. Можно сказать, что он был вегетарианцем, если ограничить это понятие отказом от мясной пищи. Соли он так же не употреблял и не позволял употреблять сестре и няне, но зато был любитель сахара, считал что для мозговой деятельности сахар необходим людям всех возрастов и в любом количестве. Но сахара было мало и его квартирная коммуна однажды пополнилась спившимся вторым секретарём райкома партии, покинувшим семью Сашей Егоровым, примкнувшим к его коммуне из-за необходимости где то жить, хотя бы проводить ночь во сне. В качестве платы за проживание Саша Егоров делился с Арсением Петровичем выпивкой и сахарным песком. Но пришлось съехать из квартиры сестре Ирине – жить стало невыносимо среди спившегося и свихнувшегося люда. Бабе Любе бежать из квартиры было некуда. И она оставалась, безропотно исполняя все просьбы и повеления Арсения Петровича.
8
Непонятнее всего было то, что Лаврентий Павлович уверяет всякого, с кем заговорит на эту тему, что делает всё по приказанию Вождя. В глаза восхищается, а за спиной всякий раз, как произносят это имя, плюёт, приговаривая в сторону, что бы не услышали лишний раз и не донесли: «Полководец! Белобилетник, а не полководец! Что он себе воображает?»
А сегодня Вождь сказал ему непонятными словами нечто, над чем задуматься стоило:
– Весь мир исполнен горечи и страданий. Начиная с самого детства, с шестилетнего возраста, я не знаю, что такое радость и спокойствие в душе. И не сомневаюсь, что жизнь готовит мне большие неприятности в будущем. Готов ли я к ним? Не знаю.
Сам Лаврентий Павлович уже с конца войны не сомневался в себе, что Вождь ему ненавистен и боялся это как – нибудь обнаружить прилюдно. И, конечно, для него не было секретом, что Вождь знает о его тайных отношениях к нему и, наверное, предпринял все меры обезопасить себя от столь близкого и неприятного существования. Но вот какие это меры, где их искать и как их обнаруженных дезавуировать, заставить Вождя отказаться от мер безопасности против него, преданнейшего цепного пса его жизни и здоровья, его дум и чаяний – было бы и ему спокойней. Ведь и Лаврентий Павлович знал прихоти и возможности, самые низкие, не только своей команды, но и самого Вождя. Они не смогли обойти его. Как они смогли бы обойти, когда все эти расстрельные списки, санкционированные ими, любимыми народом бонзами, находятся у него и не в сомнительных копиях, а в оригиналах за старательной подписью под приказом или под требованием «расстрелять» и чьи то рядом «согласен» и ещё рядом подписи, подписи, подписи согласных расстрелять, рядом с ними, что требовали или приказывали просто «расстрелять». Бывало у самого Лаврентия Павловича сердце сжималось от этих доказательств зверских преступлений, но и быстро отпускало. По мере привыкания дело становилось привычным. Да и сам к этому был немало причастен. Как то даже любопытство проявил, кто же у нас самый, самый из всех? И архивные дела ему свидетельствовали: Генрих Ягода причастен непосредственно к расстрелам 2347 человек. Менжинский – к 76159 человек, Дзержинский – всего лишь к 8291 человека. О, боже! Неужели я расстрелял 86051 человека? Это целый город мертвецов! Но вот каков мой предшественник Николай Ежов! Этот коротышка, этот сексуальный маньяк погубил 681692 человека с сентября 1936 по ноябрь 1938 года, за неполных два года и столько погубил душ! Боже праведный, отведи от меня мою вину. Ведь сколько их, бонз советских, согласились расстрелять этих людей! Взгляни, боже, вот их согласительные подписи: Молотов, Маленков, Шверник, Каганович, Хрущёв и даже Великий Вождь немало присутствует своей подписью. И даже, более чем удивительно, если всмотреться в эту благообразную рожу Михаила Калинина, то и он туда же – расстреливать согласен! Далеко не мало их согласились расстреливать десятками тысяч!