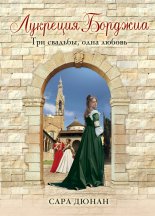Русские хроники 10 века Коломийцев Александр

Тудор вздохнул полной грудью, посмотрел на людей, взиравших на него с ожиданием, без злобы, начал наново.
– Десять лет тому мы с отцом подсекли и выжгли полторы десятины леса за Бобровым ручьём. Три лета сеяли пшеницу и оставили землю отдыхать. На будущую весну думал распахать наново. А ныне боярин Спирк распахал и засеял мою землю. Вот такую обиду учинил мне боярин.
Посыпались вопросы.
– Мы на вашем Бобровом ручье не были, как можем знать?
– Межа-то была?
– А упреждал ли ты боярина?
– Мыто Городу исправно платишь, а, Тудор?
Огнищанин переступил с ноги на ногу, обернулся к степени. Податной старшина, упреждённый о споре, ответил утвердительно.
– За прошлое лето всё уплатил, недоимок нету.
Вслед за старшиной, не дожидаясь дозволения говорить, подал голос ответчик. Отделившись от кучки бояр, стоявших наособицу от жителей у степени, Спирк ткнул пальцем в огнищанина. Одет боярин был не в пример истцу – в скарлатную ферязь, на ногах синие юфтевые сапоги, да и говорил без смущения, напористо.
– Не верьте ему, людие! Врёт он. Тиун мне всё обсказал. Закупы мои на Бобровом ручье три лета пашут. Тудоровой земли там с воробьиный нос, полдесятины не станет. Тудор этот в том сельце самый ледащий мужик, так мне тиун обсказывал, всё глядит, чтоб на дармовщинку прожить. Тиун хотел с ним миром уладить. Дак ему, вишь, охота дармовой земли прихватить.
– Ты, боярин, слова-то попусту не меси. Ты дело говори, – одёрнули Спирка с Неревского конца.
– Вот я и обсказываю, как дело-то было. Бобровый ручей к моей вотчине ближе, чем к сельцу. Всякий толковый человек со мной согласный будет, удобней, чтоб пашня одна была, а не лоскутами. Тиун Тудору взамен земли на Бобровом ручье отмерил моей земли ближе к сельцу. И ему удобней, и мне. А он, вишь, хитрец какой – полторы десятины у него было.
– Ну а ты, Тудор, что скажешь? Почто правду утаил? Дал тебе боярин земли? – строго спросил тысяцкий.
– Что рядом с моей земля боярина, то верно. Так между нашими пашнями межа была, а тиун боярский велел закупам запахать её. Я про то тиуну говорил, и соседи мои тоже ему говорили, да он не слушал. У меня видоки есть, со мной на вече пришли. И что землю мне тиун взамен дал, тоже верно. Дак он чё дал-то? Та земля тощая, не родит пшеничку-то, глина там голимая, и не полдесятины, а полторы моих было. В том дымом родным клянусь. Я на такой обмен не согласный. А правду я рёк или лжу, пускай видоки скажут.
Вперёд вышли три людина, сняли кукули, поклонились.
– Да то рази видоки! – выкрикнул Спирк. – Такие же ледащие мужики, что и Тудор. Стакнулись они. По ендове мёду Тудор выставил, в чём хошь поклянутся.
– И не срам тебе, боярин, меня позорить? – к Спирку повернулся сивый дед, поглядел с жалостью на боярина, словно тот страдал неизлечимой хворью, принуждавшей говорить напраслину. Зажав под мышкой посох, протянул вперёд руки. – Гляньте, людие, руки мои – одни мозоли. Это я-то ледащий? Мне отец, помирая, наказывал Правь славить, так я и весь свой век прожил. Тудор всё верно обсказал. Десять лет тому подсекли они с отцом лес на Бобровом ручье, три лета пшеницу сеяли, а потом отдыхать землю оставили. И межа там была. А три лета тому боярин Спирк привёл нового тиуна, коий в рядовичах у боярина, потому как собака того слушает. Пёс – он и есть пёс. В то же лето закупы боярина лес на Бобровом ручье подсекли и устроили пашню. А ныне тиун межу запахал и землю Тудорову захватил. А взамен дал полдесятины, а не полторы, как у Тудора на Бобровом ручье было. А земля та худая, пшеницу родить не будет. Я весь свой век землю пахал и хлеб ростил, потому знаю. Дымом своим в том клянусь, а ежели лжу рёк, то пускай меня Перун родией рассечёт и громом в землю вобьёт.
Оба других видока подтвердили слова старика, поклявшись в том. Тысяцкий огладил бороду, громогласно вопросил:
– Что решим, людие? Кому поверим?
Большинство держало сторону Тудора, но и Спирка поддерживали. Кто-то, надрывая горло, зычно вопил:
– Боярину верим! Знамо дело, у смердов глаза завидущие, боярину ковы чинят!
От Неревского конца вышел старшина, обернулся к вечу.
– Дозвольте сказать!
Неревский конец ответил согласием, остальные не перечили.
– Я тако, людие, мыслю. Старый человек, – старшина показал на седого видока, – врать не станет, ни за гривну, ни за ендову, потому как ему в Навь скоро собираться. А коли по той земле первыми топор и плуг Тудора прошли, то земля его. Чтоб вдругоряд неповадно было, урожай с того, что на Тудоровой земле посеял, пускай Спирк Тудору отдаст. А чтоб чужих межей не запахивал, назначить боярину виру в пять гривен, как в нашей Правде записано.
Боярин взъярился, даже ногой притопнул.
– Не дело говоришь, старшина! Такого в Новгородской Правде не писано, чтоб урожай отдавать. Эдак расповадятся бездельники. Они лодыря будут гонять, а потом боярина на вече потянут. Грабёж это, не по правде.
– Ишь ты, про правду вспомнил! – раздался ехидный голос, другой добавил: – Загребать чужое не будешь. Сам бы пахал, на чужое не зарился бы.
Боярин слюной брызгал, на своём стоял.
– С тиуном разберусь, мыто Городу заплачу, а урожай вот ему, – Спирк свернул два кукиша, – не отдам.
– Согласны ли со мной, людие? – спросил старшина. – Спирка проучим, другим вотчинникам в науку пойдёт.
– Согласны! Быть по сему!
Одобрительные выкрики, слившись в единый гул, заглушили возражения… Прежде, чем вернуться к своим, старшина погрозил боярину.
– Гляди, Спирк! Мытники придут, проверят и межу, и как волю Города исполнил. Гляди же, строго спросим.
Добрыга глядел на башню, перстом торчавшую над Детинцем, тын, опоясывавший крепость, собирался с мыслями. Не старшина он, не боярин, тягостно ковачу, что привык к немногословью в корчинице, перед всем городом на виду речь держать. Споры о градских делах слушал вполуха. Вслушиваться стал, когда бирич Тудора выкрикнул. Город отнёсся к огнищанину благожелательно, это успокоило, обнадёжило. Но тут же подумалось: дело Тудора не касалось жителей, а он о деньгах просить станет. Вот огнищанин с сельчанами покинул площадку перед степенью, вновь выступил вперёд бирич.
– Жители новгородские! Просит дозволения держать слово славенский ковач Добрыга. Просьбы от посада у него.
Площадь ответила согласием.
– Знаем Добрыгу, не пустобрёх. Пускай говорит.
Добрыга вышел к степени, снял кукуль, поконился в пояс, как положено, огляделся. Жители стояли не толпой, но располагались по порядку: Загородье, Людин конец, Неревский, Славно, пригородки. Ох, не любо было ковачу стоять вот так, под сотнями устремлённых на него взглядов, вести речи многословные. Привык он, чтобы речи вели плоды трудов его, там и без слов всё понятно.
С выбором своего старшины вече согласилось сразу, нужда есть – так выбирайте. О мостовой клади начался спор. Сперва выяснили, исправно ли платят славенцы мыто Городу. Препоны чинили загородцы.
– У нас половина улиц не мощёны, а мы заулки в посаде мостить зачнём! – кричали с левого края площади.
Возражали и известные люди, привыкшие, что к их словам прислушиваются и втуне не оставляют.
– Перед моим вымолом кладь менять надобно, прошлым летом ещё говорено, – прогудел именитый новгородский гость Будята.
В ответ среди неревских послышались смешки:
– У тебя гривен хватает, сам поменяешь.
Будята огрызнулся.
– А ты в чужих кошелях куны не считай, в своём заведи. Я по закону требую.
Славенцы правильно назначили выборного. Не имелось среди них ни бояр, ни людей нарочитых. Добрыгу же в городе знали как искусного мастера, коий товар свой сбывает без обмана, по ценам справедливым. Что из его рук вышло, то добротно, надёжно, стало, и слово его весомо.
Добрыга вновь заговорил:
– Жители новгородские, сами видите, Славно наш растёт, места у нас много, люди с охотой к нам переселяются. Ваши ж родичи, дети у нас селятся. Несколько лет пройдёт, и не посад у нас будет, а конец градской. Скоро иноземные гости у нас свои вымолы ставить будут, дворы держать. Стыдно Городу станет, коли по его улицам весной да осенью не то что пеши, на телеге не проедешь. А ведь враз всё не сделаешь. Мы ж не просим все улицы и переулки сразу замостить.
Уломал таки хытрец новгородцев. Постановило вече: мостить Славно, для начала две улицы – Рогатицу и Лубяницу.
Глава 10
1
На хозяйстве остались сыновья и старая Гудиша. Сам с женой и дочерьми, похватав каши с молоком, доднесь отправился на покос – ворошить, сгребать сено. Утренние заботы – подоить, отправить в стадо корову, управиться со свиньями, курами легли на Гудишу и сыновей. Близилась пора жатвы, за ней и молотьбы, а старые житные ямы совсем запаршивели. Одолел препротивнейший жучок, от коего было одно спасение – копать новые ямы.
Работа предстояла тяжёлая и нудная. Голован осмотрел тупицы – нет ли трещин в деревянных лопастях, крепко ли сидят железные насадки. Тупицы пребывали в исправности, но под ногами вертелся кот, не ко времени возжелавший почесать спинку. Кота Голован пнул. Житовий, приглаживавший пальцем пробивающиеся усики и с усмешкой наблюдавший за маетой младшего брата, молвил непонятное:
– Было б тебе, Голованко, с вечера перевесища в лесу поставить.
– Это ещё зачем? – спросил настороженно брат, чувствуя подвох.
– Глядишь, лешего б поймал. Сейчас бы запрягли ямы копать, сами бы в тенёчке полёживали.
Голован фыркнул.
– Гляди, как бы он тебя самого не запряг, – тут же поддел старшего брата: – Усища-то, усища у тебя выросли, что у того таракана, что за печкой живёт.
– Ладно, кончай зубоскалить, давай копать.
Гудиша управлялась в избе, приглядывала за малым. В полдни вынесла внукам едомое. Те вошли в материковую глину, упрели. Завидев бабушку, побросали тупицы, скорёхонько уселись за жердяной столик, набросились на пареную репу, кашу. Сама Гудиша похлебала простокваши с крошками, села на чурбачок, подпёрла голову сухонькой ладошкой. Серчала Гудиша. Ладилась сходить по ежевику, а сынок по-своему решил. Она вроде бездельницы, вроде совсем никудышней стала. Ноги ещё ходят, бегом не побежит, а потихоньку, полегоньку и до Искоростеня добредёт. Соседка вчерась полный буравок ежевики принесла. Где брала ягоду, не призналась, может, её, Гудишины места надыбала. Вот же придумали, дома сидеть. Могли бы малого с собой на покос взять. Уже и смородина поспела, там и малина пойдёт, за ней тёрен, боярка, груши. Узвар все уважают, дак он сам собой не изготовится. Дома просидит, кто всего припасёт? Млаве некогда, дома забот полон рот. Девчонки, что ли, насобирают?
Внуки захихикали с набитыми ртами. Старая не заметила, как от досады принялась ворчать в голос. Гудиша шумнула на весельчаков, забрала грязную мису, ушла в избу проведать заснувшего внучонка. Братья прилегли в тенёчке. Голован поворочался, поднялся.
– Мухи лезут, покоя нет. Пойду, искупнусь.
– Воды холодненькой из копанки принеси.
Житовию лень было идти на речку, но освежиться хотелось.
Голован поставил ведро на землю, в воде плавали несколько яблок. Выловив прихваченную попутно поживу, бросил пару яблок старшему брату. Житовий вонзил зубы в брызнувший кипенным соком плод, от кислого вкуса, наполнившего рот, свело скулы.
– Гляди-ко, опять от батьки попадёт. Почто незрелые рвёшь? Семя ещё белое.
– А ты почто незрелые ешь? Ишь, как хрумкаешь.
Жмурясь, Житовий сжевал яблоки, кислинка приятно освежила. Споро поднявшись, ухнув, опрокинул на себя ведро воды.
– Лепота-а! Ну, давай за работу.
Голован между тем уже занялся младшим братишкой, после сна выбравшимся на волю. Выучившись передвигаться самостоятельно, то на двух, то на четырёх конечностях, Млад познавал огромный, необъятный, полный загадок мир. Опираясь на ручонки, малыш сидел у крылечка, наблюдая за сновавшими между травинок муравьями.
– А ты что бездельничаешь, Млад? Вишь, все трудятся. Мы с Житовием ямы копаем, бабушка обед готовит. Один ты посиживаешь. Давай-ка, землю таскай, старые ямы засыпай.
Млад посмотрел на строгого брата круглыми глазёнками-пуговками, деловито протопал к куче свежей земли. Озабоченно посапывая, постоял, набрал горстями подсохшую на солнце глину. Та тут же высыпалась из раскрывшихся ладошек. Всё же детская головёнка кое-что соображала. Возле крыльца лежал глиняный черепок, будто специально предназначенный для перетаскивания сыпучей земли. Посмотрев, как, сбросив комочек глины, Млад заглядывает на дно ямы, Житовий попенял шутнику:
– Гляди-ка, свалится ненароком, достанется тебе. А ну как зашибётся!
Голован уже и сам был не рад собственной придумке. А ну и вправду сверзится да шею свернёт, много ли малому надо. Словно почуяв опасность, грозившую несмылёнышу, во дворе появилась Гудиша, увела внучонка глядеть цыпляток.
Житовий, не дожидаясь, когда у балагура заговорит совесть, трудился во все лопатки, только комки глины отлетали. Голован почесал затылок, спрыгнул в яму, поплевал на ладони, взялся за гладкий, отполированный держак. Заступ с натугой входил в плотную глину с белыми ветвистыми прожилками. Пласты отламывались небольшие, в два-три вершка. Голован выпрямился, присвистнул. В соседней яме появился брат с недовольной личиной.
– Чего тебе?
– А наперегонки слабо?
– Это с тобой-то? – Житовий презрительно фыркнул. – Давай!
– Думаешь, усы, как у таракана, вырастил, так побьёшь меня? Как бы не так!
В нудной работе появился азарт. Горяч был Голован. В свои пятнадцать лет уж ничего не боялся, ни работы, ни кулачек, лишь тягомотины не выносил.
2
У ворот Желан спешился, ввёл кобылку во двор, похлопал по влажному крупу, ехал потихоньку, а упрели оба. В горле пересохло. Лошадь напоил в Песчанке, сам утолять жажду тёплой водой не стал, дотерпел до дома. На шум выглянула Млава, вынесла из погреба сулею холодного кваса. Из-за ограды окликнул сосед. Желан со всхлипом осушил в два приёма потаковку, отдал пустой ковшик жене. Пролившийся квас приятно охладил подбородок, грудь. Желан утёр потное лицо рукавом, обойдя сушившиеся на горячем червеньском солнце новые житные ямы, подошёл к тыну.
– Где был? Жито глядел? – спросил сосед.
– Глядел, – кивнул Желан.
– И чё выглядел?
– Ячмень жать пора, жито подходит, полбе постоять с седмицу.
Сосед сдвинул на лоб кукуль, поскрёб затылок. На разговор подошла Гудиша.
– Чего затылки скребёте, мужики? Жито-то думаете жать? Червень на исходе. Ждёте, пока зерно посыплется, – заметила раздражённо.
– О том и толкуем, мама, – почтительно ответил сын.
– О чём толковать? – проворчала старуха. – Идите к Торчину, он верное слово скажет. Сейчас требы Роду, Велесу да Стрибогу соберу, и ступайте. Богов восславьте – и жать зачинайте.
Продолжая ворчать, Гудиша ушла в избу. Желан, готовившийся через год-другой обзавестись внуками, оставался для престарелой матери всё тем же своевольным пострелёнком, норовившим всё сделать сам. «Сам» получалось не всегда ладно, и потому по сю пору мать не уставала наставлять сына, у коего уж соль на висках выступила.
Прихватив требы, соседи отправились в святилище. Жатва заботила всё сельцо. Но как приступать к важному делу, не потолковав с мудрым волхвом, не восславив богов? Потому у берёзовой рощи близ священного студенца собралось всё взрослое мужское население Ольшанки. Желан с Чюдином примостились с краю лавки.
– Торчина-то нет, что ли? – спросил Желан.
– Пусто, ни в избушке, ни у родника. Ни Торчина, ни Студенца, ни Зоряны, – словоохотливо ответил сивый дед, благодаря большой, арбузообразной голове получивший в зрелые лета прозвище Головко. – С чем к волхвам пожаловали?
– Жито убирать пора бы. Зачнём, да как заненастится, – раздумчиво произнёс Желан. – Сам-то как мыслишь?
– Я-то? Я-то так мыслю. Завтра в поле выходить надобно. Вёдро долго простоит. Однако требы надобно и Роду, и Велесу принести, да и Стрибога не забыть. Богов восславить и приниматься.
– Богов славить – то само собой.
Жара спала, от берёз пролегли тени. У реки протяжно промычала корова, сообщая хозяйке, что вымя полнёхонько. В сельце прогорланил очнувшийся после жары петух. Ответно кукареканью в роще переполошились сойки. Дед поднял голову.
– Вот и волхвы возвертаются.
На поляне между избой – жилищем волхвов – и крытыми навесами, где сушились травы, появились три фигуры: седовласый старец, поддерживаемый под руку молодым парнем, и круглолицая румяная женщина. Все трое несли буравки с травами: в одних лежали жёлто-зелёные колоски, в других – стебли с длинными продолговатыми листьями.
Людие дружно поднялись, поклонились.
– Здрав еси, Торчин, и ты, Студенец, и ты, Зоряна!
Волхвы поклонились ответно.
– Здравы еси и вы, добрые люди.
Женщина забрала буравки у парня, старика.
– Ну, вы беседуйте, я пойду травы разложу.
– Иди, Зорянушка, иди, – ласково промолвил старик.
Потворница жила тут же, в избушке-полуземлянке у родника. Жилище её являлось своеобразной корчиницей, но изготовлялись в нём не плуги, не клинки из харалужной стали, а целебные снадобья. Сушились же травы под общим навесом.
Зоряна ушла, людие сложили требы на стол в общую кучу. Дед Головко, опираясь на посох, молвил, обращаясь к седому волхву:
– Требы принесли Роду, Велесу, Стрибогу. Пора жатву зачинать. Что скажешь, Торчин?
Волхв, подслеповато щурясь, прошёлся тёплым взглядом по лицам жителей, кивнул удовлетворённо.
– Не забываете богов, то добре, и боги будут к вам милостивы. Зачинайте, братие, жатву. Вёдро до середины зарева простоит. Потом Стрибожьи чада налетят, тучи нагонят, дожди прольются. Но ненастье недолго продержится. Перун-громовик родии метнёт, опять вёдро настанет. Выходите завтра на жатву, поспешайте, как раз успеете до ненастья управиться, – старец обернулся к молодому своему ученику, похлопал по плечу. – Ну-ка, Студенец, обскажи людиям, о чём беседу с тобой вели.
Волхв сел на лавку среди потеснившихся мужиков, подбодрил взглядом стоявшего перед ним Студенца. Парень смущался, вынужденный говорить при многолюдстве, потеребил поясок, несмело посмотрел на наставника. Это был ещё один урок, преподаваемый старцем. Будущий волхв должен уметь вести речи с людьми. Встретив добрый взгляд учителя, Студенец приободрился, заговорил:
– Облака редко идут, да всё с полночной стороны, да кучерявые все. Луна яркая, без мути. Светляки горят, хоть собирай да в избе имя свети. Жучок с ладони на палец перелез и кверху полетел, всё к долгому вёдру.
Закончив речь, Студенец с робостью посмотрел на мужиков, опасаясь смешков.
– Молодец, – похвалил Головко, сказал доброе слово и Торчину: – Добре парня учишь. В Навь уйдёшь, есть кому в святилище сменить.
Головку самому близился путь на санях, потому упоминание об уходе в Навь не звучало бездушно.
Торчин встал, сутуля согбенную спину.
– Что ж, братие, идёмте на требище, восславим богов наших милостивых.
Людие с готовностью поднялись, потянулись гуськом за волхвом.
3
Отец с сыновьями укладывал снопы в копёшки, мать с дочерьми в тенёчке у телеги расставляла на ряднушке едомое. Разбирая снедь, Млава тихо улыбалась. Добрая семья у них с Желаном получилась. И у него помощники подросли, и у неё помощницы. Ишь, как дружно работают. Голован с Житовием всё силушкой меряются. Да только чует материнское сердце: скоро расставаться со своими помощницами придётся. Из-за телеги донеслась песенка:
- – И говорило
- Аржаное жито,
- В чистом поле стоя,
- В чистом поле стоя:
- Не хочу я,
- Аржаное жито,
- Да в поле стояти,
- Да в поле стояти.
Заринка, голенастая, нескладная юница, вот только едва ноги волочила, посидела чуток в прохладе, кваску испила, и уже за метеликом гоняется. Млава посмотрела внимательно на старшую дочь, чистившую луковицу. Что-то не нравилось ей в Купаве. Меняется прямо на глазах. То песню запоёт, то с братьями перешучивается, а то, как тучка на солнышко найдёт, насупится, пасмурнеет и молчит полдня.
– Что сумная, донюшка, ай недужится? Так сказала б, дома бы оставили.
– Здорова я, мама, – Купава быстро глянула на мать, взгляд отвела, помолчала, молвила: – Другое у меня. В Дубравке парень есть, Здравом зовут, – произнесла быстро, на одном дыхании.
– Что ж он за парень, тот Здрав? Давно ли спознались?
Млава лукаво посмотрела на запунцовевшую дочь. Та с жаром принялась объяснять, какой хороший парень тот Здрав. Но, объясняя, говорила совсем не то, что ожидала услышать мать.
– Мы ещё зимой, на святки спознались. Его боярский рядович Ляшко на кулачках побил. Так что с того, что побил? Все наши парни сказали – Ляшко не по-честному бился. Ляшко злой, а Здрав добрый.
– Так ты потому за Ляшка и идти не захотела? – перебила мать.
Купава оттопырила нижнюю губку.
– Не пойду за нелюбого. Мне Здрав люб, и я ему люба. Сам на купальских игрищах поведал, – Купава помолчала, шумно дыша, и, сердито посмотрев на мать, выпалила: – Отдайте меня за Здрава!
– Да чего ж не отдать, коли любы друг дружке? – засмеялась Млава. – Поговорю с отцом. Жатву закончим, копы на гумно свозим, пускай приезжают, мы к ним съездим, поглядим. Хорошая семья, так чего ж не отдать? А то, может, погодишь ещё лето?
Купава опустила голову, проговорила сквозь готовые брызнуть слёзы:
– Ныне пойду!
Заринка уже занималась важным делом. Нашелушив в ладошку зёрен из колосьев, подняла к небу полную горсть и, изображая взрослых жниц, приговаривала:
– Род! Ты, который снабжал нас пищей, снабди и теперь нас ею в изобилии.
Млава, и радуясь за дочь, и уже горюя о неотвратимой разлуке с родным дитятей, повторила:
– Поговорю с отцом. С жатвой закончим, пускай приезжают, сватаются. Мы к ним съездим, тогда и порешим.
Разложив на холстине репу, огурцы, хлеб, улыбнулась по-доброму.
– Свозим копы, пойдём с тобой в лес, надерём корья с дичек, ольхи, покрасим тебе понёвы, сорочицы, убрусы.
Подбежавшая Заринка спросила обиженно:
– А почему понёвы Купаве красить? Я тоже в крашеных хочу ходить.
Млава засмеялась.
– Да как же без тебя? И тебе покрасим, лада моя.
Напившись квасу, утирая усы, Желан молвил довольно:
– Урожай ныне добрый, колос полный, тяжёлый. Однако, сам-четвёрт, а то и сам-пят будет.
Взглядом приструнил сыновей, по своему обыкновению пихавшихся из-за места, сотворил молитву перед трапезой:
– Силой родных богов и трудов людинов пища пребывает, тела и души Дажьбожьих внуков благословляет, стремлением святости освящая. На добро и счастье детям Сварожьим, пищу имея, требу даём, Роду великому славу творим! Слава Родным Богам!
Глава 11
1
В больших святилищах, где богов славят не у священных дерев или студенцов, а у капей, не один, не два, полдюжины, а то и десяток и более волхвов обретается. И у всякого волхва своё особое дело. Одни требы вершат и время стерегут, чтоб и Ярилин, и Перунов день, и всякий иной в отведённый срок справить, те священный огонь блюдут, чтоб не гас огонь до положенного срока, да было бы чем питать тот огонь. Есть среди волхвов и кудесники, и кобники, и целители, и старцы-кощунники. В святилищах же у студенцов, священных дерев, где славят богов жители какого-нибудь малого сельца, несут службу один-два, много три волхва, на коих наваливаются все заботы.
На полях шла жатва, но и волхвы не сидели без дела. Сбор целебных трав, кореньев начинался в месяце сухый, едва снег сойдёт, и длился до зазимков, завершаясь в паздерике. Сена скотине косить и то умеючи надобно, чтобы трава силу набрала, да не перестояла, силу свою не потеряла. А уж всякое былие для зелий собирать – и подавно ухыщрение надобно. Одни травы собирают весь день, лишь роса высохнет, другие далеко после полдни, когда жара спадёт, третьи цвести начнут, да полную силу имеют при нарождающемся месяце. Одни силу имеют в травне – кресене, а иные набирают её лишь в зареве, а то и рюене. И за сушкой догляд надобен. Зелие не сено, всё подряд в копёшку не сгребёшь. Одни сушатся помаленьку, полегоньку, в тенёчке, на сквознячке, а другим жар надобен, иначе, коли скоро не высушить, целительная сила уйдёт. Потому в избушке-землянке Зоряны иной раз и в жаркие дни печь от зари до зари топилась. Корневища мяуна сушат на вольном ветерке, потом на тёплой печи, пока не побуреют и не пойдёт от них дух, от коего кошачье племя с ума сходит. Клубни же кукушкиных слёз, из отвара коих в немочного человека силы вливаются, и вольно сушат, и бурливым укропом обваривают, и на тёплой печи досушивают. Высушенные травы, коренья надобно по сумам разложить, да не смешать, не спутать. Есть такие травы, коими по бестолковости можно не оздоровить болящего, а ранее срока в Навь отправить. За всем догляд и догляд надобен.
Мало собрать да высушить травы. Чтоб польза от них была, настои и отвары из них делают. Отвары готовить – не репу парить: надобно наговоры знать. Для несведущих людей те наговоры – волшебство. Целители и потворницы ведают: нет волшебства, а есть ухыщрение. Ведают, да хранят в тайне. Неумелый, несведущий человек и с наговорами никудышнее зелье изготовит, или того хуже, такое снадобье сварит, от коего болящий не оздоровит, а на санях покатится. Одни наговоры короткие, другие длинные, не всякий человек все слова запомнит. Одни наговоры глаголят борзо, другие – нараспев. Всякое зелие свой наговор имеет. Мало тот наговор ведати, уметь глаголить надобно. Скоро протарабанишь, целительная сила в травах останется, в отвар не выйдет, мешкотно пробормочешь – паром уйдёт. Без хытрости ничего не сделаешь. Дар к хытрости боги дают. Чтобы из дара хытрость взрастить, труды и труды потребны, иначе божий дар зачахнет, как нива в засуху. Зоряне и боги дар свой дали, и трудов потворница не пожалела, потому и хытрость обрела.
Моления и требы – то лишь малая часть трудов волхвов. Людие много от них ждут. Люди заранее проведать хотят, успешно ли начинание какое будет, или ждёт их неудача. Каков урожай соберут, ненастное ли лето выдастся или жаркое, зима морозная придёт или мягкая, скотина будет ли плодиться, да как пчёлы себя поведут. Про всё то боги знаки подают. Не шепчут в уши, но особо извещают знающих людей. Всё волхвы примечают. Как черёмуха цвела, да сколько орехов уродилось, сколько комаров, мошек расплодилось, когда дуб распустился, как конь белый бежит, как лист с берёзы и дуба падает, как птицы летят. Потому ведают, и каким нынешний год будет, и каким будущий, удача придёт или беда. А чтобы знать то всё, примечали волхвы божьи знаки с досюльщины, с тех пор как пришли славяне на Непр-реку, Ильмень-озеро, реку Мутную. Примечали и на особых дощечках памятными знаками записывали.
Не только травы собирали волхвы летом. Дрова для священных костров заготавливали. Для тех костров не всякое дерево годилось. Сосна, ель, осина не идут. Для священного костра дуб надобен, любимое древо Рода, Перуна. Трудился на заготовке дров Студенец. Людие помогали вывозить дрова к святилищу, но приходилось парню всласть трудиться топором.
2
Не прошло и седмицы с молений об урожае, когда ольшанские жители собирались в святилище, одолел Торчина неизлечимый недуг, прозванье коему – старость. Не помогают от сего недуга ни волшебные отвары, ни целебные настои, ни примочки. Не рассчитал сил старец, походил со Студенцом по лесу, и вот – ни ноги не ходят, ни спина толком не гнётся, да и тело ослабло, духу не хватает десятка шагов сделать. Да как рассчитаешь те силы, коли знаешь: скоро, ох, скоро кататься тебе на санях. Всё хочется, и на солнышко ясное налюбоваться, на приволье луговое, цветущие долы, рамень зелёную наглядеться, птах наслушаться, воздухом надышаться. Не страшился Торчин смерти, пожил на своём веку, и всё же жаль, жаль Явь покидать. Что ноги устали по земле ходить, то полбеды, кровь остыла, и уже едва-едва струилась по жилам. Кровь остыла, и мёрз Торчин и ночью, и днём. Ночью лежал под овчиной, засыпал под утро, днём, сидя на лавочке, отогревался на солнышке. Иной день сидел просто так, подрёмывая, в другой раз брал пятиструнные крыловидные гусли. Напевал, скорее, бормотал, про Матерь Сва, про Ладу, как носила она долгие годы в своём чреве златокудрого бога-громовика, про победу Правды над Кривдою. Иной раз на переливы гуслей с верхотури, с вершины тонкоствольной берёзы отзывалась сопелью златопёрая пичужка. Торчин теперь уж и не видел той пичужки, но заслышав её: «Фью-люу-люю! Фью-фью-фью!» – ясно представлял птаху в золотящих солнечных лучах. Вот ведь творенье Сварога небесного! Как разобьются на пары те пичужки, насвистывают на весь лес. У самца оперенье за версту приметное. Любой хищник подходи, бери. Ай не тут-то было! Гнёздышко совьют на самой вершине. В развилке из веточек подвесят махонькое перевесище, никому не подлезть. А как от воронья отбиваются! Скоморохам такого не представить. Сами в нынешнем травне видоками были. Повадились две вороны гнёздышко стеречь. Мало ли какой случай выпадет. Невмочь станет самке на яйцах сидеть, а самец не подоспеет, вот и пожива. Поглядит-поглядит самочка на ворон – и давай муженька высвистывать. Муженёк прилетит, сядет на веточку, на ворон смотрит. Смотрит-смотрит да и зачнёт представление. Самец зачнёт, самка поддержит. Такой ор подымут, хоть уши затыкай, хоть беги, куда подале. Словно негодники-сорванцы кошек наловили, да не одну, не двух, а с полдюжины. Наловили, хвосты бедолагам прищемили, те и орут на все голоса. Не выдержат вороны воплей, кои даже их, вороньи уши, к карканью привыкшие, раздирают, и улетят восвояси. Зоряна тоже не выдерживала. Завидит вороньё и просит Студенца прогнать поскорей. Самой и смешно, и слушать невсутерпь.
– Это как же такая махонькая пташка по-таковски вопить приловчилась!
Во всех тварях божьих смысл есть. Знатно потрудился Сварог небесный. Всякие птахи, рыбы, звери, не говоря о людях, на свой лад сотворены. Сотворил Сварог людей всякого на особицу, а заповедал любить друг дружку, жить в мире, без раздоров. Знают люди заповеди божьи, ведают, что любо богам, что нет, да не могут мирно, ладком ужиться. Да кто не может-то? Ходила ли когда Ольшанка на Дубравку, или Городня на Ольшанку? То князья без походов жить не могут. Добро б только на степняков или ромеев ходили. О тех речи нет, так со своими же русичами бьются.
Грелся Торчин на солнышке, подрёмывал, на гуслях поигрывал, прошедшую жизнь обмысливал. Сколько себя помнит, богам служил и людям. Учил людей богов, Правь славить, правду от кривды отличать. Для самого себя и дня единого не прожито. Потому уходил Торчин в Навь без страха, чист он перед Сварогом. Может статься, оглядит Сварог небесный Торчинову жизнь и возьмёт к себе в Ирий.
Зоряна, приготовив едомое, уходила в лес, на луга. Собирала душицу, пустырник, горец, красную травицу, копала коренья кукушкиных слёз. Студенец же заготавливал дрова. Пищу для священных костров наготовил, жители с жатвой управятся, привезут. Но и для себя надо озаботиться. Зима длинная, без дров скучно станет. Возвращался в святилище под вечер голодный, потный, усталый.
3
От натруженного мужского тела исходил терпкий запах. Зоряна поливала воду в подставленные пригоршни, лила на лохматую голову, смеясь, опрокидывала берестяной черпачок на лоснящуюся потом спину. Студенец потешно вздрагивал, гоготал довольно. Четвёртое лето не касалась Зоряна мужской плоти. Глядела на Студенца, усмехалась про себя. Экий парнище вымахал, а бестолковый, как телок. Неужто не манят женские ласки? И не стара она вовсе, на сколько лет всего и старше? Или не глянется ему? Так и знакомств с жёнами и девами не водит. Или боится её? Видно, строга чрезмерно. Неужто так и пройдёт её век, и не познает того, что богами жёнам назначено? Сколько раз видела, как счастьем светятся материнские глаза. Неужто не познает она того же, не прильнёт к груди, не загулькает, не забулькает её кровиночка, её дитятко? Прав мудрый Торчин. Рады ей люди, почёт оказывают. Да ведь и ей хочется того же, что все жёны имеют. Чтоб мужик стиснул, приголубил, и чтоб дитятко своё, родное у неё было. Лучше б доченьку. Уж она бы её всему обучила.
Студенец, не дождавшись очередной порции воды, поднял голову. Зоряна стояла, прикусив губу.
– Ты чего? – молвил и осёкся, встретив странный взгляд женщины.
От того взгляда огнём полыхнуло в груди. Студенец сапнул, пробормотал запинаясь:
– Ты чего… глядишь так?
Зоряна усмехнулась, вылила оставшуюся воду, подала убрус, взгляд не прятала. Студенец словно впервые увидел натянутую на груди сорочку, сочные, что спелое вишенье, губы.
– Солнце сядет, стемняется, выходи. Пойдём в поля.
Обтёршись, Студенец отдал убрус, глянул в глаза, молвил с замиранием:
– Торчину тяжело ходить, видит едва. Под руки вести придётся.
Зоряна едва не расхохоталась.
– Вдвоём пойдём. Траву особую покажу, при месяце собирают.
– Ладно. Торчину всё ж скажу, может, тоже соберётся.
– О-о! Не говори ничего Торчину. Стемняется – и выходи.
Сияние молодого месяца мягко ложилось на вершинки копёшек. Сами копёшки чернели кучами. Миновали одну, другую. Зоряна остановилась, велела:
– Сними снопы, сложи на землю.
Студенца охватило нетерпение, накалывая в темноте руки, снял снопы. Зоряна набросила ряднушку, спустила с бёдер понёву. Горячие руки повлекли Студенца.
– Иди же, иди, любый мой. Заласкаю, зацелую.
Трижды уводила Зоряна молодого волхва в поле. На вторую ночь Студенец спросил:
– Почто на поле ходим? В твоей избушке не увидит никто.
– Понести хочу. Понести хочу, потому и вожу тебя на житные копы.
С тех ночей изменился Студенец. Куда подевалась робость и смущение. Мудрый Торчин всё понимал, всё примечал и относился благосклонно к ночным отлучкам своего ученика.
Жито сжали, копы свезли на гумна. Велеса не забыли, остатние колосья связали бородкой, пивом полили. Мужики готовились к молотьбе: ладили цепы, деревянные лопаты, проверяли напоследок житные ямы, выжигали кострами притаившуюся по углам сырость. Вечерами по дворам зачастила Зоряна. Вчера рудый повой потворницы мелькал в Дубравке, сегодня в Ольшанке заглядывала в один двор, в другой. Время шло к осенним свадьбам. Семью создавать – крепко обмысливать надобно. Молодым горя мало, через костёр попрыгали, в кустах помиловались, глядишь, уж «любушкой» да «любым» друг дружку зовут. А ежели прабабка парубка, про которую он и знать не знает, родной сестрой прабабке «любушки» приходилась? Тогда как? Что за дети пойдут? – с червоточинкой. Потому не простое у Зоряны было дело – родню до пятого колена перебирать. Что ольшанцы меж собой, что дубравинцы, давно перероднились. Потому ольшанские парни искали жен в Дубравке, а дубравинские – в Ольшанке. Брали жён и из Городни, но своих дочерей и ольшанцы, и дубравинцы за городнянских отдавали редко и с большой неохотой. Боярин Брячислав мало-помалу прибирал селище к рукам, вольных смердов в сирот обращал. Кто пожелает неволи своему чаду? Зоряна и родство выясняла, заодно проведывала, согласны ли родители дочь за такого-то парня отдать. Матери тоже не теряли времени зря. Про всё надо вызнать: что за дивчина, работяща ли, покорлива, скромна ли или своенравна, сварлива, да на всякое слово огрызается. Не шутка чужого человека в семью принимать.
Пришла Зоряна и во двор к Желану. Купава завидела гостью, убежала к телушке, репья из хвоста выбирать. Насмешник Голован хохотнул:
– Ай, сестрица, дела себе не найдёшь?
Купава оставила телушку, ушла к воротчикам. Но и тут не стоялось. Подумала: «Увидят – сразу поймут, чего жду. Опять засмеют». Схватила метлу, принялась двор мести. Дождалась, вышла Зоряна из избы, усмехнулась потворница уголками губ.
– Жди гостей, девонька.
Купаве враз и радостно сделалось, и насмешек опасается. Голову пригнула, ещё шибче мести принялась.
Глава 12
1
Как и прочие жители Дубравки, Борей с Златушей были ведомы Желану с Млавой. Встречались на Красной Горке, на игрищах меж сёл, молениях. Знакомы были, но дружбы не водили, по праздникам не гостевали. Но пересекались волшебные нити жизни, сотканные Макошью-матушкой.
Меринка Борей не распрягал. Ослабил подпругу, узду, привязал к тыну, бросил охапку травы. Меринок помотал головой, отгоняя привязавшихся по дороге оводов, поглядел на хозяина, принялся лениво жевать. Обычно в Ольшанку ходили пеши, но сегодня был особый случай. Златуша, дожидаясь мужа, поглядывала через калитку во двор, стараясь сохранить на лице безразличие. Для повидавшей жизнь мужатицы, у коей детки своих деток заводить собрались, одного взгляда на подворье хватит, чтобы понять, что за семья тут обитает. Стоит ли с ней родниться или лучше бежать отсюда без оглядки и сыну заказать, чтобы и думать не думал неряху-грязнулю в дом приводить.
Ради торжественного случая оба супруга обули праздничные лапти, плетённые с подковыркой и ремнём. Борей оделся обычно, в чистое, не ношеное. Златуша принарядилась: надела синие бусы из трубчатого стекла, красную понёву, вышитую сорочицу из бели с бубенчиками на рукавах. Бубенчики же и коники с закрученными хвостами украшали кожаный поясок. Голову покрыла синим повоем.
На шум и собачий лай вышла Млава, отворила воротчики. Гости поклонились хозяйке. Борей, сжимая в правой руке кукуль, левой разгладил усы, кашлянул в кулак, спросил, дома ли хозяин. У них вот дело есть до обоих, сесть бы ладком да обсудить неспешно.
– Дома сам, на гумне, – ответила Млава. – Так идёмте ж в избу, а я самого кликну.
За избой, в затишке Купава с Заринкой под присмотром бабушки крутили жернова, ссыпали намолоченную муку в берестяной короб. С гумна доносился перестук цепов. Завидев гостей, Купава прикусила губу. Заринка, округлив глаза, посмотрела на сестру. С первого взгляда будущая невестка Златуше понравилась. Всё успела отметить – и работой дева занята, и засмущалась, знать, скромна. Млава проводила гостей в светлицу, усадила на лавку, убежала за мужем. Стук на гумне стих. Житовий, отвернувшись к скирде, смеялся в кулак. Желан качал головой. Голован, сморщившись, тёр покрасневший лоб. Млава сердито посмотрела на мужа и старшего сына.